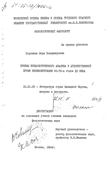Содержание к диссертации
Введение
Глава I Произведения Дж.Р.Р. Толкиена и К.С. Льюиса: проблема повествования и жанра С.33
1. Миф, сказка, фэнтази в критических работах Толкиена и Льюиса С.ЗЗ
2 Феномен фэнтази и его оценка в современном литературоведении С.53
3 Новый тип повествования: предшественники Толкиена и Льюиса С.82
Глава II Поэтика иносказания в творчестве Дж.Р.Р. Толкиена и К.С.Льюиса С.100
1. Специфика мифотворчества Дж.Р.Р. Толкиена и К.С. Льюиса С. 100
2 Категории художественного пространства и времени в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена и К.С. Льюиса С.122
3 Особенности героя и сюжета в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена и К.С. Льюиса С.149
Заключение С. 186
Библиография
- Феномен фэнтази и его оценка в современном литературоведении
- Новый тип повествования: предшественники Толкиена и Льюиса
- Категории художественного пространства и времени в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена и К.С. Льюиса
- Особенности героя и сюжета в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена и К.С. Льюиса
Введение к работе
Дж.Р.Р. Толкиен и К.С. Льюис входят в разряд писателей, чьи произведения, при наличии значительной популярности в самых различных кругах читателей, представляют собой во многом не до конца исследованный феномен в литературоведении. В советскую эпоху они замалчивались по причинам главным образом идеологического характера, а позже — по уже установившейся традиции — критики относили их к сугубо развлекательной литературе прежде всего на основе тематики. В англоязычном литературоведении дело обстояло иначе. И Толкиен, и Льюис занимают там особое место, являясь по-своему знаковыми, репрезентативными фигурами. Однако внимание исследователей концентрируется, как правило, на тех аспектах их произведений, которые относятся к сюжетно-содержательной стороне, оставляя в стороне формально-жанровую.
В данной работе основное внимание будет уделено именно ей. И "Властелин Колец" Толкиена, и такие крупные художественные произведения Льюиса, как т.н. "космическая трилогия" и "Пока мы лиц не обрели" выделяются тем, что сопротивляются включению в" традиционную формальную систему жанров. Самым распространенным ходом обычно является отнесение их жанру романа. Другой возможный вариант — активное использование термина "фэнтази" применительно к данным книгам, и , прежде всего, к "Властелину Колец". У обоих подходов есть ряд недостатков, которые необходимо принять во внимание, чтобы адекватно определить место данных книг в современной литературной ситуации. До сих пор в литературоведении отсутствует сколько-нибудь законченная формулировка понятия "фэнтази", равно как и доказательства, что "фэнтази" относится к разряду не беллетристики, а "большой литературы". Зарубежные исследователи предпринимали подобные попытки, но опирались при этом фактически только на авторитет Дж.Р.Р. Толкиена, активно использовавшего этот термин в своем эссе "О волшебных сказках".
И здесь встает вопрос о правомерности использования данного термина по отношению к вопросу о жанровой принадлежности произведения. В оригинале действительно стоит слово fantasy — "фантазия". В переводе эссе, выполненном С. Кошелевым ("Текст", 1991), была использована именно данная калька. Это затруднило восприятие термина с точки зрения его применения непосредственно в сфере литературной критики, ведь слово "фантазия" ассоциируется у нас скорее с психологией, чем с литературоведением. Соответственно, употребление термина "фэнтази" по отношению к жанровой принадлежности того или иного художественного произведения представляет собой следование англоязычной традиции. Следует отметить, однако, что некоторое время даже в англоязычном литературоведении термин "фэнтази" по отношению непосредственно к литературным произведениям применялся исключительно в кавычках.
Если же говорить о "фэнтази" как о разновидности романа, то здесь следует выделить две проблемы. Первая из них касается важных терминологических различий, которые не всегда учитываются в русскоязычной критике, но которые при этом являются конститутивными в английском литературоведении. Речь идет о терминах "novel" и "romance". "Novel" обозначает произведение, подчиненное задаче объективного, целостного изображения жизни и наиболее близкое традиционному значению слова "роман" в русском языке. "Romance", напротив, весьма далек от такого подхода к изображению действительности и в данном случае существенное значение приобретает занимательность, насыщенность авантюрными поворотами, активизация фантастического начала и т.п. В русском языке ему соответствует довольно громоздкое словосочетание "романтический роман", которое сравнительно редко используется. Возможно, именно поэтому в русскоязычном литературоведении господствует своего рода унификация, когда произведения и Уолпола, и Диккенса обозначаются одним и тем же термином. В свою очередь, изменения, которые произошли в самой сфере романа в XX веке, и появившиеся в результате этого новые повествовательные формы еще более усложняют классификацию.
Прежде всего следует выделить несколько моментов, которые необходимо принять во внимание, говоря о произведениях Толкиена и Льюиса. Речь идет об изменении жанровой природы романа и о целом ряде тенденций, присущих его развитию непосредственно в XX веке, а также и о причинах их появления.
Говоря о романе, необходимо отметить, что как литературный феномен наиболее полно роман охарактеризовал М.М Бахтин. В статье "Проблемы содержания, материала и формы в словесном искусстве" он выделяет следующие важнейшие признаки данного явления. Это, во-первых, сравнительная молодость романа по сравнению с другими большими жанрами (письмом и книгой, по терминологии Бахтина) и, во-вторых, его незавершенность. Поэтому вполне закономерны утверждения о том, что роман не имеет устоявшегося жанрового канона и, следовательно, "исторически действенными" оказываются только "отдельные образцы романа, но не жанровый канон как таковой"(37, 392). Отсюда Бахтин делает вывод о том, что " роман — это единственный становящийся жанр среди давно готовых и частично уже мертвых жанров"(37, 393). Кроме того, роману присуща и своего рода универсальность. Он "предвосхищал и предвосхищает будущее развитие всей литературы" (37, 396) В настоящее время рассуждения Бахтина о романе уже давно приобрели статус аксиомы, но при этом они продолжают сохранять актуальность. Особенно это касается тех случаев, когда речь идет о месте романа в традиционной системе жанров. Далеко не всегда исследователи, при всем уважении к авторитету Бахтина, готовы всерьез принять в расчет его утверждения о принципиальной жанровой незавершенности романа. Именно поэтому так важна фраза о жанровом каноне. По сути, она указывает на еще одну конститутивную черту данного жанра: невозможность унификации романа, приведения его к общему знаменателю, то есть к строго определенному набору признаков, применимых к любому образцу жанра. Отсюда — вполне закономерный вывод, который делает Бахтин: "Теория литературы обнаруживает в отношении романа полную свою бесполезность" (37, 396) и "на проблеме романа теория жанров оказывается перед необходимостью коренной перестройки" (37, 397).
С этой точки зрения интересно рассмотреть вводную часть статьи Т.Н. Денисовой "Новейшая готика (о жанровых модификациях современного американского романа)". В ней автор, говоря об образцах современного американского романа, считает необходимым опереться на традиционное понимание данного жанра как унифицирующего понятия. Оказавшись во вполне закономерном затруднении — единого определения романа нет и быть не может, — Денисова выделяет "три константных признака жанра": композиционное или сюжетное единство, наличие триады автор — рассказчик — герой и развернутый хронотоп. Поскольку и эти признаки не обладают исключительно романным характером (а могут относится, например, и к повести), автор статьи признает, что "такая атрибуция не является нормативной" (42, 62) и останавливается на эпичности как "стабильном продуктивном признаке романа", понимая ее "не как масштаб охвата и синтеза, но как... органическое ощущение социума" (42, 66). Почему "органическое ощущение социума" может дать только роман, остается неясным. Таким образом, работа, вопреки намерениям автора, иллюстрирует те трудности, с которыми приходится сталкиваться исследователю, воспринимающему роман как статичный жанр.
В скобках отметим, что сомнению может подвергаться не только легитимность устойчивой и однозначной формулировки жанра романа, но и само понятие "жанр". Наиболее радикальное отношение к данной категории выражено Ц. Тодоровым. В своей монографии "Введение в фантастическую литературу" (1973) Тодоров утверждает, что в современной литературной ситуации лишь к массовой литературе ( детективы, романы с продолжением, научная фантастика) может быть применимо понятие жанра в его традиционном содержании — как совокупность имеющихся признаков {25, 5). С собственно литературными текстами дело обстоит иначе. Согласно позиции Тодорова, в области искусства или науки каждое новое произведение лишь тогда может претендовать на самостоятельное значение (или на право принадлежности к категории жанра), когда оно изменяет существовавшее до него представление о данном виде (жанре). Во всех остальных случаях (если какое-либо произведение лишь иллюстрирует и подтверждает уже имеющиеся каноны), его следует безоговорочно отнести к области беллетристики (если это художественный текст) или учебных пособий (если текст научный).
Итак, на основании исследований различных литературоведов роман можно истолковывать как особое явление, обладающее универсальным характером и непрерывно развивающееся. Фактор непрерывного становления романа приобретает особое значение именно в контексте литературы XX века, когда данный жанр претерпевает коренные изменения. Если в предшествующие литературные эпохи градации внутри романа (romance или novel) имели под собой достаточно четкие критерии, то в XX столетии различия между видами романа во многих случаях стираются, давая начало новым образованиям. Поиски новых форм повествования, начатые модернистами, постепенно приводят и к появлению не употреблявшихся ранее синкретических форм. И, хотя по утверждению Д. Затонского, художественную форму нельзя отождествлять с литературной техникой (51, 23), эксперименты, проводимые с романом сначала в рамках модернизма, а затем постмодернизма, привели к тому, что в литературоведении заговорили об антиромане. Его сторонники, французские писатели 50-70-х гг. 20 в. (Натали Саррот, А. Роб-Грийе, М. Бютор, К. Симон и др.), провозгласили технику традиционной повествовательной прозы исчерпанной и попытались разработать приемы бесфабульного и безгеройного повествования. Закономерно, что объектом отрицания в постмодернизме стал не только роман, но также и реализм и сам принцип мимесиса. Весьма характерно при этом, что второй принцип, сформулированный Аристотелем, катарсис, частью также остался за бортом писательских интересов, а частью подвергся пародированию.
С другой стороны, мы не можем сказать, что жанровая традиция, обозначаемая термином "novel", окончательно исчезла с литературного горизонта. Однако и она претерпевает изменения. Одним из вариантов ее дальнейшего развития, по мнению таких исследователей, как Р. Скоулз, Р. Келлог и Д. Лодж, может стать литературно переработанная автобиография. Другой возможный вариант тесно связан с журналистикой и приближается к технике литературы факта. Примером может служить роман Тома Вулфа "Костры тщеславия". Автор, лидер школы "нового журнализма", в своем эссе "Охота на миллиардноногого зверя" утверждает, что будущее романа — это скрупулезная достоверность, основанная на технике репортажа. Характерно, что, несмотря на столь значительное внимание к конкретным фактам, роман Вулфа вольно или невольно выходит за рамки сугубого документализма. Заглавие на языке оригинала — "The bonfire of vanities"— оставляет возможность и другого прочтения— "Сожжение сует". Это выражение, принадлежащее флорентийскому монаху XVI века Иерониму Савонароле, имеет непосредственную связь с содержанием романа и выводит его на качественно иной уровень повествования. Иначе говоря, достоверность (возможно, неожиданно для автора произведения) уступает место притче. Здесь также можно вспомнить и рассуждения А. Моравиа о важнейшей роли аллегорического (или метафорического) романа в литературе второй половины нашего столетия.
Итак, можно сделать вывод, что в XX веке появляется и приобретает особую актуальность роман неканонического типа. Для него характерна особая изменчивость формы, дающая возможность сочетания самых различных жанровых особенностей в рамках одного произведения. Отсюда — появление своего рода промежуточных образований, объединяющих в себе жанровые формы не только художественного, но и нехудожественного повествования. В англоязычном литературоведении в употребление вошел термин "non-fiction novel" В русскоязычной критике используются такие сочетания, как " документальный роман", "роман-реконструкция", "роман-исследование", "роман-миф" и многие другие. И за каждым из них стоит тщательно разработанная структура, которую зачастую действительно нельзя назвать иначе. В качестве примера можно привести "Правосудие" (роман-исследование) Дюрренматта или "Хазарский словарь" (роман-реконструкция) М. Павича.
Последний иллюстрирует еще одну тенденцию в рамках современного романа — его сближение с научным текстом. Большей частью это происходит на уровне литературной игры. Автор сохраняет такой признак словаря, как фрагментарность, оставляя за читателем свободу выбора: книгу можно читать слева направо, справа налево или по диагонали. "Каждый читатель сам сложит книгу в одно целое, как в игре в домино или в карты, и получит от этого словаря, как от зеркала, столько, сколько в него вложит, потому что от истины... нельзя получить больше, чем вы в нее вложили". Это отвечает основной мысли книги: "Чем больше ищешь, тем больше получаешь; так и здесь счастливому исследователю достанутся все связи между именами этого словаря". В самом деле, сюжет оказывается разбит по словарным статьям, объединенным в три книги, соответствующие трем мировым религиям. Таким образом, один и тот же эпизод может излагаться дважды или трижды, каждый раз с иной точки зрения, получая при этом дальнейшее развитие. И только при вдумчивом чтении всех словарных статей можно получить полное представление о сюжете, который, несмотря на специфику изложения, представляет собой единое целое.
Роман-миф следует выделить в отдельную категорию. Первоначально он получает мощный толчок к развитию в начале XX века в творчестве Дж. Джойса и Т. Манна. С развитием мифологизма и как художественного приема, и как мироощущения, по выражению Е.М. Мелетинского, он также претерпевает ряд изменений, которые можно проследить и в творчестве данных писателей. Если сначала использование мифа не выходит за рамки служебной функции ("Волшебная гора"), то затем "переход от мифологических параллелей к мифологическому сюжету способствует тому, что миф используется не только как метафора личной психологии.., но и истории" (65, 331). В " Улиссе" Джойса и "Иосифе и его братьях" Т. Манна перед нами повествование, где миф пронизывает всю поэтику произведений. Позже поэтика мифологизирования легла в основу концепции магического реализма, разработанной латиноамериканскими писателями — Габриэлем Гарсиа Маркесом, Алехо Карпентьером и др. Форму романа-мифа использует Дж. Апдайк в "Кентавре". Несколько с иных позиций к ней обращается К.С. Льюис в книге "Пока мы лиц не обрели". Его подход к мифу лишен иронии, присущей, по мнению Мелетинского, мифологизму XX века, в отличие, в частности, от предшествующего столетия. Стоит отметить и подробную разработку культурно-мифологической основы в произведениях такого рода. Роль мифологической детали (порою реконструированной или вновь созданной исходя из логики повествования) настолько важна, что иногда исследователи получают возможность говорить о высокой степени жизненной убедительности того или иного романа-мифа.
Тем не менее, роман неканонического типа имеет тенденцию отхода от жизнеподобия и актуализации различных форм открытой условности. Усиливается ироническое отношение ко многим методам и приемам бытописания. Дж. Фаулз пишет роман "Любовница французского лейтенанта", где пародирует идеи и художественные приемы викторианского романа, вступая в открытый диалог со своим читателем. Ирония, тем не менее, касается далеко не только художественных ходов литературы XIX столетия. Мифологизму XX века ирония и юмор, по убеждению Мелетинского, присущи изначально, что "вытекает уже из самого факта обращения современного писателя к древним мифам" (65, 329). Мифологизм, однако, предоставляет возможности для развертывания не только пародийных, но и риторических форм повествования.
Феномен фэнтази и его оценка в современном литературоведении
Нашей задачей в данном параграфе будет проанализировать основные определения фэнтази, выяснить, какие новые черты привнесли туда критики, и сделать вывод о правомерности причисления данного феномена к литературным жанрам. Прежде всего, следует отметить, что исходным и главным образцом фэнтази большее число исследователей считает именно трилогию Толкиена "Властелин Колец". О его предшественниках на данном поприще говорится крайне скупо, а последователи также зачастую остаются за скобками. Этому есть серьезная причина. Между образцом и копией всегда существует разница, и она тем больше, чем лучше образец. Только те, кто не столько копирует, сколько использует уже открытые законы и пропорции в своих творениях, могут сравняться с вершиной или даже превзойти ее. Однако для этого нужно, чтобы данные законы были не просто сформулированы, но и применимы к любому материалу. Последователи Толкиена действительно пользуются уже имеющимися закономерностями, которые, как им кажется, присуши фэнтази. Тем не менее, большая часть их творений лежит совершенно в другой сфере, нежели "Властелин Колец".
Также нельзя не отметить и такой момент. Если в англоязычной литературе феноменом фэнтази активно занимаются начиная примерно с 1960х годов — когда трилогия Толкиена вышла в свет и приобрела необыкновенную популярность, то в Советском Союзе работы о фэнтази в целом появляются не раньше середины 70х (а исследования, посвященные непосредственно "Властелину Колец"— на десять лет позже). При этом они остаются заведомо на периферии научного интереса, поскольку произведения фантастической тематики в нашей стране довольно долгое время автоматически причислялась к развлекательной литературе, а значит, серьезные проблемы в ней затрагиваться якобы не могли.
Мы можем выделить следующие основные тенденции в изучении данного явления. Во-первых, авторы по-разному относятся к его степени значимости. Одни считают, что фэнтази пронизывает едва ли не всю мировую литературу, другие, напротив, ограничивают сферу его функционирования рамками фантастики в качестве разновидности science fiction. Был даже предложен термин "ненаучная фантастика", окончательно низводящий подобного рода произведения до уровня развлекательного чтения. Во-вторых, неопределенным остается набор признаков, которые выделяют в определении фэнтази как литературного жанра, равно как и мотивировок этого шага. В-третьих, есть тенденция рассматривать фэнтази как одну (и, по мнению некоторых, наиболее адекватную) форму выражения религиозных взглядов авторов. В качестве примера, как правило, приводятся произведения К-С. Льюиса и — реже— Дж.Р.Р. Толкиена. Здесь мы подходим к следующей особенности — при том, что критики (прежде всего, англоязычные) называют и книги космической трилогии, и "Властелина Колец" фэнтази, они зачастую расходятся насчет позиций самих авторов. В глазах одних только Льюис смог создать книги "христианской фэнтази", в то время, как Толкиен принадлежит к "мрачному язычеству". (Так, в частности, считает, Ч. Мурман). Другие, напротив, утверждают, что именно Толкиен достиг вершины в интерпретации Нового Завета, изложенной в форме фэнтази. Кроме того, сохраняет актуальность и вопрос о предшественниках Толкиена и Льюиса: прослеживать ли истоки фэнтази лишь до конца XIX века, когда появляются книги У. Морриса, лорда Дансени, Э. Эддисона и Д. Макдоналда (позиция Л. Картера) или искать ее корни не только в средневековье, но даже и в античности.
Наконец, важное значение имеет также вопрос о смежных жанрах или художественных формах, таких, как романтический роман и аллегория. Некоторые критики, ощущая неустойчивость фэнтази как жанра, стремятся найти произведениям, написанным или воспринимаемым под этим знаком, другое определение, которое, в свою очередь, смогло бы охватить все их особенности на формальном и художественном уровнях.
Основные определения фэнтази дают такие авторы, как Р. Эванс, Л. Картер, К. Килби, Р. Партия, и К. Менлав. Р. Эванс в своей монографии о Толкиене называет основным признаком фэнтази наличие опасного путешествия — квеста (quest). "Квест— наиболее удачная тема для фэнтази, поскольку он обеспечивает формальную структуру, подсказывающую определенную интерпретацию" (119, 65) Из последней части фразы видно, что сюжет должен, по мнению автора, обладать значительным нравственным потенциалом, который давал бы возможность интерпретаций различного рода.
Следует отметить, что, говоря о фэнтази как жанре и рассматривая его происхождение, многие исследователи берут за основу материал "Властелина Колец" как своего рода классический образец фэнтази. Однако трилогия представляет собой скорее контаминацию различных жанров и стилей, что затрудняет задачу поисков непосредственно признаков фэнтази. Именно поэтому в дальнейшем в среде литературоведов и критиков возникает такое количество разночтений как на счет непосредственно трилогии, так и самого объекта изучения — фэнтази. Так, Лин Картер в своей работе "Взгляд в прошлое Властелина Колец" довольно решительно называет книгу Толкиена fantasy novel. Подобное утверждение нуждается в серьезном обосновании, не говоря уже о том, что само сочетание слов fantasy и novel (то есть роман в его традиционном понимании, связанный с реализмом как художественным методом) вызывает некоторое недоумение. Оставляя за скобками предложенный Л. Картером термин, обратимся к признаками фэнтази, которые он называет.
Прежде всего, автор делает оговорку, что "сама по себе фэнтази как одна из ветвей вымысла не в фаворе сегодня, хотя когда-то она относилась к вполне уважаемой сфере высокого повествовательного искусства"(124, 81). Как мы видим, Картер, во-первых, ощущает второстепенность роли, которую литературная традиция отвела фэнтази в настоящее время, и, во-вторых, подчеркивает большее значение, принадлежащее фэнтази в прошлом. Пока не ясно, какое из значений слова fantasy имеет он в виду — "фантазия" или "художественная форма, основанная на фантазии". Ниже автор предлагает целый список писателей, относящихся к различным странам и эпохам, которые, по его убеждению, "писали фэнтази"(84). Среди них названы Чосер, Гете, Мильтон, Сервантес, Свифт, Шекспир, Вольтер, Байрон, Флобер, Спенсер, Данте и сестры Бронте, а также Стивенсон, Киплинг, Уайльд и Анатоль Франс.
Новый тип повествования: предшественники Толкиена и Льюиса
Говоря о новом типе повествования, необходимо рассмотреть и вопрос о предшественниках. Здесь выделяются два основных момента. Во-первых, с точки зрения образной системы и сюжета следует вспомнить о тех авторах, которые традиционно помешаются у истоков жанра фэнтази. Во-вторых, нельзя не обратить внимания и на тех писателей, чья специфика повествования, состоящая в совмещении внешне развлекательной формы и серьезного содержания, предвосхитила манеру письма Толкиена и Льюиса.
Здесь нам необходимо выделить две тенденции. Одна из них заключается в поисках непосредственных предшественников Толкиена и Льюиса в сфере фантастической литературы. Мы можем говорить о ней применительно к системе образов или художественному материалу. Те критики, которые убеждены в принадлежности книг этих авторов исключительно к фэнтази, обычно на этом и останавливаются. Если же рассматривать "Властелина Колец", равно как и художественную прозу Льюиса, с точки зрения всей литературной традиции, то точку отсчета следует искать гораздо раньше XIX века. Данная тема представляет собой особый вопрос, которому может быть посвящена самостоятельная работа. Учитывая это, мы ограничимся упоминанием тех авторов, произведения которых либо оказали прямое влияние на объекты нашего анализа, либо привлекли внимание других исследователей в качестве непосредственных источников явления, условно называемого фэнтази.
Можно вспомнить уже цитировавшиеся выше рассуждения Л. Картера, который среди предшественников Толкиена перечислял авторов, начиная с античности и заканчивая началом нашего века. Этот список может представлять интерес только в том случае, если нас интересует роль и степень иносказания в их произведениях. Из столь длинного перечня (22 автора) стоит обратить особое внимание на имена Спенсера, Чосера и Ариосто. В своей монографии "Аллегория любви. Изучение средневековой традиции" Льюис уделяет им весьма важное место. "Королева Фей" вызывает его пристальный интерес еше и потому, что ее внутренним стержнем является, по глубокому убеждению автора книги, не банальный политический комплимент, а именно аллегория любви, мастерски развернутая Спенсером. Система оппозиций, предложенная в поэме (естественное // искусственное, любовь // эгоизм и т.д.), в дальнейшем активно использовалась Льюисом в его собственных художественных и теологических произведениях.
Следует также отметить "Путешествия Гулливера..." Д. Свифта. Л. Картер говорит об этой книге, как о сатире. Нас же она интересует скорее как пример аллегорического повествования, вершины которого Свифт достигает в четвертой части романа. Страна гуингнмов и йеху — не просто пародия на человеческое общество. Свифт ставит вопрос шире, пытаясь разобраться в сущности современной ему цивилизации, которая в зеркале иносказания отражается как мир, где лошади умнее и благороднее человека. Именно охват проблематики выделяет заключительную часть романа от остальных. Другой автор, упомянутый Картером, Д. Дефо, в своем романе "Приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка" также приближается к аллегории, хотя и понятой им намного более упрощенно, чем, например Свифтом. Свою роль сыграла особенность проблематики (в соответствии с духом времени требовалось показать потенциальную способность человека честным трудом творить цивилизованный мир заново).
Еще один автор, оказавший на Льюиса принципиальное влияние — Д. Беньян и его роман "Путь паломника". Ему принадлежит особое место в английской литературе именно как примеру "пуританской аллегории", по выражению М. Эделсон. Она же называет "Путь паломника" "верстовым столбом в развитии английской аллегории"(81, 22). Роман Беньяна, тем не менее, представляет собой аллегорию в том ее виде, который в своей условности ближе всего притче. Поэтому читательский интерес к произведению в целом будет обусловлен не столько сюжетом (как и характеры, он весьма схематичен), сколько проблематикой и, в меньшей степени, необходимостью поиска исходной внутренней формы того или иного образа. Этим книга Беньяна и отличается от последующих за ней произведений других авторов.
В середине XIX века сюжет Беньяна был переосмыслен американским романтиком Н. Готорном в своей новелле "Железнодорожный путь в небеса". Она базируется на изначально парадоксальном допущении— тягостный Путь паломника был заменен на первый взгляд удобной железной дорогой, ведущей якобы к Граду Небесному. В свою очередь, Льюис не скрывал, что написал "Кружной путь, или блуждания паломника" как ответ на книгу Беньяна. В оригинале ссылка более заметна: словосочетанию "The Pilgrim s Progress" соответствует "The Pilgrim s Regress" у Льюиса. Сам же прием "моральной географии" — один из основных приемов повествования — оказался весьма популярным в литературе. Нет ничего удивительного в том, что этой традиции следовал не только Льюис в "... Блуждании паломника", но и Толкиен во "Властелине Колец" (из русскоязычных исследователей об этом подробно рассуждает С. Кошелев).
Если же обратиться к источникам не только проблематики, но и поэтики нового типа повествования, представленного художественной прозой Толкиена и Льюиса, то здесь нельзя не упомянуть об "Алисе в Стране Чудес" Л. Кэрролла. Без сомнения, "Алиса в стране чудес" не является в полном смысле слова сказкой, хотя именно так зачастую ее называют. В данном случае нас интересуют два момента: парадоксальность и высокую степень игрового начала. Оба они тесно связаны между собой и вместе представляют собой самую характерную черту поэтики Кэрролла. Сам по себе сюжет достаточно увлекателен, чтобы вызвать интерес к себе читателей всех возрастов. Однако на фоне забавных приключений разворачивается еще более сложная литературная игра, понять правила которой может лишь человек, обладающий интеллектом математика и воображением писателя. После публикации "Алисы в Стране Чудес" и ее продолжения "Алисы в Зазеркалье" делались (и продолжают делаться) многочисленные попытки ее интерпретировать. В некоторых случаях критики стараются подчеркнуть элементы аллегории или социальной пародии в тексте. Вполне закономерно поэтому, что данные попытки не могут охватить всего своеобразия того, что принято называть сказками Кэрролла. Следовательно, они представляют собой гораздо более сложное литературное явление, чем это может показаться на первый взгляд. Однако нельзя забывать и о том, что и парадокс Кэрролла, и правила его игры заметно отличаются от, например парадоксов Честертона, о которых подробнее будет сказано ниже. Подход Кэрролла близок скорее постмодернистам с их стремлением к десакрализации игры и деконструкции мифа. Возможно, именно здесь и кроется стремление рассуждать о скрытой сатире в текстах Кэрролла. Тем не менее, следует признать, что его книги одни из первых в XIX веке демонстрируют особый тип повествования, использующий форму популярной литературы, но одновременно обладающий намного большим потенциалом. В случае с Кэрроллом этот потенциал можно без колебаний назвать научным. Конкретно же соединить художественный вымысел и науку оказывается возможным благодаря разнообразным приемам литературной игры.
Категории художественного пространства и времени в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена и К.С. Льюиса
Категории художественного пространства и времени в книгах Толкиена и Льюиса испытали на себе прямое влияние проблематики этих художественных произведений. Можно сказать, что философские идеи в тексте не являются чем-то внешним, напротив, именно они зачастую "становятся основой образной системы н смысловой наполненности стиля, играют существенную роль в изображении фантастической действительности"(С. Кошелев с. 103). Данные категории также испытали на себе влияние не только эпоса или мифа, но и реалистического романа, что привело к их неоднородности.
Рассматривая специфику художественного пространства, следует выделить следующие аспекты. Во-первых, нас интересует связь принципов его организации с литературной традицией. Во-вторых, важно проследить механизмы смены одного типа пространства другим в рамках одного текста и определить закономерности этой смены. Наконец, важно найти соотношение между пространственной и нравственно-этической категорией в произведениях.
Говоря о литературной традиции, следует прежде всего вспомнить рыцарские романы и романы-путешествия. Именно в рыцарском романе особое значение имеет оппозиция "своего" и "чужого" мира. Еще раньше она проявилась в древнегреческом авантюрном романе испытания. Рыцарский роман, однако, отличается от него тем, что герой, по выражению ММ. Бахтина, в этом мире "дома" (но не на родине), "он — плоть от плоти этого чудесного мира и он — его лучший представитель"(37, 304). Пространство (равно как и время) рыцарского романа дискретно, а подвиги-авантюры объединяются мотивом дороги, нанизываются на нее, как бусы на нить. Дорога пролегает по " чудесному" миру. Данный эпитет следует отделять от прилагательного "чужой": в отличие.от "чужого", "чудесный" мир менее враждебен герою, он скорее дает ему повод совершить подвиг, чем угрожает смертельной опасностью. Именно в этом Бахтин усматривает сходство рыцарского романа с эпосом. Ведь и там путешествие, в которое пускается герой, до определенной степени становится именно предлогом для совершения подвигов. Это, в свою очередь, возможно лишь тогда, когда пространство вокруг сохраняет ряд признаков "чужого" (иначе неоткуда появляться драконам и прочим отрицательным персонажам, принадлежащим, главным образом, потустороннему миру), но одновременно и признает героя "своим".
Сюжет, сконцентрированный на путешествии, вполне закономерно связан с мотивом дороги. Данный мотив сравнительно легко может перетекать в метафору дороги, трактуемой как " жизненный путь, путь души, то приближающий к богу, то удаляющий от него (в зависимости от ошибок, падений героя, от событий, встречающихся на его реальном пути)"(37, 293). Самым ярким примером подобной функции дороги будет сюжет "Парцифаля" Вольфрама фон Эшенбаха. Именно этот мотив становится жанрообразующим в более позднем романе-путешествии. Здесь образ дороги напрямую связывается с приобретением героем жизненного опыта, его духовным взрослением.
Применительно к данным тезисам нас будет интересовать анализ прежде всего "Властелина Колец" Толкиена и "космической трилогии" Льюиса. Роман "Пока мы лиц не обрели" менее показателен, поскольку построен на принципиально ином образе, чем дорога. Сами же трилогии роднит с романами-путешествиями следующий факт: в обеих есть указания на ведение путевых заметок. В первых двух частях "космической трилогии" автор моделирует ситуацию, где рассказчик выступает посредником между героем и читателем, излагая рассказ о путешествии своего друга. Дневник путешествия, таким образом, существует постфактум. Отсутствие же повествования от первого лица (оно заменено несобственно-прямой речью) вызвано необходимостью сохранения дистанции между читателем и героем, в противном случае были бы невозможны мифологические аллюзии.
Во "Властелине Колец" Толкиена также присутствует деталь, которая была бы совершенно невозможна в рыцарском романе и, тем более, в эпосе: путевые заметки. Сначала они упоминаются в связи с прошлым путешествием Бильбо, который пишет воспоминания. Позже, когда Фродо продолжает его приключения, во время краткой остановки во дворце Элронда, Бильбо записывает рассказ племянника и просит вести путевые заметки. Затем о них долгое время ничего не говорится, пока в третьей части, после одержанной победы над Черным Властелином, друзья шутливо предлагают запереть Фродо в башню, чтобы тот записал события, свидетелями и участниками которых они все были. Наконец, в финале Фродо, перед тем, как навсегда покинуть Средиземье, дописывает до конца "Повесть о Кольце Всевластья", начатую когда-то старым хоббитом. Хотя в тексте ни разу не приводится отрывки из этой повести, сам факт упоминания о ней чрезвычайно важен. Он свидетельствует о том, что мир, описываемый автором, — далеко не однороден. Художественное пространство явно выходит за рамки эпической, мифологической или же сказочной модели.
Обратимся же непосредственно к тексту произведений. Своеобразие художественного пространства "Властелина Колец" обусловлено, как уже было сказано выше, его непосредственной связью с центральным конфликтом Добра и Зла. В трилогии это находит следующее выражение. Мир в буквальном смысле слова оказывается поделен на две части, границей между которыми в соответствии с мифологической традицией служат горы с характерным названием Misty Mountains — Мглистые Горы (здесь и далее названия даны в переводе В. Муравьева и А. Кистяковского). С. Кошелев, обращает внимание на то, что география в трилогии Толкиена имеет моральную основу (113, 111). В самом деле, фактически все основные географические названия обладают определенной полярностью, нашедшей свое выражение в названии.
Особенности героя и сюжета в произведениях Дж.Р.Р. Толкиена и К.С. Льюиса
Выше уже отмечалось, что специфика организации художественного пространства и времени во "Властелине Колец" Толкиена тесно связана с сюжетными особенностями повествования. Кроме того, каждому временному и пространственному типу в произведении соответствует и особая группа действующих лиц. Возникает ощущение, что таких персонажей, как эльфы или гномы, можно сразу отнести к мифологическим образам, а людей — к эпическим. Ряд критиков нашел в этом излишнюю схематичность и свидетельство упрощенного понимания сюжета. К.С. Льюис оценил этот факт иначе. В своей статье "Развенчание силы" он заметил, что Толкиен во "Властелине Колец" зачастую избегает тщательной разработки характеров, делая своих героев эльфами, гномами или хоббитами. У подобных воображаемых существ внутренний мир находится снаружи. Они как бы представляют собой зримые души (126, 15). Отсутствие тщательной разработки образа в глазах Льюиса не стало недостатком, а напротив, приобрело статус одного из показателей аллегоричности произведения, что в его собственном понимании было скорее достоинством. Героев "Властелина Колец", таким образом, можно назвать "субъектами этического выбора", по выражению С.С. Аверинцева. Возникает лишь один вопрос: а насколько условны данные действующие лица? Обратимся к тексту.
В трилогии легко выделяются три основных типа центральных героев: мифологический, эпический и сказочный. Но можно ли сказать, что границы между ними взаимно непроницаемы, а сами герои статичны? Рассмотрим предложенную классификацию подробнее. Мифологический тип героя включает в себя образы Гэндальфа, Элронда и Галадриэли. Им противостоят Саурон и подпавший под власть Черного Владыки Саруман. Особняком находятся Том Бомбадил и Золотинка. Они, без сомнения, представляют собой пример мифологических персонажей, однако центральными героями названы быть не могут, поскольку их непосредственная роль в сюжете весьма условна. Если же говорить непосредственно о центральных действующих лицах, то их принадлежность к мифологическому типу, на первый взгляд, не вызывает сомнений. Они олицетворяют собой древнейшие силы добра (Гэндальф, Элронд, Галадриэль) и зла (Саурон и Саруман), обладают магической силой и волшебными предметами (кольцами). Каждый из них является свидетелем всей истории Средиземья. Положительных героев данного типа также можно трактовать и как воплощения определенных стихий (таково, в частности, мнение С.
Кошелева) — эльфийские Кольца каждого действительно соответствуют стихиям воздуха. огня и воды. По всей видимости, стихия земли отдана все же Тому Бомбадилу.
Тем не менее, нельзя не заметить и целого ряда расхождений с традицией. Если говорить о положительных персонажах, то следует отметить, что они подвластны времени и месту действия — Третьей Эпохе. Их судьба, как и судьбы вполне обычных обитателей Средиземья, тесно связана с исходом Войны за Кольцо Всевластья. Кроме того, каждый из них обладает набором качеств, которые характеризуют его как целостную личность, а не символ. Им доступны вполне человеческие чувства: скорбь, сомнения, печаль. Элронд глубоко переживает расставание с дочерью Арвен, выбравшей удел смертных; Галадриэль проходит испытание властью, потребовавшее от нее напряжения всех душевных сил. Однако отрицательные персонажи тоже не являются схемами. Саруман перерождается на глазах у читателей и героев. Логика его поведения ставит мага перед нравственным выбором, определяющим его дальнейшую судьбу. Даже Саурон оказывается способным испытывать колебания и неуверенность.
Особая роль принадлежит фигуре Гэндальфа. В нем постоянно сочетаются черты человека и мага. Он может "ворчать" или "вспылить", окружающие часто принимают его за обычного старика в сером плаще. Важно, что маг привлекает сердца других к себе, не подавляя волю с помощью каких-либо волшебных средств (например, волшебного голоса, как это делает Саруман). "Я ведь любил его не за то, что он маг,"— говорит о Гэндальфе Фродо. Образу Гэндальфа принадлежит особая роль и в организации сюжета. Кроме того, именно маг своими поступками иллюстрирует одну из важнейших нравственных идей произведения — может ли могущество сочетаться с душевным величием.
Эпический тип героя нашел свое воплощение в образах Арагорна, Боромира, его брата Фарамира и отчасти Эомера. Арагорн, по характеристике С. Кошелева, — "блестящий и гордый воин, бесстрашный в битве, знатный по праву рождения, беспощадный к врагам и нежный с друзьями"(112, 91). К этому описанию можно добавить также и его причастность к культу Прекрасной Дамы, реализующуюся в любви к дочери Элронда Арвен, руку которой он получает, лишь доказав свое право на гондорский престол. Иными словами, перед нами — образец рыцарского вежества, зерцало средневековой чести. Но тогда возникает вопрос, зачем Толкиен дублирует этот тип героя, помещая рядом с Арагорном гондорского рыцаря Боромира, обладающего совершенно теми же качествами. Остается заключить, что образ Арагорна гораздо более сложен и многофункционален, чем это кажется на первый взгляд.
Так, в нем сразу можно выделить черты не только эпического, но и мифологического героя. В частности, выделяемый Е.М. Мелетинским эпизод поиска шаманом души в загробном мире нашел свое отражение в сцене исцеления Арагорном раненого: "Лицо Арагорна посерело от усталости, время от времени он призывал Фарамира, но зов его звучал все тише, как будто издалека, будто он уходил в какую-то темную узкую долину, искал того, кто там заблудился". Арагорн силой воли противостоит Черному Владыке, ему подчиняются духи умерших воинов. Увидев его в битве, соратник Арагорна рассуждает: "Я тогда подумал, каким великим, страшным и всемогущим властелином стал бы он, присвоив Кольцо". Черты культурного героя в Арагорне становятся заметны и тогда, когда после долгого царствования он добровольно отказывается от жизни, чтобы уступить место сыну, со словами "Мне дарована не только долгая жизнь, но и право вернуть дар". Кроме того, образ Арагорна может быть соотнесен и с героем волшебной сказки. Из выделенных В.Я. Проппом тридцати одной функции действующих лиц С. Кошелев отвел Арагорну шесть, в том числе и заключительную — "герой вступает в брак и воцаряется"(111, 91).
Сказочный тип героя тесно связан непосредственно с сюжетом волшебной сказки. С. Кошелев относит к нему прежде всего Фродо, поскольку именно он реализует 25 из 31 соответствующих функций (111, 86). Но если, по выражению Кошелева, в начале произведения он "явственно уподоблен" сказочному герою, то с развитием действия в облике Фродо начинают проступать другие качества. До определенной степени они роднят его с героем эпическим, особенно в финале, когда народы Средиземья славят подвиг Фродо и Сэма: "Когда хоббиты приблизились, сверкнули обнаженные мечи, грянули о щиты копья, запели рога и фанфары, и воскликнули люди многотысячным голосом: Да здравствуют невысоклики! Хвала им превыше хвалГ. Но гораздо большее значение имеют те черты, которые характеризуют Фродо как романного героя. Их, в свою очередь, необходимо рассматривать, в тесной связи со спецификой сюжета.
Здесь мы вплотную подходим к вопросу о роли квеста (опасного путешествия) в повествовании. И сказки, и рыцарские романы сохранили различные разновидности квеста, которые в целом сводятся к двум типам: поиски невесты (или завоевание ее руки) и поиски сокровища (понимаемого весьма широко: от живой воды и до Грааля). Поскольку, как уже было сказано выше, композиция "Властелина Колец" в целом испытала на себе влияния квеста, многие исследователи безоговорочно причисляют его к типу romance. По их убеждению, совпадение на уровне тематики является доказательством и жанрового тождества. В качестве примера можно привести статьи Д. Бревера (D. Brewer) "Властелин Колец как романтический роман" ("The Lord of the Rings as Romance") и У.Х. Одена (W. Auden) "Герой квеста" ("The Quest Hero"). Последний автор пошел еще дальше, утверждая, что квест существует как самостоятельный жанр.