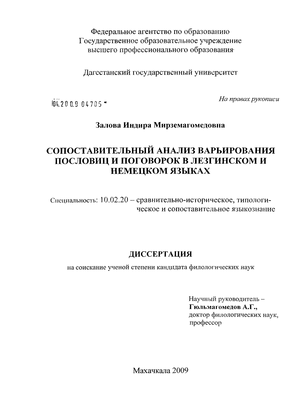Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Пословицы и поговорки как объект фразеологии 13
1.1. О природе пословично-поговорочных выражений и их месте в языковой системе 13
1.2. О разграничении пословиц и поговорок 23
1.3. Состояние исследования пословиц и поговорок в лезгинском и немецком языках 26
1.4. Принципы и приёмы сопоставительного исследования фразеологических единиц 32
Глава 2. Варьирование пословиц и поговорок лезгинского и немецкого языков на языковом уровне 35
2.1. Характеристика основной формы пословиц и поговорок в лезгинском и немецком языках 35
2.2. Образная структура пословиц и поговорок в лезгинском и немецком языках 49
2.3. Варьирование пословиц и поговорок 56 23Л. Лексическое варьирование 61
2.3.2. Фонетическое варьирование 68
2.3.3. Варьирование на морфологическом уровне 70
2.3.4. Структурно-синтаксическое варьирование 85
2.3.5. Варьирование по линейной протяженности 89
2.3.6. Комбинированное варьирование 92
Глава 3. Варьирование пословиц и поговорок лезгинского и немецкого языков на речевом уровне 94
3.1. Замена компонента или компонентов 96
3.2. Вклинивание переменных компонентов 105
3.3. Инверсия 112
3.4. Эллиптированное употребление 113
3.5. Аллюзия компонентов 117
3.6. Преобразование на грамматическом уровне 121
3.7. Двойная актуализация 135
3.8. Конвергенция 13 9
Заключение 142
Список использованной литературы
- О природе пословично-поговорочных выражений и их месте в языковой системе
- О разграничении пословиц и поговорок
- Характеристика основной формы пословиц и поговорок в лезгинском и немецком языках
- Замена компонента или компонентов
Введение к работе
Квалификационные характеристики исследования
В последние годы интерес к фразеологии возрос, о чём свидетельствует большое количество новых публикаций, рассматривающих самые различные вопросы исследования фразеологии.
После трудов В.В. Виноградова [Виноградов 1946, 1977] фразеологические изыскания получили широкое распространение не только в русистике [Ахманова 1957; Архангельский 1964; Шанский 1969; Молотков 1977; Жуков 1986 и др.], но и в отечественной германистике [Амосова 1963; Чернышева 1970; Райхштейи 1980; Кунин 1972, 1986] и романистике [Будагов 1954; Гак 1966; Назарян 1976; Солодухо 1984 и др.].
Позже фразеология, как и вся лингвистика, от описательного этапа развития перешла в разряд объяснительных теорий и концепций [Добровольский 1991: 95].
Вместе с тем, в области фразеологии многие вопросы остаются нерешёнными. Одним из таких вопросов становится и вопрос о фразеологичности «пословиц и поговорок» (в дальнейшем ПП). В настоящей диссертации пословицы и поговорки являются предметом лингвистического исследования, т.е. рассматриваются как составная часть фразеологии.
В качестве параллельного термина для пословиц и поговорок в нашем исследовании считаем возможным использование также термина «паремия», которому отводится роль родового наименования по сравнению с видовыми терминами «пословица», «поговорка».
Термин «паремия» не имеет в отечественной филологической традиции однозначной дефиниции. В лингвистической литературе термин «паремия» определяется как «устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное изречение, пригодное для употребления в дидактических целях» [Савенкова 2002].
В науке существует и еще более широкое понимание термина «паремия», когда он используется в том же значении, что и составной термин
«устойчивая фраза». Например, Г.С. Воркачев в качестве видов паремии называет не только пословицу и поговорку, но и загадку, присловье, афоризм [Воркачев 1996: 17].
Анализ наиболее известных современных литературоведческих и лингвистических справочников указывает на отсутствие в них данного термина «паремия».
Из «Словаря лингвистических терминов» О.С. Ахмановой представление о «паремии» можно извлечь только из статьи «Словарь», где составной термин «Словарь паремиологический» толкуется как «Словарь пословиц и поговорок» [Лхманова 1966: 421]. Таким образом, отсюда можно заключить, что термин «паремия» возможно трактовать как родовое понятие, а «пословицы и поговорки» рассматриваются как видовые понятия. Прямое подтверждение такому понятию термина можно найти и в монографии В.Н. Тслия, где вслед за термином «паремии» следует пояснение в скобках: «пословицы и поговорки» [Телия 1996: 58].
Актуальность предлагаемой темы объясняется, в первую очередь, тем, что вариантность - не только структурно, но и коммуникативно существенное свойство языковой системы. Оно позволяет говорящему/пишущему (осознанно или интуитивно) выбирать из имеющихся в языке или возможных в речи вариантных рядов такие средства, которые в каждом конкретном коммуникативном акте в наибольшей степени соответствовали бы его коммуникативному намерению. Возможность выбора обеспечивает функциональную гибкость и пластичность языковой коммуникации.
Сопоставительный анализ способов варьирования и изменения в таких генетически и типологически различных языках, как лезгинский и немецкий, даёт возможность определить общие и отличительные черты в видах варьирования паремий в сопоставляемых языках.
Как известно, «в результате межъязыкового сопоставления отдельных языковых явлений не может быть выявлена их системная значимость, а также
осуществлена их группировка в определённые реализуемые в коммуникации парадигматические общности. Зато обобщение системы используемых языковых средств, а также набора семантических категорий, получающих регулярное выражение в различных, в том числе неродственных языках, позволяет дать типологическую характеристику их строя, т.е. показать наиболее важные явления всех языков (универсалии), а на их фоне -специфические для больших языковых групп черты, объединяющие языки в различные типы» [Райхштейп 1980: 7].
В то же время сопоставление конкретных языковых единиц в отдельных языковых парах даёт важный материал для более широких типологических обобщений, которые, в свою очередь, позволяют выделить самые глубинные сходства и различия между языками, проявляющиеся, в частности, и в конкретных соответствиях. Необходимость такого сопоставительного исследования может диктоваться не только теоретическими интересами лингвистики, но и практическими целями преподавания немецкого языка в иноязычной среде. Общеизвестно, что усвоение иностранного языка происходит через структуру родного языка, и это неизбежно ведёт к явлениям языковой интерференции, избежать которых можно путём разработки соответствующей методики преподавания на основе сопоставительного исследования структур родного и иностранного языков.
Объектом изучения диссертационной работы являются пословично-поговорочные выражения лезгинского и немецкого языков. Внимание к особенностям функционирования паремий в языке и речи объясняется тем, что пословицы и поговорки являются важнейшим пластом языка, где сосредоточен результат многовековых наблюдений человека за явлениями природы.
Предметом нашего исследования становятся языковые (узуальные, традиционные) варианты пословиц и поговорок лезгинского и немецкого языков, а также типы речевых (окказиональных, авторских) изменений в
грамматическом и лексическом составе паремий, сопровождающих их функционирование в живой речи.
Гипотеза исследования сводится к следующему: предполагаем, что характер вариантности пословично-поговорочных единиц сопоставляемых языков, типы вариантов и закономерности их реализации предопределяются структурной организацией данных единиц. Паремии лезгинского и немецкого языков могут иметь общие моменты в способах варьирования, а также отличительные черты, связанные с различной типологической принадлежностью и разносистемностью сопоставляемых языков.
Цель исследований - представить сопоставительный анализ всего комплекса вариаций и изменений в структуре паремий лезгинского и немецкого языков, определить возможные схождения и расхождения в способах варьирования пословично-поговорочных выражений в лезгинском и немецком языках, а также окказиональных изменений в грамматическом и лексическом составе паремий. Следует особо подчеркнуть направленность настоящей работы на исследование паремий прежде всего лезгинского языка как не имеющего столь длительной традиции изучения паремий. Поставленная цель и гипотеза исследования предопределила решение следующих задач:
а) выявить инвентарь варьирующихся в языке и изменяющихся в речи
пословиц и поговорок в лезгинском и немецком языках;
б) дать сопоставительное описание основной формы паремий, а также
характеристику внутренней формы пословиц и поговорок в лезгинском и
немецком языках и на их основе выявить общие и отличительные черты;
в) описать и сопоставить выявленные способы варьирования и
изменения паремий;
г) обнаружить и описать общее и специфическое в языковом
(узуальном, традиционном) варьировании и речевом (окказиональном,
авторском) изменении паремий сопоставляемых языков.
Научная новизна предлагаемого нами исследования состоит в том, что впервые сопоставительному анализу подвергаются языковые вариантные формы паремий генетически различных и социолингвистически неоднотипных языков, а также устанавливаются виды речевых изменений пословиц и поговорок в текстах художественной литературы. Ыа большом фактическом материале выявляются общие и отличительные особенности варьирования и изменения ПП в сопоставляемых языках. Вопрос о вариантности пословиц и поговорок, т.е. вопрос о вариантности паремий, закрепленных традицией, в лезгинском языке исследовались также мало, как и вопрос об изменении пословиц и поговорок при их функционировании в речи. Выбор немецкого языка для сопоставления объясняется богатой традицией германистики с детальной проработкой многих вопросов, по существу даже не ставившихся в кавказоведении. Анализ пословично-поговорочных выражений немецкого языка в значительной степени выполняет в данной работе функцию своеобразной точки отсчета.
Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что данная работа представляет собой первую попытку сопоставительного исследования в области устойчивых единиц лезгинского и немецкого языков, а именно способов варьирования и изменяемости пословично-поговорочных единиц. Проведённый анализ позволил выявить национальную языковую специфику варьирования и изменяемости ПП сопоставляемых языков. Фактический материал представляет интерес для дальнейших сопоставительных исследований дагестанских и романо-германских языков в области устойчивых фраз. Сопоставительное изучение в теоретических целях дает возможность глубже проникнуть в системы сопоставляемых языков в отдельности, обогащает общее языкознание новыми данными.
Практическая значимость исследования заключается в результатах анализа, которые могут найти применение: 1) в практике преподавания немецкого языка лезгинской аудитории; 2) в практике преподавания лезгинского языка; 3) при чтении спецкурсов и спецсеминаров по
сопоставительной фразеологии в вузе; 4) в практике создания двуязычных фразеологических справочников.
Методологической базой нашей работы служат общепринятые положения современной лингвистики:
язык - общественное явление, наразрывно связанное с историей народа-носителя языка;
язык - это эволюционирующая система, состоящая из подсистем;
паремиология, т.е. совокупность пословиц и поговорок, — микросистема, элементы которой находятся в определенных отношениях с единицами других уровней языка;
синхронное описание языковых систем теснейшим образом связано с обращением к фактам диахронии.
Цель и задачи, сформулированные выше, определили выбор методов исследования. Метод в языкознании «представляет собой подход к изучаемому явлению, определённый комплекс положений, научных и чисто технических приёмов, применение которых даёт возможность изучить данное явление» [Общее языкознание 1973: 58]. Для решения поставленных задач в диссертации использован комплекс методов и приёмов сопоставительного анализа фактического материала разноструктурных языков. В исследовании применялись метод сплошной выборки, описательный и сопоставительный методы. Под описательным методом подразумевается вербальное описание способов варьирования в лезгинском и немецком языках средствами метаязыка, которым для нас является русский язык. Применение сопоставительного метода позволило сопоставить анализируемый материал и извлечь информацию об общих и отличительных признаках варьирования и изменения паремий. Эти лингвистические методы реализуются в рамках общенаучных методов - наблюдения, анализа и синтеза, дедукции и индукции, присутствующих во всякой научной работе.
В диссертации на защит}' выносятся положения, согласно которым различия в типологической принадлежности лезгинского и немецкого языков и традиционно-культурной ориентации народов-носителей этих языков, отражаются на видах варьирования и изменения пословично-поговорочных выражений. Вариантность ПП в сопоставляемых языках тесно связана со структурными и семантическими особенностями исследуемых единиц. Установленные варианты, изменения не произвольны, а являются отражением тех лексико-грамматических изменений, которые могут иметь место в сопоставляемых языках. С точки зрения как структуры, так и семантики, паремии лезгинского и немецкого языков обнаруживают черты как сходства, так и различия.
Материалом исследования послужили три основные группы источников, возможные при сопоставительном анализе — теоретические, лексикографические и текстовые.
Отбор материала производился по лексикографическим источникам: лезгинско-русскому словарю [Талибов и др. 1966]; немецко-русскому фразеологическому словарю [Бинович 1956]; Большому немецко-русскому словарю в трех томах [Москальская и др. 2004]. В целях анализа кодификации вариантов паремий в современной лексикографии были использованы также сборники пословиц и поговорок лезгинского и немецкого языков разных лет издания [Акимов 1991; Вагабов 1961; Гюльмагомедов 1974; Шалагина 1962; Байер и др. 1989; Graf 1960; Miiller-Hegemann 1972 и др.]. Материалом исследования также послужили произведения лезгинской и немецкой художественной литературы. Определенный материал извлекался и из теоретической литературы по общему языкознанию, общей и частной фразеологии, работ отечественных авторов, где содержатся наиболее показательные примеры реализаций пословично-поговорочных выражений [Гюльмагомедов 1975, 1990, 2005; Райхштейн 2004, Козырева 1983 и др.].
Апробация и публикации. Основные положения диссертации были апробированы на заседаниях кафедры общего и сравнительного языкознания Даггосуниверситета, на ежегодных научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава ДГУ. По материалу и результатам исследования опубликовано 8 научных статей, в том числе в реферируемом журнале [Санкт-Петербург 2008].
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы, списка использованных словарей и сборников, списка источников на лезгинском и немецком языках.
Во введении даются квалификационные характеристики исследования: обосновывается выбор и актуальность темы диссертационного исследования, указываются объект и предмет исследования, формулируются цели, гипотеза и задачи работы, определяется её научная новизна, теоретическая и практическая значимость, описываются методы и приёмы исследования, а также основные положения, выдвигаемые для защиты.
В первой главе «Пословицы и поговорки как объект фразеологии» рассматривается природа пословично-поговорочных выражений и их место в языковой системе, уровень исследования пословично-поговорочных единиц в лезгинской и немецкой фразеологии. Прослежена история разработки пословиц и поговорок в дагестанском и немецком языкознании. В этой главе анализируются принципы и приёмы сопоставительного исследования ФЕ.
Во второй главе «Варьирование пословиц и поговорок лезгинского и немецкого языков на языковом уровне» даётся также общая характеристика пословично-поговорочных выражений лезгинского и немецкого языков с анализом структурной и внутренней организации сопоставляемых единиц, а также рассмотрены паремии лезгинского и немецкого языков на предмет наличия их языковых (узуальных, традиционных) вариантов в существующих словарях и сборниках ПП. В работу вводится материал по обоим языкам, выявлены варианты на различных языковых уровнях,
устанавливаются сходства и различия в видах узуального варьирования ПП сопоставляемых языков.
Третья глава «Варьирование пословиц и поговорок лезгинского и немецкого языков на речевом уровне» посвящена сопоставительному анализу окказиональных (речевых, авторских) вариантов пословиц и поговорок, а именно выявлению и анализу трансформировавшихся паремий в лезгинской и немецкой художественной литературе.
В заключении подводятся основные итоги и суммируются общие выводы, полученные в ходе исследования.
Диссертация завершается списком использованной литературы, списком использованных словарей и сборников, списком художественной литературы на лезгинском и немецком языках.
1 ">
О природе пословично-поговорочных выражений и их месте в языковой системе
Исследование пословично-поговорочных выражений привлекает к себе постоянное внимание учёных многих стран. Однако подход исследователей к изучению ПП зачастую различен. Это разнообразие подходов к исследованию данного явления определяется тем, что природа пословично-поговорочных выражений разнопланова. Пословицы и поговорки, или паремии (паремия - от греч. paroimia - мудрое изречение, сентенция, пословица и поговорка), являются объектом изучения различных областей науки. С одной стороны, пословично-поговорочные выражения относятся к фольклору, т.е. представляют собой вид устной народной поэзии и являются единицей паремиологической, т.к. представляют собой небольшие тексты, художественные миниатюры, кратко и лаконично обобщающие факты действительности. С другой стороны, ПП - явления языка, устойчивые фразы.
В XIX веке, а также в начале XX века в исследованиях как отечественных, так и зарубежных авторов данные единицы изучаются с точки зрения фольклористики. Все учёные этого периода говорят о народности пословиц по происхождению и употреблению, подчёркивают их назидательный характер. Об этом свидетельствует, например, утверждение выдающегося русского фольклориста и мифолога А.Н. Афанасьева:
«Пословицы и поговорки сливаются со всеми другими краткими изречениями народной опытности и суеверия...» [Афанасьев 1983: 27].
Пословицы и поговорки - универсальное явление. Именно этим объясняется тот факт, что они подверглись изучению на материале разных языков. Как явления фольклора пословицы и поговорки изучались также такими известными отечественными учёными, как Ф.И. Буслаев f 1861], В.И. Даль [1957, 1984], Г.Л. Пермяков [1970, 1988], А.А. Потебня [1930]. Пословицы, по мнению Г.Л. Пермякова, «при всей своей видимой простоте представляют собой весьма непростые образования» [Пермяков 1970: 9].
Своеобразие статуса этих единиц, получивших название «паремии» состоит в том, что они занимают промежуточное положение между словосочетанием и текстом. Г.Л. Пермяков [Пермяков 1970], предлагая своё различение фразеологизмов и паремий, опирался на более очевидный формальный критерий - синтаксический статус отрезка речи, функционирующего как клишированный (то есть устойчивый по составу, воспроизводимый в речи в готовом виде, семантически не складывающийся из суммы входящих в него единиц-компонентов и т.п.). Типичные словосочетагош он отнёс к фразеологии в собственном смысле слова, типичные завершённые предложения (простые или сложные) - к паремиологии, а на границе между фразеологией и паремиологией, хотя и, отнеся их к последней, расположил поговорки - неполные предложения. Однако в поговорки попали такие синтаксические объединения, которые по своему промежуточному статусу традиционно фигурируют во всех фразеологических словарях русского языка, например, инфинитивные сочетания, типа стрелять из пушки по воробьям.
А.А. Потебня сравнивает пословицы с баснями. По его мнению, и те и другие содержат в себе назидательный смысл, некую мораль. Однако, назидательный смысл, заключённый в басне в развёрнутом виде, в пословице выражен в краткой и сжатой форме. Зачастую мораль басни может быть выражена одним предложением и становится в свою очередь пословицей [Потебня 1990].
Исследование пословиц в немецкой фольклористике также имеет давнюю традицию, в связи с чем закрепилось название «Paramiologie» [см. Rohrich/Mieder 1977]. Немецкие паремиологи интересуются происхождением пословицы, её «движениями во времени», тематикой, типологией, жанровым разнообразием, стилистикой и поэтикой пословицы. Исходя из этой ориентации, возник словарь "Lexikon der sprichwortlichen Redensarten" Л. Рёрих [1991-1992].
Согласно фразеологической концепции Л. Рёрих, пословицы (Sprichworter) существенно отличаются от фразеологизмов в традиционном понимании этого термина (sprichwortliche Redensarten) по форме, структуре и функции [Rohrich 1991-1992]. Соответственно они не могут рассматриваться как «sprichwortliche Redensarten», которые и составляют материал словаря. Однако определённое количество пословиц включено в данный словарь, несмотря на свои отличия от фразеологизмов. Автор даёт им в словаре помету «Wendung» или «Redewendung», хотя эти выражения представляют собой типичные пословицы. Например, Eine Schwalbe macht noch кеілеп Sommer одна ласточка ещё не делает лета включена в словарь с пометой Wendung /выражение/, хотя она является пословицей, что подтверждается пометой Sprichwort в нормативно-толковых словарях Duden под ред. Дроздовского и словаря под ред. Клаппенбах/Штейниц. Таким образом, несмотря на нефразеологическую концепцию автора в отношении фразеологических единиц, часть их включена в данный словарь.
Пословицы не являются предметом инвентаризации во фразеологическом словаре В. Фридериха «Современная немецкая идиоматика» [Friederich 2001]. «Это можно объяснить тем, что материал для словаря отобран в строгом соответствии с фразеологической концепцией автора. В словарь включены преимущественно «идиоматические выражения» ("idiomatische Redewendungen"), под которыми автор понимает "solche Wendungen, derer Sinn ein anderer ist als die Summe der Einzelbedeutungen der Wбrter,, [Friederich 2001: 7] такие обороты, значение которых не совпадает с суммой отдельных значений составляющих их слов .
Что касается пословиц, то автор считает их единицами, не принадлежащими к идиоматическим сочетаниям слов, потому что они имеют форму законченного предложения, а такие выражения не относятся к корпусу идиоматики. И хотя они в силу своей образности похожи на идиоматические выражения, они, тем не менее, должны быть внесены в отдельный сборник [Friederich 2001: 7].
Вопрос о том, являются или не являются пословицы и поговорки составной частью фразеологии, тесно связан с проблемой определения объёма фразеологии, в отношении которой исследователи придерживаются широкого или узкого её понимания. До настоящего времени данный вопрос ещё не нашёл окончательного решения и служит предметом оживлённых дискуссий как в зарубежной, так и в отечественной лингвистике. В целом сегодня можно говорить о двух противоположных подходах в отношении данных единиц: 1. нефразеолоіически ориентированном 2. фразеологически ориентированном
О разграничении пословиц и поговорок
До рассмотрения структурных особенностей немецких и лезгинских 1111 целесообразно выяснить вопрос об определении терминов «пословица» и «поговорка». Термины «пословица» и «поговорка» общеизвестны, но не имеют общепринятого толкования. Эти понятия трактуются различными авторами по-разному, что приводит к некоторому разнобою и путанице. Обычно оба термина «пословица» и «поговорка» употребляются вместе, и часто, бывает трудно разграничить их. В лезгинском языке ПП не разграничиваются даже терминологически, а функционируют под общим названием «мисалар». В немецком языке пословица функционирует под термином «Sprichwort», а поговорка как «sprichwortliche Redensart». Между пословицей и поговоркой в лезгинском языке, естественно, есть определенное различие. Но, тем не менее, грани, отделяющие пословицы от поговорок, условны, поэтому, в лезгинском языке до сих пор нет соответствующего определения пословицы и поговорки, не произведено их размежевание.
В целом можно выделить три критерия отграничения пословиц от поговорок: 1) структурный; 2) семантический; 3) структурно-семантический.
Первый положен в основу исследований, проведённых И.М. Снегиревым, Е.А. Ляцким и другими лингвистами. Согласно их мнению, пословица оформішется предложением, а поговорка представляет собой часть предложения, устойчивое словосочетание [Рыбникова 1939; Морозова 1972; Снегирев 1997]. Таким образом, будучи открытой в структурном отношении единицей, поговорка получает окончательное оформление только в процессе коммуникации. Пословица, напротив, является полнооформленной единицей уже в системе языка.
Указывая на идиоматичность [Ткаченко 1958; Фелицына 1972] и назидательный характер паремий [Гаврин 1958; Селянина 1970; Швыдкая 1972; Киселёва 1978; Чернышёва И.И 1970 и др.], структурный критерий рядом лингвистов дополняется семантическим. Поговорка, в отличие от пословицы, лишена дидактичности, обладает гораздо меньшей степенью обобщённости. «Поговорки лишены прямого дидактизма, философски обобщённого содержания ...» [Морозова 1972: 64]. Это, в свою очередь, делает поговорку полностью зависимой от контекста, где она получает окончательное оформление, как в структурном, так и в семантическом планах. Поговорки способны выражать только частный смысл и не содержат обобщений о закономерных связях действительности, как пословицы, и применимы, поэтому, лишь к единичным, конкректным ситуациям.
В.П. Жуков даст следующее определение пословицам и поговоркам: «Под пословицами мы понимаем краткие народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный (образный) план или только переносный план и составляющие в грамматическом отношении законченное предложение.
Под поговорками понимаются краткие народные изречения (нередко назидательного характера), имеющие только буквальный план и в грамматическом отношении представляющие собой законченное предложение» [Жуков 2005: 11]. Между пословицами и поговорками располагается обширный тип пословично-поговорочных выражений, которые сочетают в себе признаки пословиц PI поговорок.
Определение поговорок вызывает у исследователей большие трудности, чем определение пословиц. Это обусловлено тем, что ученые относят к поговоркам самые различные языковые образования. Поговорками могут быть иносказательные словесные обороты, выражающие незаконченные суждения, словосочетания, которые образуют незамкнутые предложения [Пермяков 1970] и даже слова.
Лингвистические исследования на материале немецкого и лезгинского языков включают в состав понятия поговорка единицы, имеющие иные структурные признаки. Поговорки, также как и пословицы, имеют структуру предложения. Выражения, генетически связанные с пословичными фразеологизмами, не утрачивают при самостоятельном функционировании в языке и в речи смысловой близости с пословичными изречениями, давшими им жизнь. Выражения, близкие по содержанию пословично-поговорочным выражениям, но имеющие незамкнутую структуру, нельзя отнести к паремиологическому фонду языка, поскольку они отличаются от пословиц нарушением традиционной грамматической формы, полной парадигмой и широкой внешней дистрибуцией.
Пословица выражает завершенную мысль, всегда имеющую дидактическую цель. Пословица в обобщенном виде констатирует свойства людей и явлений, дает им оценку или предписывет образ действий. Поговорка - это краткое народное изречение, всегда имеющее локальное изречение. В поговорке нет полного суждения, законченной мысли, не говорится о случившемся. В поговорке отсутствуют назидание, поучение, повеление и т.д. Поговорка, как и пословица, дает оценку происходящему. Вместе с тем, в отличие от пословицы, поговорка не содержит морали. В речи поговорка всегда конкретна, всегда используется говорящим для оценочной характеристики единичной, конкретной ситуации (с его собственной субъективной точки зрения).
Пословица и поговорка в сопоставляемых языках обладают одинаковыми структурными (обе имеют структуру предложения) и семантическими признаками (значение пословиц и поговорок возникает путём семантического преобразования на уровне языка или речи). Категория «образность» распределяется, как показывает исследуемый материал, далеко не на все изречения.
Рассматривая пословицы и поговорки как объект исследования, мы считаем необходимым дать следующее функциональное определение: пословицы и поговорки являются фразеологическими единицами, имеющими структуру предложения и характеризующимися семантическим преобразованием отдельных компонентов или всего выражения на уровне языка или на уровне речи.
Характеристика основной формы пословиц и поговорок в лезгинском и немецком языках
Анализ структуры пословиц и поговорок в немецком языке мы проводим, опираясь на работу А.Д. Райхштсйна «Немецкие устойчивые фразы» [Райхштейн 2004]. Анализ структуры ПП в лезгинском языке мы проводили, опираясь на работу А.Г. Гюльмагомедова «Основы фразеологии лезгинского языка» [Гюльмагомедов 1990]. Исследованию структуры лезгинских паремий в сопоставительном плане посвящены также отдельные статьи фольклориста Ф.Д. Гасаиовой [Гасанова 2004, 2005].
Языковая форма пословиц в значительной степени определяется их основными чертами: обобщающим характером содержания, фольклорным происхождением, а также преимущественно обиходно-разговорной сферой употребления.
Анализ синтаксической структуры пословиц лезгинского и немецкого языков показывает, что они существуют в виде разнообразных предложений: простых и сложных. Простые предложения делятся в свою очередь на повествовательные и побудительные. Повествовательные предложения могут иметь как утвердительную, так и отрицательную семантику в обоих языках, например, ср.: нем. Der voile Bauch studiert nicht gem полный живот учится не охотно «Сытое брюхо глухо к учению»; Alte Liebe rostet nicht старая любовь не ржавеет ; лезг. ЦІиіт саф хкуныхъ жеда новое сито на крючке бывает ; Жанавурдал хеб тапшурлшш эюедач волку овец доверять нельзя ; Азаб такурдаз регъятвгшин къадир чир жедач переживший страдания легкости пе оцепит по достоинству «Кто не видел трудностей, тот и лёгкой жизни не оценит».
Предложение в сопоставляемых языках распадается на две группы составляющих его элементов: группу подлежащего и группу сказуемого. Однако лезгинское предложение отличается в ряде случаев от предложения в немецком языке способом его грамматического оформления и выражением синтаксических отношений между членами предложения. Это отличие обуславливается самой структурой лезгинского языка: наличием особых конструкций предложения, находящихся в полной зависимости от значения глагола.
Обязательным условием существования немецкого предложения является его двучленность. Эта специфика структуры немецкого предложения объясняет двусоставность немецких пословиц. Соответственно, немецкие пословицы характеризуются, прежде всего, двусоставпостыо своих смысловых компонентов. Каждая немецкая пословица состоит из двух семантических компонентов, первый из которых выражает (называет) действие (предмет) или условие, при котором происходит данное действие, а второй - указывает либо на результат этого действия, либо на носителя его или же предостерегает от данного действия.
Так, в пословице Frisch begonnen ist halb begonnen "свежий начатый есть наполовину начатый «Доброе начало полдела откачало» первый семантический комплекс выражает условие, при котором будет достигнут результат, выраженный вторым семантическим комплексом.
В пословице Мог gen, morgen, mir nicht heute, sagen alle faulen Leute завтра, завтра, только не сегодня - говорят все ленивые люди второй компонент не только указывает на носителя действия вообще, но и определяет его качественные свойства - allefaulen Lente все ленивые люди .
Подлежащее в лезгинских и немецких паремиях выражается в основном именем существительным, которое является названием конкретного предмета, какого-либо явления или отвлеченного понятия, а также местоимениями, например: ср. лезг. Зуи пине туш хьн, кіан хъайнла, эхлягъдай, кіан хьайила, ахлуддай я же не латка, когда захочешь, прикладывать, когда захочешь, убирать ; Вун іиад ятіа, зум пашман я ты если счастлив, то я грустен ; нем. Ich verstehe immer Bahnhof я понимаю всегда вокзал «Ничего не пойму»; Mit Speck fdngt man Mause салом ловят {неопр.-личн. местоим.) мышей «На приманку рыбка ловится».
Если в немецком языке подлежащее стоит только в именительном падеже, например, ср. нем. Der Ton macht die Musik тон задает музыку «Подчас важнее, как сказано, нежели что»; Aller Anfang ist schwer всякое начало трудно , то в лезгинском языке падежом подлежащего моїут быть именительный (абсолютов), эргативный и дательный падежи, например, ср. лезг. Дшиегьли итимдилай амалдар жеда женщина (им. п.) чем мужчина хитрее бывает ; Зегьлгетди гъурмет къазанмшида труд (эрг. п.) уважение зарабатывает ; Киціиз вичин неси къад йисалайни чир хъжеда собака (дат. п.) своего хозяина и через двадцать лет узнает .
Расхождения в оформлении подлежащего в сопоставляемых языках объясняются различным синтаксическим типом данных языков. Немецкий язык относится к языкам номинативного строя, в то время как лезгинское предложение считается предложением эргативной конструкции, так как основным критерием, согласно которому то или иное предложение считается предложением эргативной конструкции, является оформление подлежащего эргативом. Известно, что падеж подлежащего, следовательно, и тип конструкции предложения, в языках эргативного строя, к которым относится и лезгинский язык, зависит от семантики и характера глагола-сказуемого. Вследствие этого в предложениях, где сказуемое выражено переходным глаголом, подлежащее оформляется эргативом.
Абсолютив в лезгинском предложении может выполнять функции подлежащего при непереходных глаголах, например: Дана чіехи оіседа, нур чіехи жедач теленок старше станет, хлев старше не станет . При этом основным значением абсолютива, кроме субъектного, является также и объектное, например: Кар карди къалурда дело (абсолютив) дело (эргатив) покажет . Указания на способность абсолютива выполнять функции субъекта и объекта содержится во всех работах по синтаксису или падежным системам дагестанских и других языков эргативной типологии. В отличие от лезгинского языка, субъектпо-объектные отношения в немецком языке выражаются дифференцированно.
Сказуемое в лезгинском и в немецком языках может быть глагольным или именным со связкой. В качестве глагольного сказуемого в лезгинских паремиях выступают простые, производные и сложные глаголы, например: Душманди чииеба кьада враг исподтишка поймает1 , КІвале хаті ківач къецел сагъ хытседач в доме сломанная нога на улице здоровой не станет ; Дустуннз садрани тапарармир другу никогда не вргС.
Общим моментом для обоих языков является также то, что глагольная связка наличествует и в настоящем времени. В роли связок в лезгинских паремиях выступают я «есть» и хъун «быть, становится», в немецких ПП глагол sein «быть». Например, ср. лезг. Мез рнкінн векші я язык - сердца представитель есть1; Мнсалда таб жедач в пословице (поговорке) обмануть не получится ; нем. Zeit ist Geld время {есть) деньги .
Замена компонента или компонентов
По мнению многих исследователей, одним из распространённых способов окказионального преобразования ПП является замена или субституция компонентов, одного или нескольких, что представляет собой лексико-семантический прием окказионального преобразования в коммуникации [Баркова 1983; Волосевич 1989; Прокопьева 1980; Шадрин 1969 и др.]. Этот способ преобразования заключается в том, что автор, исходя из стилистических целей и подчиняя пословичный фразеологизм коммуникативным задачам контекста, изменяет лексический состав традиционного пословичного изречения, устраняя из его исходной формы один или несколько компонентов, место которых занимает другой или другие компоненты, способные более адекватно выполнить коммуникативную задачу текста. Замена одного из компонентов паремий наполняет его новыми смысловыми оттенками, помогает «привязать» устойчивые выражения к конкретному тексту, повышает его выразительность. PI чем дальше друг от друга отстоят заменяемый и заменяющий компоненты, тем сильнее изменяется семантика фразеологизма.
Выбор слова-заменителя в большинстве случаев при употреблении паремий в речи определяется содержанием контекста и тематически связан с текстом, например: лезг. Чна къведани теспягъ чіугваз сувабар къазапмтида лагъайла, фекъида адаз жаваб гана, кьетіивгтелди лагъана: - Гьавайда каци къифни къадач. [3. Эфендиев. Следы на мосту] Когда мы оба, перебирая чётки, сказали, что заслужим богоугодные дела, мулла ответил ему решительно: бесплатно кошка и мышку не поймает . В исходной пословице Аллагь патал каин къифни къадач ради аллаха кошка и мышку не поймает компонеты Аллагъ патал заменяются компонетом гьавайда.
Для ПП в речевом употреблении характерны те же отношения между собой, что и для узуальных вариантов пословичных выражений. В речевом употреблении лексемы-корреляты могут находиться в отношениях равнозначности, то есть являться синонимами. Обычно в авторском использовании широко используется подвижность существительного, в результате чего усиливается эффект от сопоставления окказионально и традиционно используемых компонентов, например: лезг.
- Ваз чидай кулера къуърер амач, Валидин хва Верди, - давамарна за, ківачел кърагъна. - Инсанар ваз чидай ацаз тадай хпер яз амач. Абуруз садакъайни я кичіе туш, я регъуь. [К. Меджидов. Незабываемые люди] В тебе знакомых кустарниках зайцев не осталось, Вали сын Верди, -продолжил я, на ноги встав. - Люди тебе знакомыми дойными овцами не остались. Они никого не боятся, не стесняются .
Понятийное значение пословицы Ваз акур валара къуърер амач в тебе знакомых кустах зайцев не осталось от замены компонента валара компонентом кулера не изменяется. В лексической системе лезгинского языка данные единицы являются равнозначными синонимами.
Прилагательные и глаголы также подвергаются таким заменам в окказиональном использовании, как существительное, например: Мал иесидиз ухшалшш жеда лугьун герчек гафар тир. Муькъвяй акъатнамазни рекьин кьве патайни дестекар хкажна, абурун винел тагь эцигнавай. [А. Агаев. Лезгины] Слова "скотина на хозяина похожая бывает" сказать справедливы были. С моста выйдя, с обеих сторон дороги подпорки подняв, они наверху свод поставили .
Глагол ухшалшш хъун заменяет глагол ухшар хъун в составе пословицы Мал иесидиз ухшар я скотина на хозяина похожая есть . Субституты выражают синонимичные понятия в составе словосочетаний ухшар хъун и ухшалшш хъун «походить на кого-л.», не имеют стилистических помет и даются в толковом словаре лезгинского языка как синонимы [Гюльмагомедов 2004: 298]. Мена в составе исходного фразеологизма второго компонента - глагола-связки я «есть», являющегося также формой настоящего общего времени, на форму будущего времени компонента жеда абсолютно не влияет на значение всего фразеологизма. Форма будущего времени в лезгинском языке может использоваться (преимущественно) во вневременной функции, то есть в функции семантической нейтрализации [Шейхов 1993: 159]. Глагол жеда выражает будущее время от словообразовательного вспомогательного глагола хъун «быть, становиться», однако является не только показателем действия в будущем, но и выражает обычное, всегдашнее, повторяющееся действие или состояние.
Подобные же отношения характеризуют словосочетания гъуьжетар къун и гъуъжетар авун. Запретительная форма глагола кьун къалтр в составе узуальной пословицы Ваціухь галаз гъуъжетар къалтр с рекой вместе спор не держи заменяется запретительной формой глагола авун шшмнр в выражении: Baijfyxb галаз гъуъжетар ийилшр лугьуда бубайри мисалди. Альма за авуна. [М. Шихвердиев. Встреча.] «С рекой не спорь»,- говорит отцовская пословица. Но я поспорил . В сочетании со словом гъуъэюетар оба глагола выражают одинаковое значение «спорить». Замены, основанные на лексических субституциях тематического ряда, также относятся к числу регулярных способов формирования лексических вариантов ФЕ, например: лезг. Ахпа Къадира ціигш гост imam баитамишна лагъана: - Аэ/сал агакъай кгщіи иесидин шаламар неда лугъуда. Гила гьакі хъана. Деншинан казакри базардин юкъвал инсанрилай парталар хтіунзава. [З.Эфендиев. Следы на мосту.] Потом Кадир, новый разговор начав, сказал: -Собака, у которой наступил смертный час, хозяина чарыки съедает. Теперь так стало. Деникина казаки в центре базара с людей одежду снимают . Глагол неда в данном примере заменяет глагол жакъвада в исходной пословице Ажал агакъай киціи иесидин шаламар жакъвада собака, у которой наступл смертный час, хозяина чарыки жует\ Эти глаголы относятся к одной лексико-семантической группе. У членов тематически однородной группы имеется общий элемент значения - родовая сема, господствующая над видовыми различиями. Такой гиперсемой, или по Д.Н. Шмелеву [Шмелев 1973: 105] семантической темой, является в данных примерах глагол неда, выступающий интегрирующим началом в парадигматической организации всего предметного ряда. Смещение тематически объединенных слов приводит к созданию лексических вариантов. Приведём ещё пример вариаций в лезгинских паремиях, включающие замену, основанную на отношениях смещения, например: Ракъ чимизмаз гатана кіанда лугъудайвал, ада гъа пакад юкъуз хуъруън Советдиз тапшуругъ гана. [А. Агаев. Лезгины.] Железо пока теплое, ударить надо, говоря, он сразу на следующий день сельсовету поручение дал .
В приведённом примере замене подвергается адъективный компонент ифенмаз пословицы Ракъ ифенмаз гатана кіанда Железо пока раскаленное ударить надо «Куй железо, пока горячо» на окказиональный чимизмаз. Эти слова относятся к одной лексико-семантической группе.
Замена, основанная на отношении смещения, также встречается в следующей речевой реализации:
Эхь, дуъз гафар я, гафуни тіатіайди туруни атіудач. [М. Шихвердиев. Встреча.] Да, правильные слова есть, то, что слово не отрезало, меч не отрежет .
Существительное туруни в данном примере заменяет существительное гапурди. Эти слова относятся к одной лексико-семантической группе «оружия».
Во фразеологической системе лезгинского языка соответствует ряд узуальных вариантов, включающие лексические замены синонимического типа и отличающиеся между собой смысловыми оттенками, то есть относящиеся друг к другу как идеографические синонимы, например: Лам гатаз тахъаша, полая гатада; Лам гатаз тахьайла, пурар гатада; Лам гатах тахъаша, алух гатада. Варьирующийся компонент окказиональной пословицы къалтах отличается от всех трёх узуальных вариантов смысловыми оттенками в своей семантической структуре и обозначает арчак, ленчик седла, в то время как алух, например, содержит в своей семантической структуре следующие семы: 1) седло (мягкое, как толстая попона, а также седло для осла, исключая ленчик); 2) ирон. одежда, одеяние [Талибов 1966: 45]; Гила ваз хъилер къеемир. Скрке къати хъагшла, къапуниз зарар э/седа. [З.Эфендиев Следы на мосту.] Теперь ты не злись. Уксус когда крепкий бывает, посуда страдает . Прилагательное къати «сильный, резкий» заменяет прилагательное туънт «крепкий, резкий» в составе поговорки Сирке туънт хъайила, къапуниз зарар .жеда Уксус когда крепкий бывает, посуда страдает . В данном случае именные компоненты къати и туънт можно рассматривать как идеографические синонимы, совпадающие в одном лексико-семантическом варианте «резкий». Понятийное значение пословицы в данном контексте не изменяется «вспыльчивый характер самому во вред».