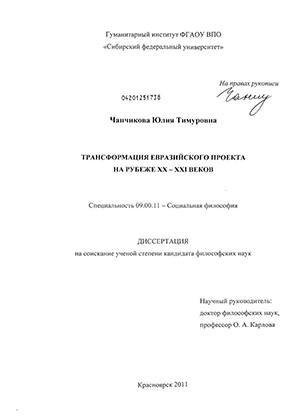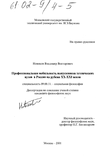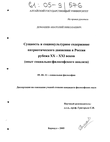Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Принципы и направления русского евразийства конца XIX - 80-х годов XX века
1. Становление и особенности русской философской евразийской традиции 19
2. Евразийство в контексте традиционалистской концепции конца XIX - 80-х годов XX века 52
Глава II. Тенденции общественного сознания конца XX- начала XXI веков
1. Тенденции в общественном сознании и неоевразийство в контексте противостояния глобализма и антиглобализма 82
2. Неоевразийство: новизна концепции и социокультурного содержания 122
Заключение 170
Список литературы 178
- Становление и особенности русской философской евразийской традиции
- Евразийство в контексте традиционалистской концепции конца XIX - 80-х годов XX века
- Тенденции в общественном сознании и неоевразийство в контексте противостояния глобализма и антиглобализма
- Неоевразийство: новизна концепции и социокультурного содержания
Введение к работе
Актуальность темы настоящего диссертационного исследования обусловлена интересом к ключевым идеям классического евразийского проекта, возникшим в российском обществе на рубеже XX - XXI столетий. Данный интерес подтверждается включением евразийских идей в ряд идеологических концепций, имеющих потенциальную способность к трансформации в слагаемые зарождающейся государственной идеологии современного российского общества.
В первую очередь, это интеграция евразийских идей в новые патриотические течения, неотъемлемой частью которых является неоевразийство. Также евразийские идеи актуализируются в рамках российских антиглобалистских течений, противостоящих процессу глобализации, который влечет за собой значительное ослабление национальной идентификации российского общества.
Обращение к евразийству наблюдается и в исканиях новых российских геополитических школ. Более того, существуют примеры практического применения модели геополитического развития страны, представленной в евразийском проекте, в современных российских геополитических процессах, в частности тех, что связаны с укрупнением регионов.
Высокая толерантность к нетитульным народам и различным конфессиям, характерная для евразийства, приобретает актуальность в контексте обострившихся межэтнических и межконфессиональных противоречий как идея, потенциально способная стать субъектом межнациональной политики страны, что, в свою очередь, также актуализирует содержание исследования. Срединная, традиционалистская, сущность евразийского проекта позволяет рассматривать его как актуальное противоядие от распространяющегося в стране национального экстремизма.
Вышеперечисленные аспекты актуальности работы подчеркиваются остротой общероссийской проблемы деидеологизации общества. Современное российское общество, столкнувшись с негативными последствиями деидеологизации, испытывает дефицит духовности, происходит потеря морально-нравственных ориентиров в масштабах общества. Современные политические лидеры страны, в частности, Дмитрий Медведев и Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что социально-экономическое развитие страны невозможно в полной мере без создания в стране системы духовных ценностей, морально-нравственных принципов, из которых бы складывалась идеологическая платформа, отвечающая современным устремлениям складывающегося в России общества нового типа.
В контексте обозначенной проблематики актуализируется традиционалистский ракурс рассмотрения евразийства в качестве структуры евразийских традиций, не имеющих аналога, поскольку именно в традиционализме заложен высокий идентификационный потенциал национальной принадлежности и конфессиональной духовности.
Не менее важен культурологический аспект в рассмотрении евразийских идей в рамках проекта «неоевразийство», так как последний активно развивается в различных социокультурных формах, становясь таким образом в том числе и культурологическим феноменом. И здесь актуальность исследования акцентируется тем, что в культурологическом контексте неоевразийство еще практически не рассматривалось в феноменологическом ракурсе. В данном аспекте евразийские идеи, включенные в неоевразийство, приобретают интерес как феномен такого актуального современного течения, как постмодернизм.
Рассмотрение неоевразийства как субъекта виртуального пространства актуально в связи с тем, что Интернет является сегодня наиболее динамично развивающимся феноменом социокультурной жизни мирового сообщества.
Анализ евразийских идей в рамках неоевразийства актуален еще и вследствие того, что проект, находясь в стадии становления, представляет собой малоизученную область философской мысли. Следовательно, научная проблема исследования представляет собой противоречие между бытованием евразийских идей в XX веке и отсутствием научного контекста их философского осмысления.
Степень разработанности темы. Непосредственно сам евразийский философский проект разрабатывался рядом отечественных ученых, среди которых прежде всего необходимо отметить Н. Трубецкого, Л. Карсавина, П. Савицкого и Н. Алексеева. В трудах Н. Трубецкого и Л. Карсавина в большей мере велась концептуальная разработка понятия «истинная идеология». Геополитика евразийства разрабатывалась П. Савицким. Весь комплекс государственно-правовых аспектов евразийского проекта мы находим у Н. Алексеева. Проблемы идеологической составляющей евразийского философского проекта раскрывают Г. Флоровский, П. Сувчинский, Г. Вернадский и М. Шахматов.
Обращение к евразийским идеям мы находим у К. Леонтьева, Н. Карамзина, Н. Бичурина, В. Бартольда, В. Ключевского, С. Соловьева, Л. Мечникова, А. Щапова, М. Любавского, В. Ламанского и Д. Менделеева.
Критика евразийства нашла свое отражение в работах Н. Бердяева, П. Милюкова, П. Струве, В. Шульгина, И. Ильина, Д. Философова, Г. Флоровского, Н. Иванова.
К рассмотрению евразийских идей в контексте этнологии обращались П. Савицкий и Л. Гумилев.
Поэтапная дифференциация классического евразийского проекта принадлежит С. Хоружему. Исторический ракурс евразийства исследовали А. В. Соболева, И. Вилента, С. Игнатова и В. Пащенко.
При рассмотрении евразийства в контексте традиционализма в работе анализировались исследования европейских ученых, в частности Э. Трельча, М. Вебера, К. Манхейма, А. де Роша, А. Дасноя.
Идеи представителей старшего поколения «консервативной революции» О. Шпенглера, В. Зомбарта, О. Вайнингера, М. Хайдеггера, К.-Г.
Юнга рассматривались в рамках анализа традиционализма в неоевразийском проекте А. Дугина.
В контексте традиционалистского ракурса евразийских идей изучались исследования российских авторов, относящихся ко второй половине XX века, а именно: труды И. Суханова, В. Плахова, Э. Маркаряна, К. Чистова, К. Думавы, А. Гомонова, Н. Кампраса, Н. Заковича. Г. Исаенко, А. Гринина, А. Ладыгиной, Ю. Давыдова, А. Лосева, А. Тахо-Годи, М. Мамардашвилли.
При рассмотрении евразийства в рамках антиглобалистского круга идей привлекались работы Н. Чуринова, И. Безухова, А. Янова, А. Цветкова, А. Дугина, В. Пащенко.
Отдельные аспекты проблемы деидеологизации и реидеологизации, характерные для процесса глобализации, анализировались в трудах Д. Аптера, Р. Арона, Д. Белла, К. Гиртца, Джо Ла Паломбары.
При рассмотрении неоевразийского проекта как социального мифа за основу были взяты работы О. Карловой «Миф разумный» и «Культурный миф как «древо познания».
При анализе неоевразийства как феномена постмодернизма рассматривались труды Л. Вронской, А. Бузгалина, А. Гениса, Е. Кикодзе, П. Козловского, М. Липовецкого, Л. Люкса.
В ходе анализа неоевразийства как субъекта информационного общества привлекались работы Р. Барта, М. Вербицкого, Ю. Кристевой, А. Дугина, У. Эко. Проект «неоевразийство» в большинстве случаев рассматривается в работах таких исследователей, как А. Дугин, В. Пащенко, Ю. Мамлеев, Г. Джемаль.
Подводя итоги изученности проблемы, стоит подчеркнуть, что вследствие замалчивания евразийства на протяжении многих десятилетий идеи евразийцев до сих пор не имеют четкого категориального осмысления, оставаясь объектом полемики, столкновения разных мнений. Обилие привлеченных к рассмотрению научных трудов связано не со степенью изученности проблемы, а является следствием многоконтекстного рассмотрения евразийства в данной работе.
Предметом исследования являются новые тенденции евразийского проекта в философском, общественно-политическом и культурологическом контексте XXI века.
В качестве объекта исследования избираются евразийская традиционная философская версия, представленная в работах философов-евразийцев (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Вернадский, Л. Гумилев, Л. Карсавин, Г. Флоровский), неоевразийский проект, представленный в работах современного философа и публициста А. Дугина, деятельность ОПД «Евразия», социокультурные неоевразийские проекты рубежа ХХ-ХХІ веков, а также труды исследователей традиционалистского круга (Р. Генон, К. Леонтьев), работы философов-постмодернистов (Ю. Кристева, Г. Маркузе, Ж. Делез, У. Эко, Ф. Фукуяма, Ж. Дерриды), работы в области философии культуры М. Бахтина, О. Шпенглера, Р. Барта, исследования природы мифа А. Лосева, О. Карловой, критика евразийства в работах Н. Бердяева.
Определение характеристик евразийского проекта и тенденций, позволяющих говорить о трансформации евразийской традиционной версии в новое течение, — неоевразийство - является главной целью диссертации.
В связи с заявленной целью представляется необходимым в ходе исследования решить ряд следующих задач:
исследовать становление и особенности евразийства;
вычленить характерные особенности евразийской философской версии в рамках традиционалистской философской мысли;
исследовать философский и культурологический аспекты модернизма и постмодернизма;
вычленить характерные особенности евразийства в контексте модернизма и постмодернизма;
рассмотреть неоевразийство в различных контекстах: государственное устройство, традиционализм, геополитика, религиоведение, конспирология, постмодернизм, культурология;
выявить и системно представить особенности современной евразийской версии по отношению к традиционному евразийству.
Методология исследования. Методы, использованные в диссертации, определяются целями и задачами исследования. В целом методологическую основу диссертации составляют сформулированные в работах ведущих философов классического периода и современности основополагающие принципы исследования с использованием нескольких методов и форм познания. Для разрешения поставленных задач потребовалось обращение к данным из разных областей знания: философии, философии культуры, культурологии, религиоведения, этнологии, социальной психологии, политологии, глобалистики, социальной и культурной антропологии.
Для реализации системного подхода были привлечены следующие методы:
описательный метод использовался для адекватного представления бытования классического евразийского проекта, модернистского и постмодернистского социокультурного контекста;
применение конкретно-исторического метода способствовало обеспечению подхода к евразийству как к явлению, существующему и развивающемуся в определенном культурном контексте;
сравнительный метод позволил сопоставить взгляды евразийцев с позицией других философов XIX и XX веков, а именно славянофилов, традиционалистов, модернистов и постмодернистов;
системно-структурный метод дал возможность рассмотреть идеи евразийства по отдельности, не нарушая при этом их внутреннего системного единства.
на основе типологического анализа было выявлено своеобразие евразийства в границах традиционализма и отличие неоевразийства по отношению к классическому евразийскому проекту;
текстолого-герменевтический метод позволил провести анализ источников, используемых в работе;
при анализе философских трудов применен также метод общей и специальной компаративистики, который был направлен на выявление различных интерпретаций и оценок творчества евразийцев и неоевразийцев. В ряде разделов изложение ведется в форме сопоставления точек зрения, что помогает показать ход дискуссий по тем или иным вопросам;
метод психологического анализа позволил выявить внутренние основы неоевразийства как феномена современного социокультурного пространства;
метод «следов», введенный в историографию школой «Анналов» и представляющий собой возможность реконструкции недоступного в настоящий момент для целостного исследования по выбранной проблематике путем обращения к его проявлениям, дал возможность рассмотреть евразийство в контексте модерна и постмодерна;
метод моделирования позволил выдвинуть ряд ключевых гипотез исследования.
Новизна исследования и личный вклад автора заключаются в следующем:
определение синтетической идеологии евразийства как условия для дальнейшей трансформации классического проекта на рубеже XX - XXI веков;
в ходе рассмотрения евразийства в рамках традиционализма сделан вывод о наличии оригинальной евразийской замыкающейся совокупности традиций;
при формировании классификации базовых традиций, входящих в оригинальную евразийскую совокупность традиций, представлена сибирская геополитическая традиция евразийства, под которой понимается преемственность евразийцев к русской научной и философской мысли в понимании геополитического значения Сибири для России;
в ходе рассмотрение евразийства в рамках течения «модернизм» в данном исследовании сделан вывод о заложенном в евразийстве пророчестве «рисков общества модерна»;
- при вычленении характерных особенностей евразийской
философской мысли в рамках постмодерна сделан вывод о близости
евразийства идеям мирового антиглобализма;
при комплексном анализе евразийства и неоевразийства определены отличия последнего в трактовке базовых идей классического евразийского проекта (Евразия, православие, революция, традиция, личность, геополитика), что в дальнейшем позволило сделать вывод о сущностных трансформациях евразийских идеи в рамках неоевразийского проекта;
в контексте заявленной проблематики предложено новое понятие «философский перформанс», описывающее новые формы бытования философских проектов в условиях современной социокультурной ситуации. Итогом рассмотрения неоевразийства в культурологическом аспекте стал
вывод о том, что неоевразийство на современном этапе является «философским перформансом».
Теоретическая значимость исследования определяется
возможностью использования результатов диссертации в целях дальнейшего изучения таких явлений, как неоевразийство, идеократия, традиционализм, информационное общество, конспирология, современный российский постмодерн в рамках социальной философии, философии культуры, философии общества и культурологии.
Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы диссертации могут быть использованы для подготовки учебных пособий, чтения таких учебных курсов, как «История русской философии», «Социальная философия», «Философия культуры», «Философия общества». Теоретические положения, выводы и проанализированный в диссертационной работе материал могут быть востребованы для подготовки реферативных и библиографических трудов по социальной философии, политологии, философии общества, философии культуры и культурологии.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования были представлены в 7 публикациях общим объемом 3,5 п. л., в том числе 2 публикациях в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК. Основные положения и результаты диссертационного исследования обсуждались в ходе двух научно-практических конференций. Диссертация обсуждалась на расширенном заседании кафедры рекламы и социально-культурной деятельности Гуманитарного института Сибирского федерального университета.
Структура диссертации. Структура работы определяется целью исследования и последовательностью решения поставленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих по два параграфа каждая, заключения и библиографического списка.
Становление и особенности русской философской евразийской традиции
Датой рождения евразийства - одного из наиболее оригинальных идейно-политических, философских учений XX века - рядом исследователей, в частности В. Пащенко, С. Хоружим, принято считать август 1921 года. Именно в это время в Софии вышел в свет сборник статей Н. Трубецкого, П. Савицкого, П. Сувчинского и Г. Флоровского. Сборник объединяло общее название «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев». На страницах сборника евразийцы объяснили происхождение своего названия, подчеркивая, что оно проистекает не из механического сочетания географических терминов, а более глубинного смысла, призывая понимать Евразию как месторазвитие, вмещающее ландшафт, особую цивилизацию, сферу взаимопроникновения природных и социальных связей русского народа и народов «российского мира». «Географически этот участок земной поверхности - «континент-океан» - ориентировочно совпадает с границами Российской империи в последние годы ее существования», - писал П. Савицкий [91, с. 19]. По глубокому убеждению евразийцев, именно на этой территории сформировалась уникальная цивилизация, отличающаяся и от европейской, и от азиатской. Цивилизация со своей уникальной историей, культурой, особым менталитетом.
Евразийцы называли себя «интеллектуальным движением». В двадцатые годы прошлого столетия учение о «континенте-океане» действительно объединяло целую плеяду талантливых исследователей из разных областей знания: философов, богословов, культурологов, экономистов, искусствоведов, историков, географов, писателей, публицистов. Среди них были П. Карсавин, Г. Флоровский, В. Ильин, Б. Ширяев, А. Карташев, Г. Вернадский, Д. Святополк-Мирский, В. Никитин, П. Сувчинский, В. Иванов, Э. Хаара-Даван, Н. Алексеев, Я. Бломберг, Н. Толь. В непродолжительный период времени к движению примыкали С. Франк и П. Бацилли. Также к евразийскому клану относят и Л. Гумилева. Незадолго до смерти он назовет себя «последним евразийцем».
По мнению В. Пащенко, импульсом для возникновения евразийского движения послужило поражение Белой армии. Среди наиболее творческой и интеллектуальной части эмигрантов появилась проблема осмысления последствий и причин революции 1917 года. Социолог П. Сорокин и близкий ему круг мыслителей полагали, что оказались свидетелями случайного переворота, который пройдет как страшный сон. Н. Бердяев считал, что гибель монархии неизбежна, но на смену прогнившему строю должна прийти парламентская республика, опирающаяся на западноевропейские демократии.
Евразийцы, пытаясь разобраться в глубоких исторических причинах случившегося в России, пришли к парадоксальным выводам в экономическом, политическом и идеологическом аспектах, разойдясь во мнении и с монархистами, и с реакционерами, и с либеральными конституционалистами.
Основателем и духовным лидером движения С. Хоружий называет Н. С. Трубецкого (1890-1938), написавшего своеобразный катехизис евразийства - книгу «Европа и человечество». Не менее значимой фигурой евразийского движения, по мнению исследователей, в частности А. Дугина, является П. Савицкий (1895-1968). Блестящий экономист, географ, историк, культуролог, дипломат, первоначально он придерживался западнической позиции, вероятно, под влиянием П. Струве, у которого служил в должности секретаря. Но после знакомства с работами Н. Трубецкого П. Савицкий воспринял новые взгляды.
В число основоположников входит и П. Сувчинский. Выдающийся искусствовед, теоретик музыки, эстетик, публицист и философ, до революции он издавал популярный в России музыкальный журнал «Мелос». Эмигрировав в Болгарию, П. Сувчинский организовал российско-болгарское издательство, в котором и вышли в свет «Европа и человечество» Н. Трубецкого, первый сборник евразийцев «Исход к Востоку».
Евразийец Г. Флоровский (1893-1979), по словам Н. Лосского, был «самым православным из современных русских философов» [76, с. 32]. Видный философ, ученый, религиозный мыслитель, Флоровский родился в семье священнослужителя. В университете занимался философией и естественными науками. В 1930 году, эмигрировав в Болгарию, примкнул к евразийцам. Однако через несколько лет он отошел от движения, более того, подверг евразийское учение резкой критике, впервые употребив широко используемый впоследствии оппонентами евразийства термин «евразийский соблазн».
Свои взгляды евразийцы выразили в первых же сборниках статей («На путях. Утверждение еварзийцев», «Евразийский временник»), считающихся такими исследователеями, как А. Антощенко, Р. Вахитовым, А. Гечевой, программными. И сразу же популярность евразийского движения стала расти. Интерес к движению подтверждает и полемика, начавшаяся в интеллектуальной эмигрантской среде почти сразу же после первых работ, опубликованных евразийцами.
Некоторые крупные мыслители того времени, находящиеся в эмиграции, подвергают критике идеи евразийства. Это Н. Бердяев, П. Милюков, П. Струве, В. Шульгин, И. Ильин, Д. Философов.
Знакомство с евразийством состоялось и в Советском Союзе. Идеологи большевизма негативно восприняли идею о «серединном пути» России. В 1929 году Институт красной профессуры выпускает сборник работ, объединивший статьи, рассматривающие современные философские западные течения, критикующие советский строй и коммунистическую идеологию. В данный сборник вошла статья Н. Иванова «Критика марксизма русскими эмигрантами», где автор яростно обличает «кочующие по Европе массы белой эмиграции», а также «реакционную профессуру, высланную из СССР» [87, с. 68]. В тридцатых годах советские идеологи прекращают полемизировать с евразийцами. Само понятие «евразийство» полностью исчезает из советской научной литературы. Эта «пауза» длится многие десятилетия. И только в конце восьмидесятых годов прошлого столетия евразийство вновь становится предметом изучения и полемики в России.
Таким образом, возникновение, расцвет и закат евразийства пришелся на 20-30-е годы прошлого столетия. Течение практически сразу же вызвало широкий резонанс в научной среде эммигрантов и идеологов советской России.
Евразийство было воспринято как неоднозначное учение. Почему же это произошло? Может быть, евразийцы опередили время-и выдвинули идеи, не созвучные современности? Можно предположить, что полемичность восприятия была следствием провокационного начала, заложенного в основу самого учения. Пограничность основополагающих аспектов учения могла послужить и внутренней предпосылкой для раскола течения, а после исчезновения с философской арены середины XX века.
Отличительной чертой проекта было единство теории и практики. Этот факт объясняется тем, что евразийство являлось не только учением, но еще и общественно-политическим движением. Помимо идей, направленных на создание нового философского учения, евразийцы разработали свои внутренние правила, дисциплину и этику движения, собственные программы действия в разных странах Европы, США, Канаде.
Ряд исследователей типологизирует евразийство тех лет как теоретический феномен и одновременно некую практическую деятельность, соединенные в диалектическом единстве. Наиболее убедительной периодизацией евразийского движения в двух его ракурсах, практическом и теоретическом, является система, предложенная С. Хоружим, а впоследствии разделяемая и историком И. Вилентой.
Исследователь С. Хоружий выделяет первый этап развития евразийства с 1921 по 1925 годы. В это время происходит период теоретического и организационного становления. Создаются первые научные работы, ставшие основой евразийских историософских концепций.
В 1923 году начинается стремительное сближение евразийцев с одним из крупнейших русских философов Л. Карсавиным. Его привлек размах исторического мышления участников проекта, однако он отметил и главную слабость евразийства начального периода - отсутствие стройного философского обоснования. Уже с 1925 года Карсавин становится не только одним из авторов, печатающихся в евразийских изданиях, но и одним из создателей программного документа движения - «Евразийство. Опыт систематического изложения» (1926). С приходом Л. Карсавина и его выдвижением в ряды лидеров начинается второй этап развития евразийства (1926-1929). Этот период связан с укрупнением теоретических основ проекта, выработкой организационных механизмов и в целом характеризуется С. Хоружим как расцвет движения.
Евразийство в контексте традиционалистской концепции конца XIX - 80-х годов XX века
Для того чтобы понять, какое место занимает евразийский проект в традиционалистском ряду, необходимо рассмотреть этапы развития традиционализма, начиная от классической модели.
В общепринятой трактовке традиционализм - это мировоззрение и социально-философское направление, отстаивающее сохранение культурных, социальных, исторических или религиозных традиций. Евразийство, в свою очередь, в общепринятой интерпретации, признано философским течением. Сами же евразийцы считали себя «интеллектуальным движением».
Традиционализм как религиозно-философское течение возник во Франции. У его истоков стояли представители римско-католического богословия XIX века - Ж. де Местр, Л. де Бональд, Ф. де Оливье, Ф. де Шатобри-ан. Эта генерация традиционалистов оказала огромное влияние на становление европейской культуры и имела большое значение для русской мысли. Безусловно, евразийство занимает гораздо более скромное по масштабам времени место в истории и насчитывает чуть менее века с начала своего появления. Что же касается классического евразийского проекта, то его активная жизнь продлилась десять лет.
Широкое общественное звучание идеи традиционалистов XIX века приобрели в устах консервативных романтиков. Романтизм не был целиком и полностью традиционалистски ориентированной идеологией. Однако господствующей тенденцией внутри романтизма, особенно немецкого, стал, как определяет Э. Трельч, «поворот к идее организма и традиции» [97, с. 345].
Именно консервативные романтики создали классический европейский консерватизм, повлиявший на формирование русского консерватизма XIX века. Поскольку русский консерватизм XIX века нашел отражение в классическом евразийском проекте, то прослеживается связь между европейским мировоззренческим массивом и русской евразийской мыслью.
Традиционализм и консерватизм - близкие понятия. Тем не менее есть ряд различий, достаточно четко их разводящих. Консерватизм, в отличие от традиционализма, являющегося системой философских, мировоззренческих идей, - сложный и многогранный социальный феномен, который можно рассматривать в нескольких измерениях: как совокупность физических качеств индивида, как политическую идеологию и, наконец, как общественно-политическое движение.
На рубеже XIX-XX веков разворачивается полемика вокруг отношения консерватизма к традиционализму. Выясняется их первичность по отношению друг к другу. Немецкий философ, социолог, культуролог М. Вебер, посвятивший немало научных трудов проблеме «традиции», определил традиционализм как установку на повседневно привычное и веру в него как непререкаемую норму поведения. Традиционализм в понимании Вебера принципиально нехаризматичен. Такая же трактовка термина «традиционализм» свойственна и К. Манхейму, а также ряду ученых, принявших его мировоззренческую позицию. Традиционализм, по их мнению, примитивная, интуитивная, «инстинктивная» форма социальной ориентации, свойственная феодальному обществу. Консерватизм, считает Манхейм, отличается от тради 52 ционализма прежде всего тем, что является функцией некой специфической исторической и социологической ситуации.
В то время как «традиционализм - это общая психологическая позиция, выражающаяся у разных индивидуумов как тенденция держаться за прошлое и избегать новаций» [79, с. 58].
Вместе с тем традиционализм, добавляет К. Манхейм, в определенных обстоятельствах становится фактором при формировании новых форм общественного взаимодействия. И именно это качество традиционализма, позволяющее ему становиться стихийной установкой определенных слоев общества, является механизмом превращения традиционализма в консерватизм, считает К. Манхейм. Однако большинство современных социологов и философов Запада не принимают данную мировоззренческую позицию, свойственную К. Манхейму, М. Веберу и еще ряду ученых.
Традиционализм обычно рассматривается как более широкое понятие, причем под тем, что Манхейм называет «консерватизмом», понимается одна из разновидностей традиционализма. Согласно классификации А. де Роша, традиционализм можно понимать, во-первых, как простую приверженность прошлому (архаизм, «пассеизм» или то, что К. Манхейм называл «примитивным традиционализмом»), во-вторых, историософскую доктрину французских католиков, в-третьих, более широкую, чем католическая доктрина, консервативную идеологию начала XIX века и, в-четвертых, более современную по отношению ко всем предыдущим идеологию, включающую в себя неоконсерватизм, либеральный консерватизм и некоторые формы национализма.
Согласно типологии А. Дасноя, следует различать интегральный и идеологический традиционализм. Интегральный традиционализм воспроизводит изначальные парадигмы деятельности, как правило, передаваемые инициатическим путем через посвящение и сакральные ритуалы. Он свойствен традиционному обществу и тесно связан с укладом традиционного общества. Идеологический традиционализм, в отличие от интегрального, считает А. Дасной, является «мировоззрением постреволюционной эпохи и возникает только в обществе, которое уже не может быть названо традиционным» [25, с. 102].
Это сознательный традиционализм, идеология, защищающая определенные духовные, политические и социальные принципы. Такое двойственное прочтение традиционализма как, с одной стороны, «дорефлексивной» общественной самоорганизации, а с другой стороны, как идеологической реакции общества на вторжение фактора чужеродного, инородного или просто радикально изменяющего мироустройства, утвердилось среди большинства современных мыслителей.
Следуя типологии А. Дасноя, классический евразийский проект можно отнести к разновидности идеологического традиционализма, поскольку евразийство не находится в рамках традиционного общества. Напротив, проект развивается в условиях географической удаленности от страны, ставшей импульсом для творческой мысли философов. Евразийцы, воспевая Евразию, сознательно культивируют традиционный уклад мифического государства-континента.
Второй этап исследовательского интереса к проблеме «традиции» на Западе пришелся на первую половину XX века и получил известность как социально-философское направление - неотрадиционализм. Неотрадиционализм в XX веке развивался под знаком углубленного изучения неевропейских сакральных традиций, что нередко приводило исследователей к самым радикальным выводам.
Настоящее состояние человеческой цивилизации представлялось неотрадиционалистам заведомо искаженным и испорченным, лишенным сакральной традиционной основы. Бескомпромиссность по отношению к современному миру - черта неотрадиционалистов XX века, резко отличающая их от традиционалистов прошлого столетия, которые во многом еще рассчитывали на успех своей идеологии через консервативную политику «реставрации» и «реконструкции». Если для традиционалистов-классиков была характерна установка на реставрацию, то в ситуации побеждающего модернизма XX века неотрадиционализм мог означать только полный разрыв с господствующей-идеологической тенденцией - бескомпромиссную «консервативную революцию». В какой-то части в евразийстве можно найти и черты неотрадиционализма.
Тенденции в общественном сознании и неоевразийство в контексте противостояния глобализма и антиглобализма
Евразийский классический проект образца 20-30-х годов XX века развивался, отталкиваясь от российского культурологического контекста второй половины XIX века. Зарождающаяся эпоха модерна скорее стала фоном для возникновения в Европе сугубо русского философского проекта, тесно связанного с кругом национальных религиозных и культурных традиций.
Несмотря на точки соприкосновения с идеологией европейской «консервативной революции», для евразийцев гораздо большим смысловым импульсом служили идеи Константина Леонтьева, а актуальными историческими событиями были рубеж, отделяющий допетровскую Русь от Петровской и, конечно же, Октябрьская революция, которую евразийцы рассматривали не в контексте мировой борьбы с империализмом, а как веху русского пути.
В конце тридцатых годов классический евразийский проект прекратил свое существование организационно и потерял идеологическую актуальность. Вторая мировая война внесла существенные коррективы, в том числе и в философское идейное поле Европы. По сути, именно Вторая мировая война поставила точку в развитии эпохи модерна и заставила задуматься о глобальном пересмотре философских идей и взглядов, став началом зарождения постмодернизма.
Спор о «модерне» и кристаллизация постмодернистских позиций явились основной темой в западной философии второй половины двадцатого века. Именно в это время классический евразийский проект не развивался. Его реанимация произошла в конце 80-х годов XX века, совпав с расцветом постмодернизма. Для того чтобы выяснить, отразились ли хотя бы косвенно черты модерна в идеях евразийцев и можно ли считать евразийство неким примером русского модерна, обратимся к рассмотрению понятия «модерн». В России слово «модерн» чаще всего употребляется как название особого стиля в искусстве двадцатого столетия (например, «модерн начала века»). В западной истории искусства слово «модерн» также употребляют и в этом смысле. В философских же спорах на Западе понятие «модерн» (немецкий термин «die Moderne» и английский «modernity») закрепилось как совокупное обозначение исторической эпохи нового и новейшего времени с характерными для нее особенностями социального развития, культуры, искусства, философии.
В чем же особенности модерна как идейного проекта, ставшего смысловой точкой сборки исторического отрезка длиною в столетие? Тойнби, например, считает началом модерна эпоху Просвещения, полагая, что основой модерна являются процессы модернизации, индустриализации, нарастающая дифференциация деятельности, разделение труда, функций, социальных ролей, а также связанные с модернизацией процессы беспрецедентной координации, концентрации, интеграции, дифференциации деятельности.
В единой системе с этими принципами действия существует и развивается инструментальная рациональность, то есть умение превратить процедуры и методы человеческого разума в максимально точные инструменты познания и преобразования окружающего мира и самого человека. Институци-альной дифференциации соответствует дифференциация интеллектуальная: познавательная сфера профессионализируется, дробится. Происходит взаимообособление тех сфер, которые раньше существовали в единстве. Самое главное обособление - секуляризация знания, его отделение от религии и теологии. Опытное знание отделяется от философии. Взаимообосрбляются «ценностные сферы» науки, права, морали и искусства.
Соответственно упомянутым правилам-принципам действия, находящим воплощение в практике, строится модель или «проект» человека разумного, познающего и самопознающего «человеческого агента», который, как полагали в эпоху модерна, способен дисциплинировать, воспитать, переделать самого себя в соответствии с требованиями разума. Считается, что в центре проекта модерна - познающий субъект как исходный пункт философии. Это касается по существу всех философских направлений. В гносеологии, онтологии, равно как и в философии политики и общества индивидуум выступает как потенциальный носитель рациональности, которую он привносит в производство, рыночные отношения, в повседневную жизнь, в политику, общение, культуру.
Для модерна характерен культ науки, «онаучивание» знания и практики, вера в научно-технический и социальный прогресс. Рациональность, обращенная в сторону природного мира, понималась как господство и контроль человека и человечества над природой. Подобным образом в социальной сфере речь могла идти о рациональности, скорее направленной на господство, применение власти, контроль над обществом и индивидуумами, чем на их самостоятельность. Поэтому, как считают критики модерна, рациональность эпохи модерна можно назвать господствующей и контролирующей рациональностью, которая чаще всего не имеет ничего общего с рациональностью понимания и взаимопонимания, бережного отношения к природе и человеку.
Считается, что в эпоху модерна во главу угла был поставлен «тотальный миф прогресса», а производными от него стали многочисленные социальные мифы и утопии. «Модернизм», утверждают некоторые авторы, рассматривал себя как «конечную станцию истории». Отсюда засилие в эпоху модерна утопических проектов, массовая вера в обещания и иллюзии. Расплатой за «тотальные» прогрессистские иллюзии стал глобальный риск XX века - угроза уничтожения человечества, земной цивилизации. Немецкий социолог У. Бек, размышляя об эпохе модернити в книге «Общество риска. На пути к иному модерну», приходит к мысли, что модерн породил общество исторически беспрецедентного повышенного риска, когда «повышение производительности труда, рост благосостояния, расширение знаний, новые технологии, практически эффективная наука страшным и парадоксальным образом обращаются против человека и человечества» [6, с. 56].
Риски эпохи модерна - это и оружие массового уничтожения, и экологическая угроза, и терроризм. Характерная особенность этих рисков в том, что ни одна группа общества, ни один класс не может уберечься от потрясений такого уровня. Ядерная бомба, экологическая катастрофа стирают классовые привилегии. По мнению У. Бека, эпоха модерна «уничтожила классовое общество, превратив его в общество тотальных рисков» [6, с. 56]. Однако размышления Бека об эпохе модерна уже находятся в плоскости постмодернистского дискурса.
Что касается философов-евразийцев, то они, не используя понятие «модерн», тем не менее, выстраивали модель идеального государста-континента как альтернативу модернизирующейся Европе. Модерн для евразийцев суть атлантическая цивилизация. Если евразийцев можно рассматривать как альтернативу общества модерна, то является ли евразийство частью постмодернизма, который, в свою очередь, базировался на отрицании ключевых идеологем модренизма?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к рассморению понятия «постмодернизм».
На рубеже XX и XXI веков произошли серьезные социокультурные сдвиги, обусловленные рядом социальных и технологических процессов, перемен, затронувших экономику, политику и культуру. Общественные изменения данного временного периода нашли свое отражение в таких понятиях, как «постмодернизм», «постиндустриальное общество», «глобализация» и «киберкультура».
Вопрос о сущности и времени возникновения постмодернизма до сих пор остается спорным. Бесспорно лишь то, что постмодернизм возник как художественное явление. Появление новых постмодернистских форм было впервые отмечено в середине пятидесятых годов XX века в США в таких областях культуры, как архитектура, скульптура, живопись. Затем он стремительно распространился в литературе и музыке. Евразийство в середине века было, казалось, навсегда забыто и на Западе, и в России.
Неоевразийство: новизна концепции и социокультурного содержания
В настоящее время понятие «неоевразийство» еще содержательно не устоялось в научном философском мире. Ни в одном новейшем философском словаре мы не найдем термина «неоевразийство». Вместе с тем понятие широко употребляется рядом ученых и публицистов, пытающихся обозначить преобразования, наметившиеся в классическом евразийском философском проекте на рубеже XX-XXI веков.
Деидеологизация России времен младореформаторов маятником качнула российское общество в ностальгию по «идее-силе». Представители творческой и научной интеллигенции, а вскоре и некоторые политики начали процесс реанимации евразийского идеологического процесса. На сей раз он воскрес уже с приставкой «нео».
Оформление неоевразийства в отдельный проект изначально происходит на фоне реанимации круга евразийских идей, что во многом и было инициировано лидерами неоевразийства, заявлявшими себя правопреемниками традиционного евразийского движения.
Причудливое, внутренне противоречивое, культурологически глубокое и излишне интеллектуальное, евразийство образца двадцатых годов прошлого столетия вызвало интерес в интеллектуальной и политической среде. Вместе с тем для широкого распространения требовалась адаптация к современным условиям. Евразийству необходимо было придать современное звучание, которое бы органично вписывалось в многоголосный социокультурный контекст конца двадцатого века.
На сегодняшний момент отсутствует четкая дифференциация неоевразийства. Однако в контексте данного исследования можно выделить пять идейно-научных школ, считающих себя последователями евразийцев и рамочно являющихся составляющими понятия «неоевразийство». Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что первым идейным основателем неоевразийства был А. Дугин, под патронажем которого неоевразийство осуществило радикальное и системное развитие идей классического евразийства.
В то же время и само неоевразийство успело претерпеть сложную эволюцию. Оно началось как крайне странное образование, похожее на оккультный кружок, преломляясь и развиваясь через судьбу его единственного основателя и идеолога А. Дугина. Личная политическая судьба Дугина, его стремления, искания и отражают эволюцию неоевразийства как идейно-политического течения.
В 1988 году Александр Дугин начинает пропагандировать философию французских традиционалистов, в частности Ю. Эволы и Р. Генона, основной социальной идеей которых является идеализация кастового строя Древнего мира. По их мнению, из-за смешения социальных каст духовных типов происходит упадок человечества, его закат. Александр Дугин начинает приходить к выводу, что пик заката близится, видя, каким курсом идет перестройка и что происходит во всем мире. В это время он занимает крайне радикально-консервативные позиции и в своих выступлениях торопит слом Советского строя, как обветшавшего и дряхлого образования.
В 1991 году А. Дугин знакомится с А. Прохановым и другими левыми интеллектуалами, с этого момента его взгляды кардинально меняются. В это время начинает издаваться журнал «Элементы», в котором ведется поиск нового синтеза, способного остановить разложение и распад России. А. Дугин сотрудничает не только с так называемой левой оппозицией, но и оживленно контактирует с крайне правыми и крайне левыми интеллектуалами за рубежом (А. де Бенуа, Р. Стойкерс). А. Дугин изучает и переосмысливает труды классических евразийцев, читает лекции и ведет семинары.
В 1993 году А. Дугин разочаровывается в идеях крайних левых и отходит от идеи сохранения и возвращения империи в старом советском виде. Это время краха надежд на открытое вооруженное сопротивление «медио-кратической» власти кремлевских либералов. С 1993 по 1998 годы происходит развитие доктрины неоевразийства, выходят основные работы А. Дугина «Консервативная революция» (1994), «Мистерия Евразии» (1996), «Конспи-рология» (1994), «Метафизика Благой Вести» (1996), «Основы геополитики» (1997), «Тамплиеры пролетариата» (1997), в которых классическое евразийство объединяется с самым разным набором политических идей и взглядов. Он синтезирует цивилизационный и геополитический подходы с социальным и этническим измерением реальности.
Кроме того, постепенно складывается неоевразийское движение, появляются его первые критики слева и справа. Именно в этот период движение получает денежные средства от общественных фондов «Кавказ», «Единение» и выпускает большое количество брошюр и программных заявлений. А. Дугин одновременно поворачивается к Православию, критикуя Рене Генона за его недооценку христианства.
Таким образом, начиная с 1998 года, происходит окончательный синтез разных частей доктрины неоевразийства. Формируется неоевразийская ортодоксия, характеризующаяся двумя существенно новыми чертами по сравнению с классическим евразийством. Во-первых, это признание советского периода в истории русского государства, как однозначно положительного в целом явления. Во-вторых, переход А. Дугина в старообрядчество и его радикальная апология.
С 2001-2002 гг. неоевразийство оформляется как полноценное общественно-политическое движение, а затем и как партия «Евразия» (30 июня 2002 года), которая заявляет о своем радикальном центризме и поддержке политики президента России В. Путина, а сам А. Дугин становится советником спикера Госдумы по геополитике. В это время о вхождении в ОПОД «Евразия» заявил глава Центрального Духовного Управления мусульман шейх-уль-ислам Т. Таджуддин.
«Евразия» как партия отныне избирает путь легальной политической борьбы. Однако, по замыслу А. Дугина, евразийство не должно замыкаться исключительно на деятельности в рамках партийной системы. Главной целью евразийства до сих пор является идеологическое воздействие на военно-политические круги РФ с целью их инициации. Здесь просматривается даже некоторый социальный утопизм, окрашенный в тона теории заговора.
А. Дугин однозначно понимает, что шансов на полную победу у евразийской партии в рамках парламентской борьбы нет никаких. Вследствие этого он выбирает воздействие на верхушку исполнительной власти, то есть на тот уровень власти в РФ, который бы обеспечивал ему частичный контроль над СМИ. Этот контроль важен для А. Дугина и его партии как воздух, так как СМИ в России являются проводниками западной неолиберальной идеологии, которая не позволяет другим идеологиям вступать в открытую полемику с собой.
Таким образом, у партии «Евразия» прослеживаются три основных вектора политической деятельности. Это собственно партийная работа. Под нею понимается прием в партию новых членов и организация партийных ячеек, выпуск партийной газеты, брошюр и иной литературы, возможное участие в региональных или парламентских выборах. А также научная и идеологическая деятельность.
Собственно говоря, это работа с самими членами партии по развитию неоевразийского учения, осуществляемая ядром партии во главе с А. Дуги-ным, с целью более тщательного анализа различных аспектов русской истории и их разъяснения рядовым членам партии. Сюда же входит и привлечение в ряды членов партии научных кадров и творчески мыслящих людей.