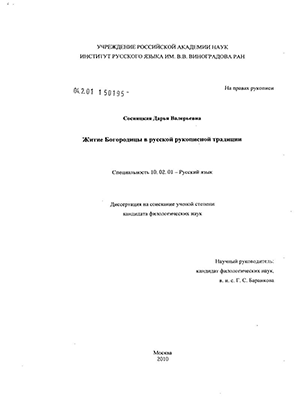Содержание к диссертации
Введение
Глава 1 Наблюдения над греческими и славянскими списками Жития Богородицы
1.1. Греческий оригинал Жития Богородицы 10
1.2. Археографический обзор славянских списков Жития Богородицы 18
1.3. Соотношение разных редакций греческого текста со славянскими переводами 23
Интерполяции во Втором славянском переводе Жития Богородицы 36
Вставная глава об иерействе Иисуса 42
Слово на успение Богородицы Иоанна Солунского 45
Глава 2 Текстологическое исследование славянских списков Жития Богородицы
2.1. Первый славянский перевод и его редакции 52
2.2. Бытование и распространение Первого перевода в славяно-русской рукописной традиции Погодинская редакция 64
Соловецкая редакция 73
2.3. Второй славянский перевод и его распространение в славяно-русской книжности 84
Глава 3 Язык славянских переводов Жития Богородицы 99
3.1. Сравнительная характеристика двух славянских переводов 101
Наблюдения над лексикой 111
Наблюдения над техникой переводов 116
3.2. Лингвистический анализ и атрибуция славянских переводов 119
Первый славянский пеевод (древнерусский) 120
Второй славянский перевод (южнославянский) 145
Заключение 156
Источники ЖБ 158
Литература 163
Список принятых сокращений 177
- Археографический обзор славянских списков Жития Богородицы
- Интерполяции во Втором славянском переводе Жития Богородицы
- Бытование и распространение Первого перевода в славяно-русской рукописной традиции Погодинская редакция
- Наблюдения над техникой переводов
Введение к работе
Произведения переводного характера в древней славяно-русской письменности занимали особое место, и поэтому подробное филологическое исследование переводных памятников не перестает быть актуальным. Составляя абсолютное большинство (не менее 90%) дошедших до нас текстов [Мещерский 1978: 3], переводные произведения предоставляют ценный материал не только по истории языка, но и по истории культуры. Основы изучения переводной письменности были заложены в трудах А.Х. Востокова, А.В. Горского, К.И. Невоструева, И.И. Срезневского, И.В. Ягича, А.И. Соболевского, Г.А. Воскресенского, И.Е. Евсеева, М.Н. Сперанского, А.В. Михайлова, В.М. Истрина, Н.А. Мещерского. В настоящее время изучение переводных памятников находится в сфере интересов целого ряда исследователей, в частности, О.В. Творогова, А.А. Алексеева, Е.М. Верещагина, Д.М. Буланина, A.M. Молдована, В.Б. Крысько, К.А. Максимовича, А.А. Пичхадзе, Н.А. Нечунаевой.
Осознание фундаментальной роли памятников письменности Slavia Orthodoxa в формировании культуры славянских народов актуализировало такие направления научного поиска, как определение круга общеславянских переводных памятников; установление их источников, времени и характера переводов; текстологическое изучение этих произведений; выявление их взаимодействия с памятниками оригинальной древнерусской книжности; разработка принципов разграничения древнерусских и южнославянских переводных произведений [Буланин 1995: 17 - 73, Творогов 1997: 186 -188, Алексеев 1999].
Предметом нашего исследования является ранее не изучавшееся переводное произведение агиографического жанра Житие Богородицы (далее - ЖБ), которое было составлено на греческом языке монахом и пресвитером константинопольского монастыря Каллистрата Епифанием в первой половине IX в. [ПЭ 18: 582], [СККДР 1988: 137 - 138]. Необходимость появления этого произведения была связана с тем, что в Евангелии мало 1 Термин, введенный в научный оборот Р. Пиккио [Пиккио 2002). 2 Отметим, что главной особенностью текста ЖБ является его аллюзнвный характер - в ЖБ содержится множество отсылок к известным авторам (например, к Евсевию Памфилу, Василию Великому, Иоанну Златоусту, Иоанну Дамаскину и Иоанну Солунскому) и произведениям, составившим фактическую основу повествовательной части Жития, - Первоевангелию Иакова, Сказанию Афродитиана. Таким образом, в ЖБ представлен особый тип повествования, который условно можно было бы охарактеризовать как «краткое жизнеописание».
5 рассказывалось о жизненном пути Марии. Почти ничего не сообщалось о ее родителях, праведных Иоакиме и Анне, об Иосифе обручнике, самой Марии, ее жизни, внешнем облике и нраве. Однако эти простые житийно-евангельские вопросы постоянно возникали в среде первых христиан, а произведения, подобные ЖБ, являлись попыткой дать на них ответ.
Первоначальными источниками внебиблейских сведений о житии Богоматери явились раннехристианские апокрифы «История Иакова о рождении Марии» (или «Первоевангелие Иакова»; вторая половина - конец II в., Египет [Teschendorf 1866: 1 -49]), «Евангелие детства» (или «Евангелие от Фомы», II в.), «Книга Иосифа Плотника» (около 400 г., Египет), «Святого Иоанна Богослова сказание об Успении Святой Богородицы» (IV - V вв.). [ПЭ 5: 486 - 504], [Апокрифы древних христиан 1989: 110]. Несмотря на то, что церковь не признавала апокрифы как источник вероучения, целый ряд сюжетов, связанных с земной жизнью Богородицы, на протяжении нескольких десятков веков считались достоверными. При этом сами апокрифические рассказы в новой отредактированной версии оказались очищены от гностического элемента и согласованы с каноническим рассказом о'Богородице, содержащимся в Четвероевангелии [ПЭ 5: 487]. Популярности и распространению сюжетов, заимствованных из апокрифов и связанных с личностью Богородицы, способствовали многочисленные переводы древних апокрифов на различные языки. Например, «Евангелие детства» апостола Фомы было переведено на сирийский, коптский, армянский, грузинский и другие языки; существует также его латинская версия (известная как «Евангелие псевдо-Матфея»). Многовековая работа по очищению апокрифических материалов, связанных с образом Богородицы, от содержащихся в них неприемлемых для церкви сюжетов привела к сложению единого и внутренне непротиворечивого предания о земной жизни Богородицы. Памяти о главных событиях жизни Марии были внесены в богослужебный годичный круг. Кроме того, апокрифическими сказаниями о Богородице активно пользовались такие знаменитые песнописцы, как Андрей Критский, Косьма Маюмский и Иоанн Дамаскин [Апокрифы древних христиан 1989: 113].
Создавая свое произведение, Епифаний в первую очередь опирался на древний новозаветный апокриф Первоевангелие Иакова [Порфирьев 1890: 10 - 12]. В основе повествования Первоевангелия лежит история о рождении Марии, ее жизненном пути, подробно рассказывается о рождении Иисуса, о бегстве святого семейства в Египет и о пришествии волхвов. Впоследствии сказания о Богородице и Спасителе, изложенные в Первоевангелии, нашли свое отражение в церковных словах на рождество Богородицы константинопольского архиепископа Тарасия, Иоанна Дамаскина, а также в церковных канонах Андрея Критского на Зачатие св. Анны и Рождество Богородицы [там же]. Епифаний в ЖБ называет Иакова первым писателем, составившим жизнеописание Марии.
Другими важными источниками для компиляции Епифания послужили Слово о рождестве Христовом Афродитиапа Персиянина и Слово об успении Богородицы Иоанна Солунского. В славянских рукописях, как правило, всегда присутствуют глоссы с указанием автора, у которого было сделано заимствование3.
Несмотря на то, что основу повествования Епифания составили раннехристианские апокрифические тексты, ЖБ в славянском переводе не было включено в индекс ложных книг [Кобяк 1984: 45 - 54]. Согласно исследованиям И. М. Грицевской, ЖБ'входило в репертуар индекса истинных книг, получивший в русской рукописной традиции название «Книгам имена» [Грицевская 2003: 114]. В данном перечне истинных книг ЖБ вошло, по мнению исследовательницы, в так называемый «агиографический блок», в котором была приведена большая подброка названий агиографических произведений [там же]. Проанализировав репертуар индекса «Книгам имена», исследовательница пришла к выводу о том, что в нем невозможно проследить «ярко выраженные связи с определенным кругом чтения», поскольку в рассматриваемом индексе нет «ни точности совпадения, ни широты охвата, ни адресации определнному читателю, ни временной привязки» [там же: 117]. Введение в индекс таких именований, как «Кирилл Туровский», «Измарагд», «Златая Матица», «Жемчужная Матица» позволили М. И. Грицевской сделать вывод о русском происхождении библиографии. Однако время возникновения индекса, старший список которого относится к XV в. (ГИМ, Музейское собр., № 798), как полагает исследовательница, установить проблематично, поскольку вошедшие в индекс «Книгам имена» памятники во многом представляют собой «периферию древнерусской книжности и изучены гораздо меньше, чем памятники, вошедшие в иные индексы» [там же: 119]. Несмотря на то, что ЖБ можно отнести к периферийным агиографическим памятникам, тем не менее, оно было весьма распространено в славяно-русской книжности. О популярности памятника свидетельствует, прежде всего, тот факт, что в первой четверти XV в. текст ЖБ вошел в состав Летописца Еллинского и Римского второй редакции (далее - ЕЛ-2), а в XVI в. был включен в состав ВМЧ, где читался в конвое проложных статей под 8 сентярбя [ВМЧ 1868: 363]. Кроме того, ЖБ входило в состав календарных сборников уставных чтений [Naumow, Kazlej 2004: 356 - 357] и Торжественник. 3 Вполне возможно, что глоссы в славянских рукописях носят переводной характер, т. е. славянский переводчик не добавлял ничего от себя, а переводил соответствующий греческий оригинал. Более подробно о характере подобных маргиналий речь пойдет в первых главах настоящего исследования в связи с рассмотрением структурных особенностей славянских переводов ЖБ.
Известны многочисленные фрагменты ЖБ с описанием внешности и нрава Марии и Иисуса, которые бытовали во множестве самостоятельно в греческих рукописных сборниках [Fabricius VIII: 258] и также были переведены на славянский. В XIV в. византийский церковный историк Никифор Каллист включил предание о внешнем виде Пресвятой Богородицы и Иисуса, заимствованные у Епифания, в «Церковную историю» [ПЭ 19: 148 - 150]. Позже это описание легло в основу иконографического изображения Богородицы [Talbot 1994].
Не менее интересным (и абсолютно не исследованным) фактом в истории бытования ЖБ за пределами Византии является существование его латинского текста, представляющего собой хореический тринадцатисложник «со свободным затактом» [Vogtlin 1888: 3], [Гаспаров 1989: 105]. Например: Sanctus Epyphanius, doctor veritatis, Salamine Pontifex Cypri civitatis, Et sanctus Ignatius, verus martyr dei, Johannis discipulus filii Zebedei, Et Johannes Damascenus, qui philosophiam Omnem suam revocavit divinam in usiam, De Maria virgine quedam conscripserunt, (Que nobis in autenticis scriptis reliquerunt) [Vogtlin 1888: 9].
В средневековой европейской рукописной традиции текст известен под названием «Vita Beatae Virginis Mariae et Salvatoris». Впервые издание этого текста, сопровожденного комментариями, было осуществлено А. Вёгтлином [1888: 9 - 268]. В предисловии к своему изданию А. Вёгтлин сообщает, что вопрос о том, когда и где появился этот латинский текст, представляющий собой переработку известного греческого текста Епифания, пока остается не решенным до конца. Однако, пишет издатель, есть все основания полагать, что латинская переработка возникла в первой половине XIII в. и была популярна в европейских странах вплоть до XVI в. [там же: 3]. Не исключено, полагает А. Вёгтлин, что автор латинского текста был весьма образованным духовным лицом. Этот текст имеет ту же структуру, что и известный нам греческий текст Епифания и соответствующие ему славянские переводы.
Несмотря на научный интерес к памятнику в филологии XIX в. (издание славянского текста ЖБ было осуществлено И.Я. Порфирьевым [1890: 295 - 311], И. Франко [1901: 370 - 383], А.И. Яцимирским [1909: 295 - 311] и В. Ягичем [1873: 60 - 62], краткие упоминания об авторе и его ЖБ содержатся также в работах И. А. Смирнова, Авд. 4 Со схемой AABBCCDD [Гаспаров 1989: 105-106].
8 Глинки, В. Г. Васильевского), текстология, язык перевода, взаимоотношение известных греческих списков с переводными славянскими не были специально изучены и описаны в достаточной мере. До сих пор отсутствует критическое издание памятника
Недостаточность сведений о памятнике ЖБ в русской славистике XIX в. объясняется прежде всего тем, что до 1860 г. обстоятельных исследований, посвященных изучению литературных источников о жизни и почитании Богородицы, не проводилось. Арх. Сергий (Спасский) связывает это с тем, что «в древних календарях праздников во имя Богоматери или нет, или мало, потому что Ей праздновали вместе со Спасителем в господние праздники» [арх. Сергий (Спасский) 1900: 12]. Только в 60-х гг. XIX в. в связи с развитием церковной журналистики появляются первые научные исследования, посвященные Богородице и апокрифическим сказаниям о ее земной жизни. Из основных работ перечислим следующие: «Памятники древней христианской письменности в русском переводе: апокрифические сказания о жизни Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери» [1860], «Апокрифические сказания Божией Матери и деяниях апостолов» [Смирнов 1873: 569 - 612], «Очерки истории южнорусских апокрифических сказаний и легенд. Пресвятая Дева Мария» [1887], «Апокрифические и легендарные сказания о Пресвятой Деве Марии, особенно распространенные в Древней Руси. Разбор их» [Сахаров 1888].
В XX в. ЖБ осталось без должного внимания исследователей, хотя о памятнике упоминается в статье О. В. Творогова в СККДР [1988: 138 - 139]. Помимо этого, следует обратить внимание на работы Е. Г. Водолазкина, посвященные в основном расчету «абсолютных дат» в хронографических древнерусских компиляциях (Палее и древнерусских хронографах), в составе которых находится ЖБ. По мнению исследователя, ЖБ явилось «хронографическом ядром», позволившим составителям летописных сводов рассчитать даты основных событий всемирной истории [Водолазкин 1996, 1999]. Между тем, история бытования и развития ЖБ в славяно-русской книжности (например, в сборниках устойчивого состава календарного типа, таких как Пролог, Торжественник, Четьи Минеи и им подобных), его взаимоотношение с другими апокрифическими сочинениями, входящими в круг неканонических преданий о Богородице, до сих пор требует специального исследования и представляет научный интерес.
Все сказанное выше свидетельствует о необходимости введения в научный оборот агиографического переводного памятника ЖБ, являющегося ценным средневековым источником по истории языка и славяно-русской книжности. Поскольку ЖБ входило в состав сборников календарного типа, таких как ВМЧ и Торжественник, в состав
9 хронографических компиляций (таких как Палея или Еллинский Летописец второй редакции), а также вошло в индекс истинных книг «Книгам имена»5, то решение вопроса о датировке и месте происхождения рассматриваемого нами памятника может носить дополнительный уточняющий характер при определении даты внесения в календарные сборники цикла Слов, посвященных Богородице, а также служить уточняющим критерием при оценке времени и места создания той или иной редакции указанных выше сборников. Помимо этого, в настоящее время язык апокрифических памятников остается малоизученной областью в славистике. Этим определяется актуальность и научная новизна данной работы.
Настоящее исследование строится следующим образом. Первая глава посвящена обзору доступных греческих изданий и источников ЖБ, а также археографическому обзору 50 славянских списков ЖБ, выявленных нами в результате разыскания и соспоставительного изучения, характеристике сборников, в состав которых было включено ЖБ. Особое внимание уделяется изучению структуры славянских переводов ЖБ с привлечением соответствующих им греческих оригиналов. В результате подробного сопоставительного анализа нами выделяются два славянских перевода, сделанных с разных редакций соответствующего греческого текста. Отдельный раздел посвящен интерполяциям - апокрифической Легенде об иерействе Иисуса, вставкам из ветхозаветных пророчеств, вставкам из Акафиста Пресвятой Богородице и подобным - в связи с описанием структуры одного из славянских переводов ЖБ.
Вторая глава настоящего исследования посвящена текстологическому исследованию 52 славянских списков ЖБ и особенностям бытования и распространения славянских переводов и их редакций в славяно-русской рукописной традиции. Кроме того, выясняются причины и время внесения ЖБ в состав ЕЛ-2 и ВМЧ. На этом основании делается предположение о верхней границе (terminus ante quem) создания одного из славянских переводов ЖБ.
Одному из самых актуальных на сегодняшний день вопросов славистики -локализации двух славянских переводов памятника - посвящена третья глава диссертационной работы. В связи с этим привлекается лексический и грамматический материал 52 списков памятника и решается вопрос о месте и времени создания двух славянских переводов ЖБ.
В основу исследования положены текстологические (и лингвотекстологическис) принципы изучения памятников славяно-русской письменности, сформулированные в трудах таких крупнейших отечественных ученых, как Д.С. Лихачев и Л.П. Жуковская. Как 5 Время возникновения которого пока не удалось установить [Грицевская 2003: 117].
10 нам представляется, именно лингвистический подход к фактам текстологии может сделать выводы по истории текста наиболее убедительными.
Целью нашей работы является выявление текстологических групп списков двух славянских переводов ЖБ и их последующая локализация, которая осуществляется на обширной источниковедческой базе (то есть с привлечением как можно большего количества списков памятника, в том числе и известных греческих изданий текста ЖБ), а также изучение бытования памятника в славяно-русской рукописной традиции.
В ходе работы решаются следующие задачи: - установление соответствия между всеми известными нам славянскими списками памятника и их греческими прототипами; определение количества славянских переводов памятника в зависимости от разных греческих редакций текста ЖБ; анализ характера разночтений между славянскими списками в соответствии с греческими оригиналами; выявление количества редакций (и текстологических групп) внутри каждого из славянских переводов памятника; определение чтения протографа каждого из славянских переводов и выявление первичной лексики переводов; исследование и изучение состава и контекста сборников, в которых содержится ЖБ; локализация славянских переводов и их редакций; определение места и времени создания славянских переводов памятника с учетом рукописной традиции каждого из них.
Данные задачи решаются на материале 52 славянских списков XIII - XVIII вв., хранящихся в библиотеках и архивах Москвы (ГИМ, РГБ) и Санкт-Петербурга (РНБ). К исследованию также привлекаются печатные издания ЖБ из Креховской Палеи XVI в., фрагменты из которой были опубликованы И. А. Лцимирским [1909: 295 - 311], фрагменты из Перемышльского Пролога начала XVI в., изданного И. Франко [1901: 370 -383], фрагменты с описанием внешности Марии и Иисуса из болгарского Сборника №48 XIII - XIV вв. из рукописного собрания Берлинской Королевской Библиотеки, обнаруженные В. Ягичем [1873: 60 - 62], печатное издание сентябрьского тома ВМЧ [1868: 363 - 379] и издание ЕЛ-2, подготовленное О. В. Твороговым [1999: 195 - 217]. В нашей работе используются также издания греческого текста ЖБ [Dressel 1843: 13 - 44], [PG 120: 185 - 216] и [Fabricius X: 257]. Практически все рукописные источники, за исключением изданных и некоторых недоступных нам южнославянских списков, изучены нами de visu.
Археографический обзор славянских списков Жития Богородицы
Агиографический памятник «Житие Богородицы», составленный на греческом языке монахом и пресвитером константинопольского монастыря Епифанием в первой половине IX в. [Draseke 1895: 346 - 362], [Dvornik 1958], является одним из ценнейших источников для реконструкции ранних преданий о жизни Марии. ЖБ было весьма распространено в средневековой Византии, о чем свидетельствует немалое количество (более 100) сохранившихся греческих списков памятника [ПЭ 18: 582]. О самом авторе сохранилось немного сведений. Известно лишь, что Епифапий написал всего два произведения - Житие Богородицы [BHG: 1049] и Житие апостола Андрея Первозванного [BHG: 94d, 95b, 95d, 102]. Краткие упоминания об авторе этих Житий содержатся у Фабриция [Fabricius X: 257] и К. Крумбахера в «Истории византийской литературы» [Krumbacher 1897: 192-193]. К. Крумбахер также высказал предположение о том, что, возможно, Епифаний жил около 780 года, во времена первых иконоборческих движений, однако с оговоркой, что окончательной уверенности в этом нет [там же]. Годы его жизни исследователь предположил на основании косвенных свидетельств - литературных источников и событий, которые упоминаются в Житии апостола Андрея и Житии Богородицы. Впоследствии версия К. Крумбахера была опровергнута в работах Фр. Дворника [Dvornik: 1958], Г. Каля [Kahl: 1989] и А. Ю. Виноградова [Виноградов: 2005]. Время жизни монаха Епифания (первая половина - середина IX в.) впервые установил Фр. Дворник, а детали его биографии - Г. Каль и А. Ю. Виноградов. Согласно данным, приводимым в исследованиях вышеупомянутых авторов, Епифаний был последовательным иконопочитателем. Известно также, что в 815 году, после начала второго периода иконоборчества, Епифаний покинул Константинополь и совершил путешествие по берегам Черного моря. Он встречался с единомышленниками в Никомидии, Синопе и на Боспоре, успел посетить Сванети и Аланию, жил в Херсонесе Таврическом. После смерти императора Льва V в 820 году вернулся на Олимп Вифинский, но позже он покинул его. Некоторое время Епифаний провел в Никее, посетил Патры.
Епифаний занимался главным образом агиографическими разысканиями, в своих сочинениях он мог цитировать большие фрагменты из источников. Однако критически относился к апокрифам, сведения других источников, зачастую противоречивые, пытался совместить. Важной заслугой Епифания следует признать обращение не только к письменным источникам, но и к преданиям.
Известно, что Житие Богородицы было написано Епифанием на основе ранневизантийского «Слова о родстве Пресвятой Богородицы» [BHG: 1092k], [ПЭ 18: 582], от которого сохранилось только начало (см., например, РІІБ, Греч-96, лл. 98-99 об., XI в.). Рассматриваемое нами произведение представляет собой своеобразную компиляцию всех известных сведений о жизни Марии, которые содержались не только в трудах византийских церковных писателей и историков, но и в апокрифических евангелиях и сказаниях. В основу повествовательной канвы Жития легли два древних источника: Первоевангелие Иакова и Сказание Афродитиана. При создании ЖБ Епифаний также делал выборку из сочинений Евсевия Памфила, Василия Великого, Кирилла Александрийского, Андрея Критского, Иоанна Солунского (фрагмент об успении Богородицы) и других известных ему авторов.
Греческий текст ЖБ входил в состав византийских четьих сборников и Миней и являлся своеобразным календарным и историческим памятником, дополнявшим и расширявшим их содержание. Однако греческие рукописи ЖБ ранее XI века пока не известны.
Сведения об изданиях греческих списков ЖБ, содержащиеся в каталоге Ф. Халкина [BHG 3: 125-126], довольно скудны. Сам памятник не привлекал к себе особого внимания исследователей-византинистов, а потому его греческая текстологическая традиция и особенности бытования остались неизученными. Между тем, Житие Богородицы было весьма распространено в славянских переводах на территории Slavia Orthodoxa, о чем свидетельствует существование известных нам трех разных по происхождению славянских переводов, выполненных в разное время на юге славянства и в Древней Руси (подробнее о самих переводах и их бытовании на славянских территориях речь пойдет в следующих разделах). Можно предположить, что обширная славянская рукописная традиция ЖБ является своеобразным отражением истории бытования памятника в византийской письменности. Однако из-за абсолютной неизученности греческих источников и недоступности для нас большинства из них проследить пути формирования и развития греческого текста Жития в нашей работе не представляется возможным.
В настоящее время нам известны три полных греческих списка ЖБ, изданных Ж.-П. Минем [PG 120: Col. 185 - 216], А. Дресселем [Dressel 1843: 13-44] и Фабрицием [Fabricius X: 257]. Фрагменты из ЖБ содержатся также в изданиях «Есотгір» [1892: 321 -326, 353, 358] и «єоАоуіа»8 (по списку gr. app. I. 003 (coll. 0944) XII sec, хранящемуся в Национальной библиотеке св. Марка в Венеции) [Xerouchakes 1933: 345 - 349], [BHG 3: 125 - 126] . В «Истории византийской литературы» К. Крумбахер указывает, что первым издателем произведений Епифания (ЖБ и Жития апостола Андрея) был Лео Алляций («Leo Allatius (Еиццлкта, Koln 1653, I)» [Krumbacher 1897: 164]). Впоследствии копии с этого издания «вошли в Венецианский корпус (Venedig 1733), а затем и в PG Ж.-П. Миня (PG 120)» [Draseke 1895: 346 - 347]. В 1783 г. Мингарелли (Mingarelli) издал греческий текст ЖБ в Anecdota litteraria (III, 39f) с латинским переводом и комментариями. Поскольку рукопись содержала «сильно испорченный текст ЖБ», то издание Мингарелли «во многом оставляет желать лучшего» [Draseke 1895: 348]. Однако именно это издание ЖБ без изменений легло в основу издания ЖБ у Ж.-П. Миня в PG [120: 185 - 216].
Другая редакция греческого оригинала ЖБ была опубликована в 1843 году А. Дресселем [Dressel 1843: 13 - 44] под заглавием «Еякрсмои uova ou icai ярєсфитгроо ттєрі той ріои xf 7PERAG1CC- Оєотокои каі TG5V xf\ t,cofy аитг] xpovcov» по пергаменному списку Vatic, gr. 0442, fol. 330 - 349 XI sec10.
Из перечисленных публикаций нам оказались доступны только три - Ж.-П. Миня, Фабриция и А. Дресселя. Текст, публикуемый Фабрицием, примыкает к изданию ЖБ у Ж.-П. Миня и так же, как и у Ж.-П. Миня, обнаруживает ряд сходных с ним пропусков и разночтений по сравнению со списком А. Дресселя. Этот факт, в свою очередь, может служить доказательством принадлежности двух списков - по изданиям Фабриция и Ж.-П. Миня - одной греческой редакции, а списка А. Дресселя - другой. В качестве текстологических примет11, характеризующих разные греческие редакции ЖБ, можно выделить шесть фрагментов12, которые наглядно иллюстрируют текстологически значимые разночтения этих списков: 1) фрагмент, повествующий о явлении звезды в момент рождения Иисуса (эта часть повествования была заимствована из Сказания Афродитиана, поэтому разночтения в списках ЖБ, вероятно, объясняются разницей в греческих списках Сказания, легшего в основу компиляции Епифания ); тексты фрагментов приводятся по соответствующим изданиям с указанием страниц:
Интерполяции во Втором славянском переводе Жития Богородицы
Как видно из таблицы, фрагменты не достигают абсолютного текстуального тождества. Возможно предположить, что два славянских текста могут восходить к одному греческому оригиналу - или, может быть, двум редакциям греческого оригинала Слова, который отличается от текста ЖБ в издании Ж.-П. Миня. Однако возможно и то, что в процессе работы над ЖБ в качестве вспомогательного источника редактор мог использовать иную, отличную от приведенной нами редакцию славянского перевода Слова. Свидетельством тому могут быть такие примеры совпадения в совершенно разных памятниках, как и се приідє гь нл ОБЛЛЦ Б. СЪ ллиожеством ь вой лгглт» (в переводе Слова) и соответствующее ему в переводе ЖБ - превысть нєпрєстлнно (все они подчеркнуты в таблице), которые могут быть объяснены привлечением известной книжнику редакции славянского перевода Слова Иоанна Солунского. Однако подобные примеры, на наш взгляд, могли возникнуть в переводах Слова и ЖБ также и независимо друг от друга. Вероятно, прояснить отношения между славянскими текстами помог бы греческий оригинал Слова. Но, к сожалению, в настоящее время текстология греческих списков Слова не изучена, а потому вопрос о влиянии текста Слова на ЖБ пока остается открытым. Кроме того, вопрос о времени возникновения и о бытовании перевода Слова и его редакций на славянской почве также не был подробно рассмотрен в науке. Таким образом, в нашем исследовании вопрос о том, можно ли признать Слово вставкой на славянской почве в настоящий,момент остается спорным.
Еще одной весьма важной и интересной особенностью Второго славяснкого перевода ЖБ является наличие во всех проанализированных нами древнерусских по происхождению списках этого перевода (а именно в Сол-370(1050), Сол-811/921, Тр-171, Тр-663, Тр-775, МДА-1(88), МДА-10(96), Вол-152, Увар-1778, Царск-76 интерполированных на славянской почве - фрагментов из Акафиста Пресвятой Богородице . История возникновения и традиция бытования этого Акафиста восходит к глубокой древности, однако до сих пор вопрос о датировке и атрибуции этого памятника византийской гимнографии не решен в науке окончательно. В настоящее время большинство исследователей склонны датировать Акафист эпохой от императора Юстиниана I (527 - 565) до императора Ираклия (610 - 641) включительно [ПЭ 1: 374]. Известно, что впервые славяне познакомились с Акафистом, вероятно, в составе Триоди Постной, «перевод которой, по косвенному свидетельству Жития св. Климента Охридского, написанного архиепископом Охридским Феофилактом, был завершен не позднее 916 г.» [Момина 1983а], [Турилов 2000: 371 - 372]. В работах М. А. Моминой были подробно рассмотрены все основные типы списков Акафиста и его редакции. Исследовательница установила, что все известные списки Акафиста Богородице распадаются на четыре основных типа (среди которых выделяется 31 редакция) [Момина 1983а, 1992]. Важнейшими этапами истории Акафиста Богородице, по мнению исследовательницы, следует признать: 1) появление его древнейшего перевода 2) появление новой южнославянской редакции, выполненной на Афоне в первой половине XIV века и введенной в широкое употребление тырновским патриархом Евфимием и 3) возникновение киевской редакции, изданной киевским архимандритом- Елисеем (Плетенецким) в конце XVI века в составе вновь переведенной им Триоди Постной40 [Момина 19836: 25-38]. Историко-догматическое содержание Акафиста распадается на две части: повествовательную, в которой рассказывается о земной жизни Марии и детстве Иисуса согласно каноническим евангелиям, а также согласно Первоевангелию Иакова (1-12 икосы) и догматическую, касающуюся учения о боговоплощении и спасении (13 - 24 икосы) [Козлов 2000: 375]. В ЖБ использованы фрагменты первой части Акафиста (1-7 икосы). Так, когда речь идет о благовещении Марии и об Иосифе, во Втором переводе ЖБ присутствуют следующие интерполяции из Акафиста:
К сожалению, по этим фрагментам Акафиста едва ли можно распознать, какая из его редакций была использована славянским книжником/редактором ЖБ. Однако, исходя из характера разночтений и опираясь на данные, полученные М. А. Моминой в ходе исследования славянских переводов и редакций Акафиста, вероятно, можно предположить, что в ЖБ использован его древний перевод (то есть до эпохи патриарха Евфимия Тырновского). Несмотря на текстологические совпадения с текстом Акафиста киевской редакции конца XVI - XVII вв. (возникновение которой связывается с деятельностью киевского архимандрита Елисея Плетенецкого [Турилов 2000: 371 - 372]), едва ли можно предположить, что славянский редактор ЖБ мог использовать именно ее, поскольку в самом старшем (древнерусском по происхождению) списке середины XV в. Тр-171, содержащем Второй перевод ЖБ, присутствуют интерполяции из Акафиста. Указание на то, что в ЖБ использовалась доевфимиевская редакция, можно обнаружить на примере фрагмента возсіїа въ ervnT fe просв Ьщєніє истинно. (Икос 6). М. А. Момина пишет, что подобная фраза употребляется «во всех списках перевода и его редакциях до эпохи Евфимия Тырновского» [Момина 1983а: 130]. Например, эта же фраза употребляется в болгарской рукописи XIV в. РНБ F. п. I. 68, л. 163 (этот список Акафиста текстологически примыкает к болгарскому списку XIII в. РНБ F. п. I. - так называемой Шафариковской Триоди, в которой представлен древний доевфимиевский перевод) в отличие от новой афонской редакции, где присутствует чтение ... просв Ьщсник КЛАГОЧЕСТИГА (БАН 13.1.19, л. 259) [там же]. Остальные фрагменты нам не удалось идентифицировать, а потому вопрос о том, какая славянская редакция Акафиста действительно вошла в состав ЖБ, пока остается открытым. Таким образом, мы подробно рассмотрели два славянских перевода в сопоставлении с их греческими оригиналами и пришли к следующим ос овным выводам: 1) при создании Первого славянского перевода автор использовал греческий оригинал ЖБ, очевидно, той же редакции, что и представленный в издании А. Дресселя (позднее этот перевод вошел в такие авторитетные сборники, как ВМЧ и Еллинский Летописец второй редакции XV века); 2) Второй славянский перевод был, очевидно, сделан с греческого оригинала той же редакции, что была опубликована в издании Ж.-П. Миня [PG 120: 185 - 216]. Кроме того, согласно нашим наблюдениям, изложенным выше, этот перевод подвергся значительной редакторской переработке на славянской почве (вероятно, даже неоднократной стилистической правке), в результате которой содержание ЖБ было дополнено и расширено за счет интерполяций (легенды об иерействе, упоминанием о ветхозаветном пророчестве о рождении Иисуса, Акафиста Пресвятой Богородице и других). Однако пока затруднительно определить, где именно - на южнославянской или на восточнославянской почве (а, может быть, в разное время на обеих славянских территориях) - была
Бытование и распространение Первого перевода в славяно-русской рукописной традиции Погодинская редакция
Сборник Тр-788 является «Соборником», объединяющим в себе избранные из Четьих Миней отдельные жития святых, память которых отмечается в разные месяцы. В их числе помещены также жития русских святых со службами (например, Житие преподобного Никона, Житие Ануфрия пустыннаго, Житие Зосимы и Савватия Соловецких со службой им, Житие Феодосия Печерского и др.).
Особого внимания и рассмотрения заслуживает сборник Рум-233 XVI в., представляющий собой Кормчую, в состав которой последней статьей вошло ЖБ Епифания в Первом переводе (Погодинской редакции). Правописание рукописи югозападнорусское, с чертами болгарского и польского. В конце рукопись дополнена русскими статьями : Слово святого Никифора митрополита всея рускыя земля, Прение святаго Никифора, Вопрошение князя Изяслава сына Ярославля внука Володымера игумена печерскаго великаго Феодосиа «О латин» и Слово Епифания «О житии святыя Богородица» [Востоков 1842 297 - 308].
Согласно исследованию М.В. Корогодиной, рассмаїриваемьій нами список Кормчей представляет собой пространный вид Лукашевической редакции, возникновение и формирование которой исследовательница соотносит с южнорусским ареалом. [Корогодина 2009]. Кроме того, более ранние сведения об этом списке Кормчей содержатся в работе Розенкампфа [1829], который связывал происхождение этого вида Кормчей с деятельностью киевского митрополита Кирилла III. Эта редакция Кормчей, как полагал Розенкампф, возникла на основе списка 1270 г. Фотиева Номоканона, присланного митрополиту Кириллу болгарским царем Святославом; сам список был составлен по толкованию Иоанна Зонары, «но большею частью включал в себя толкования Аристиповы» [там же: 290]. Вероятнее всего на югозападнорусской почве рукопись была дополнена оригинальными древнерусскими сочинениями. Однако вопрос о гом, каким образом и по какой причине ЖБ Погодинской редакции попало в состав этой Кормчей, остается открытым. Можно предположить, что в результате ошибочного отождествления книжниками/редакторами Епифания монаха с Епифанием Кипрским7 , поскольку в Кормчей ЖБ имеет заглавие: «Слово стго WU,A НАШЕ епифАній Архіеипд
купр ьсклго островл. о житій стыд кцл. и о животик л Ьтт» ЕА». Как бы то ни было, для нас в этом случае принципиально важным оказывается лишь факт включения ЖБ Погодинской редакции в конвой оригинальных древнерусских произведений, что, в свою очередь, может являться косвенным указанием на восточнославянское происхождение71 Погодинской редакции Первого перевода.
Кроме рукописи Рум-233 югозападнорусского происхождения перевод ЖБ Погодинской редакции читается в составе сборника «Измарагд». Один список этого сборника представлен в рукописи XVI века Увар-308, другой представлен в составе югозападнорусской рукописи «Измарагда» XVI века из собрания литовской БАН (№240). Эта рукопись была приобретена из библиотеки Супрасльского монастыря. На последнем листе (л. 690) имеется запись: «моть чг месяца июля кз дня ишапъ имолтума», что означает: «року 1593 Иванъ Проскура. Господи помози ми грешному рабу своему Ивану недостойному» [Добрянский 1882: 370]. Для решения вопроса о том, по какой причине и как именно могло ЖБ попасть в состав «Измарагда», обратимся к истории происхождения и формирования сборника.
«Измарагд» - древнерусский сборник устойчивого состава, предназначенный для домашнего или монастырского келейного чтения. Основную часть статей сборника составили слова и поучения на темы христианской морали. Исследователи А. Д. Седельников и П. П. Попов связывали возникновение «Измарагда» с еретическим движением стригольников, а также с антицерковным движением в XIV веке [Седельников 1934: 128 - 130], [Попов 1940: 34 - 45]. Однако причины, обстоятельства и время возникновения «Измарагда» остаются пока не выясненными. Даже датировка памятника XIV в. основана на существовании одного дефектного списка второй половины этого столетия, тогда как все остальные списки датируются XVI - XVII вв. [СККДР 1988: 397 -401]. Традиционно выделяют две основные редакции сборника. Согласно исследованиям В. А. Яковлева в первую редакцию входят 88 глав, во вторую - 165 [Яковлев: 1893]. По мнению исследователя, вторая редакция представляет собой «совершенно свободную и сильно пополненную переделку первой. Причем изменения касаются не только расположения и пополнения составляющего сборник материала новыми главами, но и переделки текста самих слов, его составляющих; иногда эта переделка была сделана на основании источников слов, причем автор ее считал необходимым ближе держаться их текста» [там же: 202]. В основном содержание и идейная направленность обеих редакций «Измарагда» сходны, но некоторые темы получили во второй редакции большее развитие. Например, расширено количество поучений о необходимости милостыни и нищелюбия, поучений с осуждением неправедного богатства, призывов соблюдать пост, напоминаний о Страшном суде, а также главы, в которых даются наставления о правилах семейного быта и брачных отношений.
Согласно исследованиям Б. М. Пудалова, существуют и другие группы списков XVI века, представляющих собой «особый тип» «Измарагда»: РНБ, F.I.288; № 240 литовской БАН; РГБ Егор-98 и Егор-912 и др. [Пудалов 2000: 76 - 95]. Этот тип, по мнению исследователя, основан на второй редакции, но пополнен дополнительными статьями, вероятно, извлеченными из Пролога . Однако вопрос об источниках «Измарагда» не решен в науке окончательно и требует дальнейшего исследования. Имеющиеся в научной литературе суждения о взаимоотношениях «Измарагда» с другими сборниками устойчивого состава требуют дополнительной проверки и могут быть подтверждены только после обстоятельного текстологического исследования всей совокупности связанных друг с другом памятников, то есть, Пролога, Торжественника, Златоуста, Златоструя и др. [там же: 90 - 95].
Рассматриваемое нами ЖБ читается в составе рукописи «Измарагда» №240 в главе 319 в контексте статей, посвященных милостыни, покаянию, долготерпению и праведному образу жизни, то есть в составе новых, дополнительных статей, вошедших в «Измарагд» позднее. ЖБ помещено в нем под заглавием «Слово Епифания архиепископа, о житии святыа Богородица, и живота ея летом». Поскольку, как мы упоминали ранее, одним из литературных источников «Измарагда» мог быть древнерусский Пролог, то вполне возможно предположить, что в состав сборника ЖБ попало именно посредством нестишного древнерусского Пролога - тем более что Первый перевод Жития читается в составе проложных статей ВМЧ митрополита Макария (хотя этот текст ЖБ принадлежит иной - Соловецкой - редакции).
Подтверждение этому предположению обнаруживается в следующем. Мы установили, что Первый перевод ЖБ Погодинской редакции входил также в качестве источника в состав так называемого Перемышльского Пролога73 XVI века, рукописи югозападнорусского происхождения7 1, из собрания Перемышльского Греко-католического капитула, которое находится ныне в Народной Библиотеке в Варшаве (Акс. 2076) . Пролог содержит чтения с сентября по декабрь. Основную часть сборника составили произведения Климента Охридского и Кирилла Туровского, в него также вошли: Сказание о Борисе и Глебе (5 сентября), Слова Климента Охридского (8, 13, 14 сентября) , Житие Михаила Черниговского и его боярина Феодора (20 сентября), Кирилла Туровского «Притча о теле и душе»; Житие Параскевы Тырновской (14 октября); Освящение церкви св. Георгия в Киеве (26 ноября) и др. В составе месяца февраля под 14 число помещено также Житие св. Кирилла Философа. Пространное описание состава этого вида Пролога под № 748 содержится в издании [Naumow, Kaszlej 2004: 356 - 357].
Наблюдения над техникой переводов
В результате подробного сопоставления списков Погодинской и Соловецкой редакций Первого перевода ЖБ с соответствующим греческим оригиналом Л. Дресселя выяснилось, что наиболее исправны в отношении передачи греческого текста списки Погодинской редакции. Как было отмечено выше, среди них особо выделяется список Пог-67, который содержит наименьшее количество диттографических ошибок -вызванных, как правило, невнимательностью переписчика - и наиболее точно отражает аутентичный текст Первого перевода ЖБ. Поэтому для дальнейшего исследования и определения места и времени создания рассматриваемого перевода (главным образом на лексическом и морфологическом материале) в качестве основного списка Погодинской редакции будет привлечен именно Пог-67. Для Соловецкой редакции основным списком был выбран Сол-500/519, 1494 г., который, как было нами отмечено, послужил основой для ЖБ, вошедшего в состав ВМЧ.
Перейдем к рассмотрению лексических особенностей Первого перевода. Для этой цели сначала проанализируем тот лексический состав списков Погодинской (на основе списка Пог-67 как наиболее исправного) и Соловецкой (на основе списка Сол-500/519) редакций, который в них не варьируется. Отметим при этом, что сложность атрибуции перевода заключается в сравнительно небольшом объеме ЖБ, а также в том, что язык памятника описывается как церковнославянский русского извода, в котором употребление лексических регионализмов сведено к минимуму. В связи с этим весьма показательной оказывается немногочисленная лексика родства, где наблюдается сильное варьирование по спискам редакций: например, лексемы лелга (так именуется Елизавета по отношению к Марии), ТСТКА - в списках Соловецкой редакции; в списках Погодинской соответственно: тетмичнл фигурирует в Пог-67 и списке из Креховской Палеи XVI века, строичнл (сестричнл) в Пог-804 и проч. Кроме того, обращают на себя внимание заимствования из скандинавских языков и греческого, а также лексико-семантические варианты общеславянских слов - то есть такие слова, которые получили в древнерусском языке специальные значения. Они, как правило, не варьируются в списках редакций и относятся нами к аутентичной лексике перевода. Из данного рассмотрения исключается старославянская лексика, зафиксированная в старославянских источниках X - XI века, а также лексика, которая представлена в более поздних памятниках кирилло-мефодиевской или симеоновской эпохи.
К числу лексико-ссмантических русизмов, отмечаемых в Первом переводе и не варьирующихся в списках его редакций, мы относим следующие слова. СЕЛО (яроаатєшу 133) - [не дошедше же ирлимд к село внфлеоллско Пог-67 л. 12] (во Втором переводе нет соответствия) в значении селение, село отмечается преимущественно для русских по происхождению памятников - Русской Правды, Пролога XV века, Лаврентьевской летописи [СлРЯ XI-XVII 24: 46 - 47], Повести врем. лет, Договорной гр. кн. Олега 907 г., Поучении Владимира Мономаха, Ипатьевской летописи, Слове Даниила игумена, Законе Судном, Псковской первой летописи (ср. села псковская и изборская); отмечено также в Ефремовской Кормчей: соущимъ въ селгъхъ и в Рязанск. Корм. 1284 г. [Срез III: 327]. В значении имение, владение, усадьба, вотчина, поместье (что в полной мере соответствует греческому) зафиксировано преимущественно в оригинальных русских памятниках: грамоты новгордск. и псковск. XV вв., Сев. гр. XV в.; кроме того, в сочетании село градное (града) отмечено в древнерусском Прологе XV в., а также в Мучении Арефы, переводном памятнике , вошедшем в состав ВМЧ (октябрь, 24, стб. 1843) в цитате изведъ же вся сущая в селгъхъ градныхь [СлРЯ XI - XVII 24: 46 -47]. В значении усадьба, поместье (ктт(р.а) слово зафискировано также в Патерике 122 Синайском XI в.13 - переводном памятнике болгарского происхождения: бяхъ же на сеть наимышкъ иже желаютъ многого, а также в Пчеле, Моск. лет. XVI в., Кормчей Балашова [там же]. Таким образом, слово соотносится в большей мере с кругом древнерусских памятников. Кроме того, лексема СЕЛО в значении селение была отмечена А. И. Соболевским в числе русизмов, имеющих решающее значение в вопросе о месте перевода [Соболевский 1980: 137]. покровт» (p,ap(pdpiov) - [одежу же чгмо рдчну ЛЮБЛЩИ И НОСЛЩИ, И свидитестт/ (sic) СВАТЫН покрова А Пог-67 л. 8] (во Втором переводе соответственно употреблена лексема омофортшъ и пояснительная глосса снр Ьчь рдлшюмосесцк) в значении плат, покрывало на голову невест, пелена , то, чем прикрывают тело, одежда слово известно восточнославянским источникам, например, было отмечено в Посланиях Ивана Грозного XVII в. 1573 г., а также в Козм., 274, 1670 г. Слово известно в более широком значении - одежда, вообще то, чем прикрывают тело [СлРЯ XI-XVII 16: 176], КСлРЯ XI - XVII вв. Кроме того, в [Срез. III: 219 доп.] отмечается производное покровьно для Лаврентьевской летописи в значении одежда в контексте: ови же ведуще косы и ке ъ покровенъ в ь СТАНІ. сво Ь. Слово известно также и старославянским памятникам, однако в совершенно ином значении, а именно крыша, защита, покровительство в соответствии с греческими axsyn,, dpdcprj, кєрар.оі в отличных от русских памятников контекстах употребления: покровомт» ОЕллгдти неко (Слепченский апостол XII века), отъкрышл ПОКрОК Ь ІДЄЖЄ ЫЕ (Зографское, Ассеманиево, Саввино, Мариинское и Остромирово евангелия), в огороди це np n CH o A "t BO. чл овгк комть покрове (Охридские листки) [SJS 25: 128]ДССС:470]. Особо следует оговорить употребление в тексте рассматриваемого перевода такой лексемы, как грлмотл в соответствии с греческим то\ урссц-цата в контексте и учижесд ЖНДОВЬСЧГБИ гримотав (Пог-67 л. 7) (отметим, что во Втором переводе этому соответствует лексема КНИГА). Слово является грецизмом, использование которого в 123 значении буква, письмена, искусство чтения и письма традиционно считается характерной чертой оригинальной древнерусской письменности [Соболевский 1980: 139], [Львов 1966], [Молдован 2000: 92], [Максимович 2001: 202]. Считается также, что лексема заимствуется в болгарский язык посредством древнерусского (грлмотл - та урац.ц.ата буква, все, что написано ) [БЕР I: 273], [Skok I: 606]. Действительно, в значении все, что написано слово распространено в основном в восточнославянских по происхождению памятниках: встречается в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова, в Хождении Даниила игумена [Срез. I: 578 - 579], в Лаврентьевской летописи, Житии Андрея Юродивого, Сказании о Борисе и Глебе, а также в берестяных грамотах XIV - XV века [СлРЯ XI-XVII 4: 119], [СДЯ 2: 381 - 384], [Соболевский: 1980: 137]. Однако не следует упускать из виду и тот факт, что в значении буквы, письмена, алфавит слово грлмотл фиксируется также и в южнославянских памятниках, например, в Изборнике