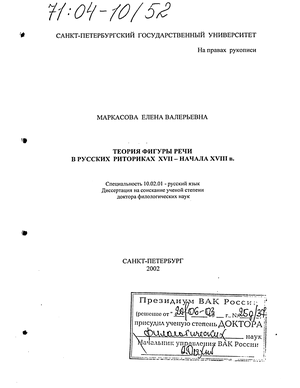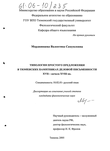Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Фигуры речи: из истории обучения и изучения 14
Вводные замечания 14
1.1. Риторика в системе тривиума и начальный этап ее освоения в российской образовательной традиции 15
1.2. Теория фигуры речи в контексте взаимосвязи грамматики и риторики сак учебных курсов (XVIII - XIX вв.) 30
1.3. Статья А.Г.Горнфельда "Фигура в поэтике и риторике" и ее значение для исследования теории фигуры 45
1.4. Образовательная традиция и проблемы изучения теории фигуры в современной отечественной русистике 53
Выводы 70
Глава 2. Концепция фигуры речи в русских риториках 72
Вводные замечания 72
2.1. Теория поэтических вольностей в латиноязычных метаязыковых текстах
2.2. Фигуры "начального чина видов" (метаплазмы) 83
2.3. Гипотетическая сфера функционирования грамматических фигур 100
2.4. Концепция "острой мысли" и представления о фигурации 103
2.5. Теория фигуры и практика редактирования поэтических текстов 108
2.6. "Фигуры грамматические" в работах современных исследователей стилистики 110
2.7. Фигуры риторические в Грамматике Мелетия Смотрицкого и риториках 113
2.8. Состав риторических фигур как показатель литературных вкусов эпохи 139
Глава 3. Теория фигуры речи и проблемы литературной преемственности 149
Вводные замечания 149
3.1. К вопросу о "громоздкости" и "прозрачности" текста 150
3.2. Риторическая организация житийных текстов 163
3.3. О фигурации курьезных текстов 176
3.4. "Плетение словес" и "ращение слов" 180 3.5.Амплификация в современной поэзии 191 Выводы 221 Заключение 222 Список цитируемых источников 227 Литература 236
- Риторика в системе тривиума и начальный этап ее освоения в российской образовательной традиции
- Теория поэтических вольностей в латиноязычных метаязыковых текстах
- К вопросу о "громоздкости" и "прозрачности" текста
Введение к работе
Сложность изучения текстов, демонстрирующих смену авторских ориентации в переходные периоды, обычно усугубляется преобладающим среди филологов интересом к памятникам, максимально значимым в общекультурном смысле. Причем такая оценка, как и причисление других произведений к не вполне существенным для видения литературного процесса, обычно основывается на отношении к ним предшественников. Формируется замкнутый круг, связанный с неприятием определенного материала и отрицанием целесообразности его изучения. Особенно остро проблема "литературной ценности" материала стоит для исследователей современной литературы, но когда речь идет об историческом аспекте изучения языка и литературы, эта же проблема поворачивается другой стороной: материал оказывается востребованным или невостребованным в зависимости от того, может ли он быть поставлен "на службу определению системы ценностей" (М.Блок). Это рассуждение имеет прямое отношение к истории исследования русских риторик, долгое время считавшихся периферийными текстами в истории русской письменности XVII - XVIII вв., а в конце XX в. заново приобретших статус источника, достойного внимания.
В России феномен "риторичности" литературы и культуры XVII - XVIII вв. оказался в центре внимания гуманитариев разных специальностей лишь в конце XX в. Новое по сравнению с предшествующим периодом видение особенностей структуры текста, как и усиление внимания к процессу его создания, привело к возникновению своеобразной моды на риторическую терминологию. Безусловно, этот процесс происходил параллельно с отказом от распространенного в 1970-е - начале 80-х гг. мнения о риториках как старомодном и бессодержательном типе текста. Следствием переосмысления места риторики является стихийное возрождение риторической терминологии в современной стилистической традиции. За последнее двадцатилетие
внимание ученых сместилось от тропов к фигурам, причем потребность в освоении этой терминологии возросла настолько, что в целом ряде словарей и учебных пособий прослеживаются попытки восстановить утраченный русистикой в течение XIX - XX вв. фонд риторических фигур.
В современной стилистике мнение о популярности риторик в России в XVII в. и их влиянии на становление искусства красноречия этого времени, а следовательно, и значимости для истории русского литературного языка, является устоявшимся. Существует ряд общепринятых положений, непосредственно касающихся содержания и культурного значения риторических трактатов: 1) риторики становятся популярными в те периоды развития общества, когда особой значимостью обладает публичная ораторская деятельность; 2) в России риторики были «привнесенными», поэтому риторическая терминология была в разной степени освоена фонетической и морфологической системой языка; 3) структура русских риторик повторяла традиционную структуру средневековых западноевропейских риторик (нахождение, расположение, словесное выражение, запоминание, произнесение); 4) риторика в России (как и в Европе в средние века и раннее новое время) была тесно связана с практикой проповедничества и, следовательно, с гомилетикой.
Овладение ораторским искусством не было делом, новым для русских книжников: риторические приемы всегда использовались в художественных текстах, но, по мнению ученых, они усваивались в процессе подражания образцам, а не на базе освоения теории (грамматики и риторики). Отношение к самому процессу написания и произнесения текстов меняется в XVII веке: возникает необходимость специально обучаться риторическим приемам, о чем свидетельствуют сборники упражнений, готовивших начинающего ритора к созданию высокохудожественных текстов (и письменных, и устных).
Применительно к истории русского литературного языка как области лингвистических знаний изучение феномена риторичности и внезапное
"открытие" русских риторик привели исследователей к иному фокусированию взгляда на корпус текстов, традиционно изучаемых в рамках существующих концепций "языка памятников демократической литературы", новаций петровской эпохи, формирования языка деловой письменности. Вслед за этим возник целый ряд новых для исторической грамматики и исторической стилистики вопросов: о роли риторик в процессе кодификации литературного языка, о соотношении грамматического и риторического в текстах, о языковой реализации разных риторических стратегий и т.д. Глобальность поставленных вопросов, непосредственная связь многих из них с проблемами истории западноевропейской культуры привели к тому, что современные опыты описания русских риторик стремятся выйти за пределы собственно филологической проблематики и уйти в философскую или культурологическую сферы. На наш взгляд, в такой ситуации важно описать фонд знаний о риторических терминах и тех понятиях, которые этими терминами именовались, иначе количество обобщений окажется несоизмеримо с количеством описанных и осознанных в этой области конкретных фактов.
Наиболее существенными в изучении русских риторик являются достижения в области их текстологического изучения (работы Л.С.Ковтун, Т.В.Буланиной, Н.В.Понырко, Н.М.Караченцевой, издания Р.Лахман), открывающие собой новые возможности видения риторической проблематики. Существующие в современной русистике опыты описания терминов, обозначающих риторические фигуры рассматриваемого периода в историческом аспекте (В.И. Аннушкин, Т.В. Василенко, Л.П. Рупосова), на наш взгляд, являются недостаточными, поскольку либо выполнены без учета новейших источниковедческих данных, либо не выдержаны методологически.
Описание фигур речи традиционно входило не только в риторики, но и в грамматики и поэтики. Современное стремление "присвоить" теорию фигуры речи, характерное и для стилистики, и для поэтики, и для культуры
речи, и для стиховедения, имеет долгую историю. (Например, в IV в. Донат предлагал считать учение о фигурах речи частью грамматики, а учение о фигурах мысли - частью риторики, но это было далеко не финалом полемики.) Однако такое "равенство прав" на теорию фигуры речи фактически привело к парадоксальной ситуации: совокупность риторических терминов, обозначающих фигуру, выглядит неким образованием, параллельным по отношению к собственно лингвистической терминологии. Восстановить судьбу этих терминов с учетом фоновых сведений о предпосылках и причинах их актуализации или уничтожения необходимо не только для науки, но и для образовательной практики.
Русские риторики, как и риторики античности, западноевропейского средневековья и раннего нового времени, предлагают читателям весьма разнообразные концепции фигур речи, традиционно входивших в раздел элоквенция. Изучение этого раздела, по мнению риторов, воспитывало чувство стиля, а это чувство позволяло по-разному оценивать уместность или красоту каждой риторической фигуры. В зависимости от общей направленности каждого риторического руководства одни типы фигур описывались максимально подробно, другие не упоминались вообще. Различия в описаниях риторических фигур могли заключаться как в количестве и подборе терминов, обозначающих фигуры речи, так и в степени подробности комментария к ним. В каждом описании, на наш взгляд, прочитываются авторские пристрастия, угадываются эстетические предпочтения и иерархия языковых средств, соответствующая литературным вкусам эпохи, переводчика, автора данной риторики либо риторики, послужившей ее источником.
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью восстановить начальный терминологический фонд раздела элоквенция с целью выявить исторические этапы накопления, а затем утраты терминов, различающихся степенью востребованности на разных этапах существования филологической науки. На наш взгляд, это единственный способ уйти от
диспропорции между масштабностью полученных учеными выводов и состоянием изученности материала, имеющего прямое отношении именно к русской риторической традиции. В современном гуманитарном знании существует установка на междисциплинарность, поэтому возрастает необходимость выявить точки соприкосновения разных терминологических традиций. Наша работа открывает возможности для углубления интеграционных процессов в гуманитарных науках. История представлений о фигурах речи позволяет по-новому взглянуть на хорошо изученные вопросы языка и литературы. Новизна исследования заключается в том, что мы впервые предлагаем проследить историю терминов, обозначающих фигуры речи, параллельно с историей явления на фоне триединства, складывающегося из собственно литературных образцов, образовательной традиции и практики научного описания того и другого. В связи с этим впервые подвергаются комплексной аналитической обработке сведения, полученные из хронологически и типологически различных источников, прежде рассматривавшихся изолированно или не привлекавших внимание лингвистов. Нами предпринимается первое в русистике исследование фигуры речи (термина и феномена) в диахроническом аспекте. Анализ предмета исследования на таких основаниях предполагает и новизну методологической установки. Наиболее продуктивным для разработки темы мы считаем метод регрессивного анализа. Характеризуя его, французский историк Марк Блок писал о необходимости преодолеть влияние "идола истоков", или "мании происхождения", гипнотически затемняющей для представителей гуманитарных наук проблему нетождественности истоков и причин (нередко неоправданно контаминируемых)1. "...Было бы грубой ошибкой полагать, что порядок, принятый историками в их исследованиях, непременно должен соответствовать порядку событий. При условии, что история будет затем
1 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. Изд. 2. М., 1986. С. 19-20,
восстановлена в реальном своем движении, историкам иногда выгодней начать ее читать <...> "наоборот""2. В рамках этой исследовательской парадигмы сохраняют эффективность традиционные методы — описательный, сравнительно-исторический, статистический.
Цель данной работы заключается в реконструкции того начального фонда сведений о терминах раздела элоквенция, которым владели книжники XVII- начала XVIII века. Такая реконструкция предполагает воссоздание картины эстетических предпочтений человека, бывшего сторонником определенной риторической концепции. Достижение цели предполагает комплексное решение следующих задач: 1) общее описание системы тривиальных знаний в России XVII - начала XVIII в. и ее последующей эволюции, 2) выявление дифференцирующих признаков понятия "фигура речи" в разных типах основных источников (грамматиках и риториках), 3) изучение различий в количественном и качественном составе терминов, обозначающих фигуры речи в основных источниках, 4) описание малоизвестных в русской терминологической традиции терминов, обозначающих поэтические вольности, как наиболее ярко демонстрирующих грамматическую природу представлений о фигуре, 5) выявление и диахронический анализ терминов, претендующих на статус универсальных (возможных в любом жанре и в любой исторический период), 6) изучение принципов фигурации в литературных образцах в соотнесении с требованиями элоквенции, 7) описание феноменов "долготы", "краткости", "прозрачности" текстов с точки зрения их фигурации, 8) рассмотрение современных литературно-художественных текстов как образцов реализации тенденций, зафиксированных риторической традицией.
Композиция работы подчинена сформулированным задачам. В первой главе речь идет о специфике тривиальных знаний в России XVII — начала
2 Там же. С.28.
XVIII в. и обусловленном ею месте теории фигуры речи в риториках и грамматиках этого периода. Дальнейший обзор концепций и взглядов, связанных с терминами элоквенции, в соответствии с принципом историзма демонстрирует наличие причинно-следственных связей не только собственно литературного характера (этот аспект не акцентирован, поскольку существует достаточно много исследований, освещающих именно данную сторону вопроса), но и образовательного и идеологического. История научного осмысления риторической терминологии представлена как продукт общей ситуации в сфере образования.
Вторая глава специально посвящена термину "фигура" и описанию двух основных групп фигур речи, выделяемых нами в системе терминов элоквенции на основе признаков 1) стабильности / нестабильности (постоянства наличия в риторических текстах) и 2) устойчивости / неустойчивости (вариативности как их функций в текстах, так и восприятия этих функций читателями, книжниками и, впоследствии, учеными).Отдельно рассматривается проблема восприятия термина "фигура" в риториках и грамматиках и процесс вынесения теории поэтических вольностей за пределы риторических учений.
Третья глава содержит сведения о реализации фигур речи в разных жанрах (житие, похвальное слово, курьезные вирши, силлабическая поэзия). На основе частных наблюдений делаются выводы о соотнесенности протяженности (краткости и долготы) и прозрачности (ясности) текстов. Рассматривается понятие "ращение слов''' как основа для формировании культа многословия в литературной традиции. В главу включен анализ риторических приемов, используемых авторами современных поэтических и прозаических текстов 1980-1990-х гг.
Объектом изучения являются описания фигур речи в русских риториках рассматриваемого периода. Предмет исследования - зафиксированные в этих описаниях теоретические рассуждения, входящие в раздел элоквенция, и
сопровождающие их примеры. Хронологические рамки исследования ограничиваются XVII - началом XVIII в., но в качестве фона используются данные более ранних зарубежных риторик и грамматик, оказавших наиболее значимое влияние (в том числе гипотетическое) на русских авторов (античные риторики и грамматики, западноевропейские памятники XVI - XVII вв.), а также сведения из истории бытования терминов, обозначающих фигуры речи, в России XVIII-XX вв.
В ходе работы мы не стремились оценить самостоятельность русских риторик по отношению к западной риторической традиции, подчеркнуть приоритеты и выстроить иерархию заимствований из иноязычных источников, выявить "научные элементы" в системе так называемых "донаучных знаний". Прогрессистский подход к филологическим источникам вообще представляется малоперспективным. Мы предполагаем, что многие современные разногласия, касающиеся природы фигуры речи и состава риторических фигур, во многом обусловлены некогда нереализованными возможностями наук тривиума в России. Общий подход к проблеме обусловливает разделение источников на две группы: 1) источники, являющиеся непосредственным объектом анализа {основные), 2) источники, составляющие фоновое знание для авторов источников первого типа либо непосредственно продолжающие риторическую традицию до конца XVIII в. и далее (дополнительные). Обе группы включают в себя тексты, типологически относящиеся к риторикам и грамматикам (также традиционно включавшим описание фигур речи).
В качестве основных источников послужили следующие тексты: Донатусъ сиречь грамматика и азбука переведенная Димитрием Толмачемъ съ латинского языка 1522-го, а списана 1563-го года; Адельфотес (1591); Грамматика Лаврентия Зизания (1596); Грамматики славенския правилное синтагма Мелетия Смотрицкого (1619); Риторика Макария (1620); Риторика Михаила Усачева (1699); Палата царскаго благоязычия Иоанникия Лихуда,
Риторика Софрония Лихуда (1716 г.); Риторическая рука Стефана Яворского (1705); Книга риторскаго всекраснаго златословия Козьмы Афоноиверского (1710); Краткое изявление слова яко же церковнаго, тако и гражданскаго Георгия Данииловского (1720-е гг.) и др.
Дополнительные источники подразделяются на три части: 1) Зарубежные риторики и грамматики, предшествующие или современные русским текстам рассматриваемого периода и оказавшие на них влияние, преимущественно относящиеся к классической и поздней античности, раннему средневековью, раннему новому времени (сочинения Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана, Доната, Диомеда, Харисия, Присциана, Альвара, Ф.Санчеса, Ф.Меланхтона и др.). 2) Русские и переводные риторики XVIII в., включая сочинения М.В.Ломоносова, В.К.Тредиаковского, А.П.Сумарокова, М.Н.Сперанского, Х.Блера, Г.Гальяра и др., а также учебные пособия, претендующие на трансляцию риторической традиции в XIX в. При этом по отношению к фоновым источникам мы считаем методологически важным привлечение текстов, не сопоставимых друг с другом по своей культурной значимости. 3) Литературные тексты, анализируемые с точки зрения реализации в них теории фигур: жития, похвальные слова, вирши, а также, с целью диахронного анализа позднейшей трансформации риторической традиции, современные поэтические тексты.
Основные результаты исследования получили отражение в публикациях, а также были изложены в докладах на заседаниях сектора Древнерусской литературы ИР ЛИ (Пушкинского Дома) в 1996, 1997, 1999 гг., на Межвузовских научно-методических конференциях Филологического факультета СПбГУ (1997, 1998, 1999), международных и межвузовских конференциях "Pogranicze kultur narodowych" (Белосток (Польша), 1995,2000), "Проблемы поэтики языка и литературы", посвящ. памяти Я.И.Гина (Петрозаводск, 1996), "Первые Лихудовские чтения" (Новгород, 1998), "Риторика в свете современной лингвистики" (Смоленск, 1999 и 2000 гг.),
"Культура: соблазны понимания" (Петрозаводск, 1999), "История и филология: проблемы научной и образовательной интеграции на рубеже тысячелетий" (Петрозаводск, 2000), "Образы России в научном, художественном и политическом дискурсах" (Петрозаводск, 2000), "Преемственность и разрывы в интеллектуальной истории" (ИВИ РАН, Москва, 2000), "Культура и власть" (Институт им. Лотмана, Бохум (ФРГ), 2001), Чтениях памяти В.И.Рутенбурга (СПбФИРИ РАН, 1999), Первых Лихудовских чтениях (Новгород, 1998), в лекции, прочитанной для слушателей летней школы медиевистов в ИВИ РАН (2001) и др.
Риторика в системе тривиума и начальный этап ее освоения в российской образовательной традиции
Вероятно, среди высказываний, отражающих мнение русских книжников о риторике, самый высокий "индекс цитирования" имеют слова протопопа Аввакума: "Яз есть селской человек, учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывал, учюся книгам благодатного закона"1. Эти слова, удивительно напоминающие классическое высказывание о грамматике ("Я не согласен с Донатом, потому что считаю, что Писание Bbime"[Robins 1951,71].), дали импульс к созданию образа романтически-прямолинейного и малообразованного Аввакума и долгое время служили доказательством отрицания им идеи книжного знания. 1 Цит. по: [Успенский 1988, 208]. См. анализ византийских влияний на русскую систему образования и представлений об "афинских мудростях"[Буланин 1991].
Обе цитаты имеют отношение к истории клише и стереотипов мышления [Гаспаров 1996, 116-143]; [Клубков 2000,144-154], но, как убедительно показано в работах Б. А. Успенского[Успенский 1988, 208]., Д. М. Буланина [Буланин 1991,224-248]., лишь опосредованно отражают отношение в обществе к тривиуму. Вопрос об общем уровне образованности на Руси традиционно дискуссионен2, однако нас интересует сейчас иной аспект проблемы: существовали ли возможности для более раннего (до XVII в.) восприятия грамматики и риторики как последовательно связанных курсов.
Нередко считали, что Русь была "страной, погруженной во мрак невежества", а время Максима Грека называли "темным веком" (Иванов А. И. Максим Грек как ученый на фоне современной ему русской образованности // Богословские тр. М., 1976. Вып. 16. С. 173). В XVIII в. такого мнения придерживались, например, В. Н. Татищев, А. Д. Кантемир, М. В. Ломоносов, Филарет Гумилевский. А. С. Архангельский писал: "Образованность народа во все продолжение периода XI-XVII вв. остается на самой низкой ступени, почти совершенно отсутствует ... мысль русского народа, лишенного образованности, принимает крайне ненормальное направление в сторону церковнообрядовую" (Архангельский А. С. Образование и литература в Московском государстве конца XV-XVII вв. Казань, 1898. Вып. 1. С. 2-16). С другой точки зрения, сторонники которой также претендуют на объективность, неверно считать Русь страной невежества, поскольку хорошо известны памятники оригинальной и переводной литературы, созданные под влиянием культурных связей с Византией; памятники делопроизводства, написанные на русском языке, но с оглядкой на западную традицию делопроизводства. На наш взгляд, внутренняя логика сторон здесь не противоречива, но выводы относительно "образованности" делаются на основе анализа несоотносимых фактов: фактов массовой и элитарной культуры.
Теория поэтических вольностей в латиноязычных метаязыковых текстах
В этом разделе исследования мы предпринимаем анализ фигур речи не на основе литературных текстов, а на основе их дефиниций и "парадигм" (образцов), поскольку это, видимо, единственный способ постиоісения взглядов русских книжников на природу фигуры речи, не отягощенный нашим читательским опытом. Мы опираемся на идею зависимости представлений о фигуре от эстетических пристрастий книжников, литературной, идеологической и научной конъюнктуры.
Фигура речи - трансформируемая модель соединения исторически изменчивых элементов в рамках слова, словосочетания, предложения, обладающая жанровой привязанностью, исторически меняющейся частотностью, имеющая психолингвистическую природу.
Как и в западной традиции, термин фигура {схема) не был исключительно риторическим: В России он также был зоной пересечения интересов грамматики, риторики и поэтики. В русских грамматиках домакариевского периода мы видим в качестве синонима фигуры и схему (схиму), и начертание. Рассуждения о природе начертания в русских грамматиках достаточно однотипны. Они строятся на представлении о том, что есть некое "речение", которое не делится на "значащия части".
На основе грамматик формировалось восприятие терминов фигура и схема как терминов, служащих для обозначения некоего "изменения" слова с помощью формообразующих или словообразовательных аффиксов. "Начертания" делятся на простые, сложные и пресложные. Это разделение соотносимо с делением слов на членимые ("простые") и нечленимые ("сложные и пресложные"). Слова "сложные и пресложные" "начертаваются" от простых. Каждая часть речи имеет свое количество начертаний: у предлогов, например, начертаний может не быть,
у глаголов может быть два (простое и сложное) (так у Лаврентия Зизания) или три, у имени - три и т. д. Для всех классификаций важна соотнесенность "нулевого" начертания с "ненулевым". Хронологически далекие друг от друга тексты грамматик следуют именно такой логике.
"Книга философская о осмих частех слова" (XV в.), впоследствии бывшая первой печатной грамматикой славянского языка [Кульман 1917, 9], изначально сформировала восприятие термина начертание: "простое - Павел, Петр; сложное — Радослав, Добромир; пресложное — благоповестник, злоприятен. "еже от трех частей слова слежится".
В Адельфотесе (1591) начертания именуются схемами: "о начертании, несу - простое; наношу - сложное, произношу - пресложное".
Грамматика Лаврентия Зизания 1596 г. демонстрирует возможности "начертаний" в разных частях речи так: "Имя. О начертании. Колико есть начертаний? Три. Простое, сложное и пресложное. Что есть простое? Егда речение просто сущее, в часть значащия разделитися не может. Яко слово. Что есть сложное? Когда речение сложное сущее, в части значащия разделитися может. Яко благословен" [Грамматика словенска 1596. Л. 24 об]
"Что есть пресложное имя? Егда пресложное от трех частий бывает. Яко преблагословен" [Грамматика словенска 1596, Л. 25 об.]
Аналогичным образом построены рассуждения о "начертании" местоимения ("Колико есть начертаний? две. Простое, яко аз, сложное яко аз сам, ты сам, той сам, он сам" [Грамматика словенска 1596, Л. 43 л.]), глагола ("простое, яко пишу, несу, сложное, яко преписую, наношую") и наречия ("простое, яко крепце, сложное, яко благочинне" [Грамматика словенска 1596, Л. 81 об.]
К вопросу о "громоздкости" и "прозрачности" текста
Панегирик как жанр ораторской прозы был достаточно хорошо известен русским книжникам благодаря их знакомству с греко-византийской книжной культурой [Панегирическая литература 1979; Елеонская 1990; Памятники общественно-политической мысли 1983]. Полифункциональность панегирика, унаследованная от греческой традиции, сделала его весьма популярным в русской литературе, но эпоху расцвета этот жанр переживает в XVII — первой половине XVIII в., что естественным образом обусловлено практикой преподавания поэтики, риторики, гомилетики и синтезом литературных традиций Украины, Белоруссии и России.
Образцы похвальных слов обычно исследуются не только с точки зрения их литературной значимости, но и как памятники общественной мысли. Разнообразие поводов для создания похвальных слов было обусловлено исторической ситуацией и связано с конъюнктурой тематики, разрабатываемой при обучении. Умение составить слово считалось престижным, воспитанники разных учебных заведений могли претендовать на разные государственные должности, а сама "перспективность" таких занятий немедленно сказалась на наполняемости классов риторики [Аскоченский 1856, 134-136; Хижняк 1988, 99-100]: литературное творчество находило благодарную аудиторию в определенных политических кругах. Воистину жестоким в этой ситуации выглядело решение Петра I о трехлетнем "замкнений уст" Стефана Яворского.
Панегирик развивается не только как самостоятельный жанр: он может быть представлен и в других жанрах (проповедь, житие, конклюзия).
Похвальные слова составлялись в соответствии с определенными риторическими требованиями [Цицерон 1994, 199-200; 225-226; 358-359. Античные риторики 1978. 43-49], поэтому зачастую особо преуспевали в создании панегириков сами составители риторик (Стефан Яворский, братья Лихуды, Андрей и Симеон Денисовы, Феофан Прокопович, позднее -М. В. Ломоносов). Тем более интересно рассмотреть эволюцию стилистических средств жанра, сравнивая похвальные слова М. В. Ломоносова с образцами доломоносовского периода. Как известно, показателем ораторского мастерства теоретики красноречия считали умение "распространить свой предмет" [Цицерон 1994, 225], или "амплефековати". В конце XVII - первой трети XVIII в. риторики требуют "наращати слова" (отсюда и позднейшая экстраполяция названия приема на стиль текстов, составленных на основе этого приема -"ращение слов" применительно к текстам этого времени). Можно предположить, что выстраивание М. В. Ломоносовым "словесных зданий" - закономерное продолжение того пути, который был намечен в русских риториках предшествующего периода [Гуковский 1939, 110].