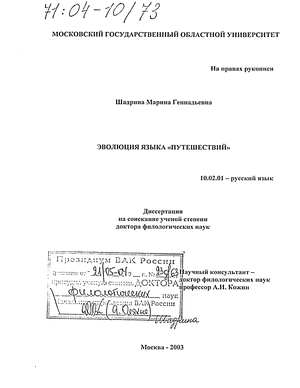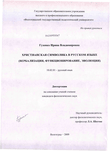Содержание к диссертации
Введение
Глава I. История развития жанра: хоженис — хождение — путешествие 26
1.1. Жанровые особенности хождения 26
1.2. «Хождения» как ранний этап развития русской литературы «путешествий»
1.3. Развитие хождений до XIX века 76
1.4. Особенности «хожений» XIX века 94
Выводы 112
Глава II. Эволюция языковых единиц функционально-смыслового типа речи «описание» в литературе «путешествий»
II. 1. О понятии описание 115
П.2.Дейктические слова-указатели пространственного положения дорожных объектов
И.З.Лексика зрительного восприятия в описательных фрагментах 136
11.4. Тематические группы и особенности описания объектов наблюдения
11.5. Описания лиц 166
Выводы 178
III. Стилистическая организация событийной линии путешествия 181
III. 1. Метатекстовые структуры: виды и роль в создании повествовательной рамки 181
III. 2. Образ текстового адресата и его роль в повествовании 190
III. З.Способы обозначения пространственного положения героя- путешественника
III. 4. Тематика и формы организации дорожнобытовых эпизодов 217
Выводы 233
Глава IV. Эволюция изобразительных средств в религиозных «путешествиях»
IV. 1.Анализ основных типов эпитетов в религиозных путешествиях 236
IV. 2.Специфика употребления сравнений в паломнических хождениях 268
IV. 3. Типы метафор, их смысловая и структурная трансформация 301
IV. 4.0собенности метонимии и синекдохи 313
IV. 5. Хронологическое изменение художественных средств в паломнических хождениях
Выводы 365
Заключение 368
Список использованной литературы 374
Список источников 392
- Жанровые особенности хождения
- О понятии описание
- Метатекстовые структуры: виды и роль в создании повествовательной рамки
Введение к работе
Известный английский философ Б.Рассел различает индивидуальное и общественное познание, приписывая первому энциклопедичность, а второму знание «интимных вещей, которые составляют колорит и самую ткань индивидуальной жизни». При этом научное познание, согласно точке зрения ученого, связано с коллективным разумом человечества, то есть с общественным познанием. Индивид обладает через свой опыт познанием, который не имеют другие, но автор может создать у восприимчивого читателя восприятие информации о действительности, близкой к собственной. В 70-80-е гг. XX века историки культуры активно разрабатывали вопрос о распространении научных знаний, о формировании общественной среды, способной воспринимать новые научные идеи, поддерживать ученых в их поисках.
«Образ другого» в историческом аспекте - понятие сложное, уходящее корнями в историческую реальность, в эволюцию общественного сознания на определенных поворотах мировой и отечественной истории. Представления об иных народах получили в науке наименование "этнические представления". Они, как правило, не просто включают в себя те или иные мнения, но и выражают эмоциональное отношение к объекту. Эти представления различаются по степени их достоверности и детализации, кроме того, меняется, и иногда существенно, их эмоциональная окраска. Этнические представления складываются исторически и зависят от ряда факторов, в частности территориальной близости, длительности исторических связей с данным народом, характера этих связей. Различные представления существовали в разных слоях общества. Книжники, естественно, имели гораздо более детальные и обычно более достоверные сведения о том или ином народе по сравнению со стереотипами, существовавшими в массовом сознании.. Этнические представления "являются органической частью духовной жизни общества, которая складывается из идей, концепций, мировоззрений и чувств, господствующих в данное время в обществе", - пишет Н.А. Ерофеев (Ерофеев, 1982: 2). Информация об этих этносах и культурах - неотъемлемая и принципиально важная составляющая
национального самосознания, ибо именно эти представления позволяют судить о том, как данная нация видит свое место в мире, как она определяет отношение своей культуры к другим культурам, своей системы ценностей к системам ценностей иных народов. Действительно, именно противопоставление своей общности другим всегда способствовало фиксации этнических отличий и тем самым - данной общности в целом. И этнические представления "отражают не одну, а две реальности, или, точнее, два народа - и тот, чей образ формируется в сознании другого народа, и тот, в среде которого эти представления слагаются и получают распространение".
Отправной точкой исследования не случайно выбран именно XVIII век-эпоха принципиальных изменений в русской языковой ситуации, связанных с историческими, социокультурными преобразованиями в жизни общества и формированием науки и научного стиля. Изменения, как известно, затронули всю систему функционально-речевых сфер формирующегося литературного национального языка. В истории научного стиля вторая половина XVIII века - это период, когда происходит формирование исследуемой функционально-речевой разновидности в ее основных специфических чертах на русском языке, «становление научного стиля как единого образования (с более или менее едиными нормами), постепенно освобождающегося как от архаизмов, так и от иноязычного влияния» (Кожина, 1994. Т. 1,4.1: 87), это время блистательных успехов русской науки, эпоха образования Московского университета, учреждения Российской Академии, эпоха М.В. Ломоносова. В истории языка вторая половина XVIII века особенно значима как предпушкинский период, когда живо ощущается тенденция к сближению литературного языка с разговорным, разрушается стилевая система, основанная на соблюдении норм «трех штилей», и создаются реальные предпосылки для пушкинской языковой реформы, которая будет осуществлена прежде всего в сфере художественной литературы. Как отмечает В.В. Виноградов, уже со второй трети XVIII столетия художественная литература «становится той творческой лабораторией, в которой вырабатываются нормы национального литературного
языка» (Вопросы образования русского национального литературного языка//Вопросы языкознания. 1956, № 1. С. 3-25: 20).
Вторая половина XVIII века- важный период в истории становления публицистического стиля. Значительную роль в этом процессе сыграли сатирические журналы Н.И. Новикова, И.А. Крылова, художественно-публицистические произведения А.Н. Радищева и других писателей, продолжающееся издание первой российской печатной газеты «Ведомости», появление новых газет. В XVIII веке радикальным образом изменяется общая жанрово-стилистическая картина русской публицистики, формируется публицистический стиль в своих основных языковых качествах. Именно произведения указанных функциональных разновидностей - художественной, публицистической и научной прозы - сыграли, как известно, важнейшую роль в формировании общенациональных норм русского литературного языка. Процесс формирования русского литературного языка, характеризующийся становлением функционально-стилевых норм в пределах постепенно складывающейся кодифицированности литературного языка в целом, дифференциацией стилистических средств, представляет большой интерес для сопоставительного изучения функциональных стилей в разные исторические периоды, функционально-стилевых вариантов тех или иных текстовых образований, в том числе рассуждения, и тем самым -для исторической (диахронической) стилистики русского литературного языка. Язык и стиль автора определяются в значительной степени уровнем развития системы литературного языка, состоянием языковых норм - лексических, грамматических, стилистических. В. Матезиус пишет: «... индивидуальный авторский стиль возникает только на основе стилистических возможностей исходного языка и в границах, определенных стилистическими возможностями функционирующего объекта». Автор может нарушить литературную норму, но сам факт нарушения характеризует авторский стиль. Сознательное, стилистически мотивированное нарушение литературной нормы порождает стилистические эффекты (экспрессию, образность, комизм), напротив, «всякое неуместное со стилистической точки зрения употребление слов разрушает стилистическую структуру языка» (Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М, 1957: 139), снижает стилистические качества произведения.
Язык и стиль жанра (по терминологии В.В. Виноградова - стиля речи) (Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963: 15) также находится в прямой зависимости от литературного языка. Литературный язык второй половины XVIII века - времени, когда формировались языковые вкусы ученых-путешественников - был далек от совершенства. Функциональные стили в тот период находились в зародышевом состоянии. Язык науки, язык публицистики, язык художественной литературы противопоставлялись нечетко. Они различались скорее экстралингвистическими свойствами (функциями, степенью точности), чем лингвистическими. Языковые различия между ними в какой-то мере проявлялись лишь на лексическом уровне. Грамматические же формы, словообразовательные модели, синтаксические конструкции, используемые в научных, публицистических, художественных произведениях, существенных различий не имели. Они были характерны для литературной речи вообще. Язык науки, язык публицистики, язык художественной литературы представляли собой лишь варианты литературного языка, но не самостоятельные стили.
Основу литературного языка второй половины XVIII века образует систе
ма трех стилей, становление которой происходило под влиянием стилистическо
го учения М.В. Ломоносова. Теория Ломоносова подвергнута анализу в ряде ра
бот: Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка М., 1982:
102-163; Вомперский В.П. Стилистическое учение М.В. Ломоносова и теория
трех стилей. М., 1970; Горшков А.И. Теория и история русского литературного
языка. М., 1980: 178-184. В литературном языке того времени выделяются три
стиля - высокий, посредственный (средний) и низкий. Ядро высокого стиля со
ставляют церковнославянские слова, понятные русским, и слова, общие церков
нославянскому и русскому языкам, книжные грамматические формы (например,
формы превосходной степени на -ейший, -айший, -ший; формы причастий;
возвратные формы страдательного залога на-ся и др.), книжные синтаксические конструкции (например, латино-немецкая конструкция с глаголом-сказуемым в конце предложения). Высоким стилем составлялись «героические поэмы, оды, прозаические речи о важных материях» (Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. М. -Л., 1952. Т. 7:589). Средний стиль состоит из слов, общих для церковнославянского и русского языков, просторечных слов (но не вульгарных), небольшого количества церковнославянизмов, нейтральных, разговорных, книж-
ных грамматических форм и синтаксических конструкций. Средним стилем пишутся драматические произведения, стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги. «В прозе предлагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных» (там же: 589). Низкий стиль состоит из общеупотребительных, просторечных слов и выражений, стилистически нейтральных грамматических форм и конструкций, разговорных форм (например, окончание -у в родительном падеже единственного числа у имен существительных мужского рода; деепричастия на -ючи и др.). Низкий стиль используется при написании комедий, эпиграмм, дружеских писем, при изложении обыкновенных дел, происшествий.
Итак, для высокого и низкого стилей характерна изолированность отдельных языковых пластов, для среднего стиля - высокая степень проницаемости языковых средств, имеющих различную стилистическую окраску. Смешение в среднем стиле (самом употребительном) книжных и разговорных языковых форм приводило к стилистической неоднородности текста.
Исследователи отмечают, что литературная практика наиболее значительных писателей второй половины XVIII века (Новикова, Фонвизина, Крылова, Державина, Радищева) не укладывается в рамки ломоносовского учения (Горшков: 201). Однако в научных трудах того времени языковые средства используются в полном соответствии с теорией М.В. Ломоносова. В.В. Виноградов, характеризуя основные процессы развития языка, отмечал, что «с середины XVII века эволюция русского литературного языка решительно вступает на путь сближения с московской приказно-деловой и живой разговорной речью образованных слоев русского общества, ломая систему славяно-русского типа». В этом ряду следует рассматривать и «записки путешествий», яркий образец светского делового стиля, литературно обработанного и сближающегося с языком беллетристики и публицистики XIX века. Дифференциация литературных жанров, происходившая на протяжении XVIII-XIX вв. и их последующее совершенствование, возникновение новых литературных жанров способствовали развитию не только языка художественной литературы, но и литературного языка в целом (Кожин, 1989: 152).
Литература «путешествий» (синонимами являются следующие названия: хожение, хождение, записки путешествий, путевые записи, очерки
по пути, дневные записки, путешествие) занимают в литературе значительное место. Мы берем в качестве рабочего определение, сделанное Д.С. Лихачевым, который под термином «литература путешествий» подразумевал «широкий круг источников, написанных в виде путевых дневников или по материалам, собранным во время путешествий».
Согласно данным Словаря русского языка XI-XVII вв. первая фиксация лексемы путешественник была отмечена XVII веком, в то время как производящая лексема путешествие известна с XII века; были отмечены и варианты путошъствъе, путъшьствие. Лексемы путешествие и путешественник стали популярными в XVIII веке, так как программу воспитания в дворянских семьях завершали путешествия за границу или по России. В это же время появилась и лексема вояэ/с (франц. voyage - путешествие, поездка).
В зависимости от целей и задач путешествий мы предлагаем следующую классификацию литературы «путешествий»:
1) религиозные путешествия — «хожения», «хождения»;
Одной из наиболее древних литературных форм средневековой письменности являются хождения. Появление первых памятников путевой литературы на русской почве относится к самому началу XII века. На протяжении XII-XVII веков было создано около семидесяти произведений этого жанра, некоторые из них бытовали в многочисленных списках. Наибольшей популярностью пользовались «Хождение игумена Даниила», насчитывающее более ста пятидесяти списков, и «Хождение Трифона Коробей-никова», существующее, по данным немецкого слависта К.-Д. Зеемана, более чем в четырехстах списках. В XVII веке хождения продолжают интенсивно развиваться. К наиболее ярким памятникам этой эпохи относятся «Хождение в Святую землю» Иоанна Лукьянова, «Хождение» Ипполита Вишенского, «Хождение» В.Г. Григоровича-Барского. Почти все основные тексты паломнических хождений были изданы в Православном Палестинском сборнике в конце XIX - начале XX веков.
Несмотря на серьезную текстологическую работу, проведенную учеными, в настоящее время очевидно осознается необходимость в продолже-
ний исследований, результатом которых станут научные публикации всего корпуса паломнической литературы ХП-первой половины XVIII веков.
Религиозные «путешествия» в свою очередь можно разделить на следующие группы:
Литературно-художественные хождения, предназначенные для нравственного и познавательного чтения. Это произведения игумена Даниила, Игнатия Смольнянина, новгородские хождения XIV века, хождения А. Никитина, Тр. Коробейникова и др.
Краткие практические указатели маршрута с обозначением расстояния между населенными пунктами. К этому типу относится «Сказание Епифания Мниха о пути к Иерусалиму», «Книга Хождение во святой град Иерусалим Ярославца, Толчковской слободы посадцкого человека Матвея Гаврилова сына Нечаева» и многие маршрутные указатели, составленные на основе литературных хождений.
Записи устных рассказов о чужих странах. Примером служат «Путешествие Мисюря Мунехина в Царьград и Египет», «Хождение Арсения Селунского».
Отчеты русских послов о поездке за границу и о выполнении предписанных им государственных поручений - «статейные списки». Эти письменные памятники являются деловыми документами, хотя некоторые из них и не лишены литературного интереса, например: «Посольство Новосильцева в Турцию», «Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию», «Список Владимира Племянникова», «Отписки» Нагого», статейные списки посольства И.М. Воронцова в Швецию, Умного-Колычева в Польшу, Ф. Писемского, Г.И. Микулина и И. Зиновьева в Англию, Елчина в Дадианскую землю Василия Лихачева, Чемоданова в Венецию, Потемкина, Б.П. Шереметева, П.А. Толстого и др. На наш взгляд, «статейные списки» можно отнести к самостоятельной разновидности жанра «путешествий».
Вымышленные или легендарные рассказы о путешествиях, составленные с определенной публицистической целью. К этому типу относятся легенда из «Повести временных лет» - путешествие апостола Анд-
рея по Руси, легенда XV века - путешествие Новгородского Архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим.
На Руси паломничества в Святую землю начинаются с первых веков христианства, но как жанр складываются в начале XII века. Появление первых хожений было связано с потребностью людей "знать и видеть" Святую землю. В конце IX века светской властью был наложен запрет на массовые хожения в Палестину, так как это приносило большой ущерб княжеской экономике. Чтобы удовлетворить желание людей соприкоснуться со святыми местами, в XII веке появляются подробные записки о путешествиях по земле Христа.
XIX век даёт новый вздох-взлёт этому жанру. Его представляли такие имена, как И. Вешняков, К. Бронников, А.Н. Муравьёв, А.Н. Норов, инок Парфений, Святогорец иеромонах Серафим (Веснин) и другие. Паломничеству на Восток в XIX веке способствовала веская духовная миссия в Иерусалиме, начавшая свою деятельность в 1847 году, также созданное в 1882 году императорское православное палестинское общество. Путешествия в Святую землю в XIX веке продолжают традиции древнерусских хожений и создают новые традиции, связанные с развитием новой русской литературы.
«Хожения» начала XIX века И. Вешнякова (1804-1805) и К. Бронникова (1820-1821) структурно ориентированы на жанровый канон. Во вступлении обосновывается цель пути: «ревностное желание путешествовать в Святой град Иерусалим» (И. Вишняков) и «желание поклониться Гробу Господню» (К. Бронников), также говорится кратко об авторе и причине написания паломничества: «удовлетворить благочестивое любопытство любезных наших соотечественников знать о Святых местах». Далее авторы-паломники подробно фиксируют все тяготы пути к Святой земле, в которые входят трудный путь по суше и морю, многочисленные остановки, трудности в получении паспортов, бумаг, прохождения таможен. С максимальной точностью указываются даты пути, имена людей и даже деньги, заплаченные за переезды: «... прибыли в город потом в портовый город Одессу сентября 22-го дня по знакомству в дом 1-й гильдии купца и имя-нитаго Гражданина Лариона Федоровича Портнова».
Пребывание на Святой земле и восприятие её паломниками начала XIX века И. Вешняковым и К. Бронниковым включает два взгляда: как на свидетельство «священной» истории (отсюда включение в повествование многочисленных библейских сюжетов, описание храмов, обрядов, мощей святых и чудес) и как на конкретно-историческое место, имеющее свои народы с их историей и культурой, современным днём. Пристальное внимание к «дню сегодняшнему» на Святой земле и стремление, анализируя, давать свои суждения свойственны «хожениям» XIX века, публицистичность становится их характерной чертой.
Наибольшую любовь и популярность в XIX веке получили «Путешествие по святым местам в 1830 году» и «Путешествие по святым местам русским» (1846) Андрея Николаевича Муравьёва. Описания, сделанные Муравьёвым, принесли ему известность. Достаточно сказать, что А.С. Пушкин оставил о Муравьеве незаконченную рецензию, М.Ю. Лермонтов был вдохновлен впечатлениями Муравьёва и позднее написал стихотворение «Ветка Палестины», Н.Г. Чернышевский высоко оценил «Благочестивые впечатления русского писателя». Н. С. Лесков видел заслугу А.Н. Муравьева в том, что благодаря его сочинению русское высшее общество повернулось к духовной теме.
Религиозно-трепетным описанием Святой земли, в котором соединились лиризм повествования и научный пафос изучения, стало «Путешествие по Святой земле в 1835 году» А.С. Норова.
Одной из ярких особенностей «хожения» А.С. Норова явилось введение скрытых реалий пути из «Божественной комедии» Данте, т.к. А.С. Норов был одним из первых переводчиков «Божественной комедии» Данте. Переводы отдельных текстов нашли место в его «Путешествии по Сицилии в 1882 году». В целом «хожение» А.С. Норова на Восток следует жанровому канону и соединяет в себе эпическую содержательность, насыщенность историческими событиями и трепетное описание святых мест, непосредственные впечатления паломника.
Свое путешествие Н.В. Берг сам охарактеризовал жанром «скитаний», дав книге название «Мои скитания по белу свету». С журналистской живостью и обстоятельностью он описывает свои впечатления от путеше-
ствия в Палестину. В описаниях Берга превалирует интерес к современной жизни Святых мест. Он сообщает о житейских проблемах Святой земли подчас не только с реалистической трезвостью, но и с язвительностью. Описание Н.В. Бергом Святой земли является, на наш взгляд, полемикой с каноном хожений, желанием его опровергнуть. Точное знание структуры, мотивов и образной системы традиционных хожений оборачивается созданием своеобразного антихожения. Утверждение автора «теперь нельзя чинить перья по-старому!» приводит к постоянному противопоставлению традиционных мотивов, ценимых паломниками, и критических переосмыслений с «высоты» нерелигиозного человека. Повествование выстраивается в большинстве случаев по схеме: 1) что описывалось древнерусскими паломниками; 2) что замечает критический взгляд автора.
Ещё один тип паломнических хожений XIX века представляют так называемые иноческие «хожения»: «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святые Горы Афонская инока Парфения» (1855) и следующие канону хожения произведения Святогорца иеромонаха Серафима «Нынешний русский Пантелеймонов монастырь, на Святой горе Афонской» (1852) и «Палестина и Афон» (1872).
2) научные (ученые) «путешествия».
С 1741 года вся деятельность Академии наук, в том числе и издательская, тесно связана с именем Ломоносова. Из академической типографии вышли «Описание земли Камчатки» СП. Крашенинникова, «Описание Сибирского царства» Г.Ф. Миллера. Это были весьма солидные итоги грандиозной, не только по масштабам того времени, Второй Камчатской (справедливо именуемой также «Великой Северной») экспедиции, организованной Академией наук.
Первую Камчатскую экспедицию во главе с капитаном Берингом организовал Петр I с целью, как говорится в инструкции, подписанной им за три недели до кончины, искать, где Азия «сошлась с Америкой». Эта экспедиция была организована до открытия Академии, и поэтому Академия не приняла в ней участия, вторая же экспедиция Беринга (1732-1743) действовала под непосредственным руководством Академии наук, и
ствовала под непосредственным руководством Академии наук, и ее труды печатались в академической типографии.
В географическом изучении России весьма активная и плодотворная роль принадлежит Василию Никитичу Татищеву, автору «Истории Российской с самых древнейших времен» — первого большого обобщающего труда по русской истории. Известный преимущественно как историк и государственный деятель, В.Н. Татищев был несомненно выдающимся географом. В 1737 году он составил программу разработки теоретической и практической географии, изложенной в 198 вопросах под названием «Предложение о сочинении истории и географии Российской». В работе «О географии вообще и русской» он впервые выделяет как самостоятельную науку топографию, или «пределоописание». В составленной им первой русской энциклопедии «Лексикон российской, исторической, географической, политической и гражданской» географии и истории русских географических открытий уделено большое внимание.
В 1745 году Академия выпустила «Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую империю, с пограничными землями, с приложенною притом генеральною картою великие сея империи, старанием и трудами императорской Академии наук. В Санкт-Петербурге 1745 года». Карты были отпечатаны в двух параллельных изданиях - на русском и латинском языках, они опираются на 62 астрономических пункта и составлены в проекции, специально разработанной академиком Делилем. Этот атлас по праву составляет эпоху в географии России и в русском книгопечатании. Всемирно знаменитый математик Академик Леонард Эйлер, заведовавший в то время Географическим департаментом Академии, писал по поводу выхода в свет атласа: «География Российская приведена гораздо в исправнейшее состояние, нежели география немецкой земли». В составлении атласа вместе с Эйлером и Делилем принял участие В.Н. Татищев. Вышедший в двух томах труд СП. Крашенинникова переиздавался потом в 1786 г., а позднее вошел в «Собрание полное ученых путешествий по России». Печатные издания и архивные документы Академии позволяют сделать вывод, что в XVIII столетии Академией было организовано около 95 экспедиций.
В 1758 году Географический департамент Академии возглавил М.В. Ломоносов. Его гениальный ум оставил свой немеркнущий след и в области геолого-географических наук. Академик Л.С. Берг утверждает даже, что «геофизика, физическая география и картография с математической географией были любимейшими дисциплинами великого академика». М.В. Ломоносов справедливо считается основоположником идей о Северном морском пути. Проект плавания в Тихий океан через «Сибирское море» был изложен Ломоносовым в 1763 году в записке, названной им «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в восточную Индию». Работы, проведенные Ломоносовым в Географическом департаменте позволили выпустить в 1776 году генеральную карту России, а до этого в течение семи лет (1769-1776) издать свыше 60 отдельных карт. К наукам о земле примыкает также замечательный труд М.В. Ломоносова «Первые основания металлургии или рудных дел» (1763).
Одним из крупных русских географов был также П.И. Рычков - первый русский член-корреспондент Академии. Труд П.И. Рычкова «Топография Оренбургской губернии» был напечатан в 1762 году и затем неоднократно переиздавался, был широко использован А.С. Пушкиным в «Истории Пугачевского бунта». Замечательную веху в изучении России составляют пять академических экспедиций 1768-1774 гг., охватившие всю страну. Результаты одной из этих экспедиций, исследовавшей пространство от Петербурга до Забайкалья, описаны П.С. Палласом в капитальном трехтомном сочинении «Путешествие по разным провинциям Российской империи», изданном в 1773-1788 гг. с большим числом иллюстраций. Другие экспедиции возглавили И.И. Лепехин, И. Фальк, С. Гмелин и И. Гиль-денштедт. В экспедициях еще в качестве студентов приняли участие Н.Я. Озерецковский, В.Ф. Зуев, Н.П. Соколов - впоследствии крупные ученые, избранные академиками.
Наблюдения Лепехина и сотрудников его экспедиции в Поволжье и Заволжье, на Урале и в Архангельской губернии, а также подробные сведения о Новой Земле описаны в четырехтомном издании, снабженном большим числом таблиц и карт под названием «Дневные записки путеше-
ствия доктора и Академии наук адъюнкта по разным провинциям Российского государства Ивана Лепехина». Подготовка и выпуск этого издания заняли почти 20 лет (1795-1814). Академик Гмелин опубликовал результаты возглавленной им экспедиции в четырех книгах «Путешествия по России для исследования трех царств естества» (1771-1785).
В середине XVIII столетия наряду со специальными трудами по математике, астрономии, физике, биологии, географии, истории и языкознанию печатаются учебные книги. Много переводных книг поставляло созданное при Академии в 1768 году «Собрание старающихся о переводе иностранных книг на российский язык», за 15 лет (по 1783 год) Собранием было переведено 112 сочинений в 173 томах. Среди переводных книг значительное место занимали произведения французских просветителей. Громадным по издательским масштабам был предпринятый после избрания Бюффона почетным членом Петербургской Академии наук в 1766 году русский перевод его «Естественной истории». Издание вышло в 10 томах в 1789-1808 гг. (уже после смерти Бюффона). Перевод был осуществлен группой академиков, в которой ведущая роль принадлежала И.И. Лепехину.
С середины XIX века началось планомерное географическое, а также историко-археологическое изучение азиатской части Российской империи и в меньшей степени - сопредельных районов Центральной Азии. В 1845 году было основано Русское императорское географическое общество, а в 1846 - Русское императорское археологическое общество, в котором в 1866 году открылось его Восточное отделение.
Сложившиеся в предшествующий период стереотипы не подверглись в XIX веке сколько-нибудь серьезным изменениям. Причем в оценке нравов и обычаев, религиозных верований восточных народов преобладали такие критерии, как «иной», «отличный от нашего», «удивительный». Для русского менталитета было весьма характерным отсутствие чувства превосходства.
3) литературные «путешествия»;
Термин литературное путешествие употребляется применительно к тем произведениям путевой прозы, которые отражают особенности
творческого мировосприятия героя-повествователя и обладают яркими чертами беллетристического стиля. Первым, наиболее законченным произведением такого типа, сыгравшим важную роль в развитии не только путевой, но и всей русской прозы, стали «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина. В более ранних образцах путевой прозы: древнерусских хождениях и путешествиях XVIII века еще не проявляются в полной мере особенности творческого мировосприятия героя-путешественника. Характер отбора дорожного повествовательного материала и его стилистическое воплощение находятся в прямой зависимости от социально-профессионального статуса пишущего и существенно различаются в сочинениях представителей духовной власти, гражданских чиновников и лиц, находящихся на военной службе.
Тексты литературных путешествий, привлекаемых для исследования, можно разделить на следующие подгруппы:
а) Сентиментальные путешествия конца XVIII-начала XIX вв. Главным из них являются «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, а за ними следует целый ряд путешествий, написанных в подражание карамзинскому. К ним относятся «Путешествие в полуденную Россию» В. Измайлова /1800/; «Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург» М. Невзорова /1803/; «Путеществие в Малороссию» и «Другое путешествие в Малороссию» П. Шаликова /1803-1804/; «Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии» Ф. Лубянавского /1805/; «Письма из Лондона» П. Макарова /1805/; «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию» Д. Бан-тыш-Каменского /1810/; «Письма русского офицера ...» Ф. Глинки /1809-1816/, «Походные записки русского офицера» И. Лажечникова /1820/; «15-дневное путешествие, 15-летнею писанное в угождение родителю и посвященное 15-летнему другу» М. Гладковой /1810/. Особенности мировоззрения героя-повествователя всех указанных произведений имеют черты сходства, которые возникли под влиянием эстетической программы сентиментализма. Не важно, усвоена она путем знакомства с западноевропейской литературой или возникла в результате подражания Н.М. Карамзину.
От литературных путешествий сентиментального направления -сочинений Карамзина, Измайлова, Глинки - следует отличать сентиментальные рассказы, совершенно иной жанр, где настоящего путешествия в сущности нет. Сентиментальные рассказы о путешествии являются продуктом взаимовлияния литературных путешествий 1800-1820 годов и жанров сентиментальной беллетристики. Оно существовало со времен появления «Писем русского путешественника» Карамзина. Если сентиментальная путевая проза заимствовала беллетристические сюжеты любовного содержания, то сентиментальная беллетристика — мотив путешествия, используя его для композиционной мотивировки событий, не связанных с передвижением в пространстве, дорожным бытом и тем более с осмотром достопримечательных объектов. Подобное явление характерно для художественной прозы, поскольку позволяет автору выполнять определенные художественные задачи, например, строить сюжет и «освежать» жанр, «расширять пространственные и временные границы действия» или, как показывают сентиментальные рассказы о «путешествиях», иронизировать над особенностями поэтики литературного жанра. Авторы произведений, использующих композиционный мотив путешествия, к которым можно было бы отнести и Л.С. Пушкина, и М.Ю. Лермонтова, и Н.В. Гоголя, воспринимают дорогу как общий фон либо как элемент сюжета, но не сам сюжет: одно только путешествие не позволило бы описать героя во всем многообразии личностных проявлений, характерном для беллетристических жанров рассказа, повести и романа.
б). Романтическая путевая проза начала XIX века. Представлена сочинениями К.Батюшкова, А. Бестужева-Марлинского, В. Кюхельбекера, А. Шишкова и некоторых других авторов. Главной особенностью поэтики романтических путевых произведений является наличие романтического героя-повествователя. Романтические путешествия мировоззренчески и стилистически связаны с традицией Карамзина и последующей сентиментальной прозы. Краткость и различные средства художественной описа-тельности (тропы, экспрессивный синтаксис) сближают романтические путешествия с произведениями поэтических жанров. Окрашенные в лирико-
меланхолические тона, они напоминают романтические элегии, например, «Отрывок из писем ... о Финляндии» К. Батюшкова, «Прощание с Каспием» А. Марлинского.
в). Литературные путешествия середины XIX века. К текстам указанного типа можно отнести следующие: «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина; «Путевые очерки» А. Писемского; «Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь» П. Мельникова /А. Печерского/; «Год в чужих краях» М. Погодина; «Путевые письма из Англии, Германии и Франции», «Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии» и «Парижские письма» Н. Греча; «Письма об Испании» В. Боткина; «Поездка за Волхов» К. Ушинского; «Фрегат «Паллада» И. Гончарова. В этих произведениях, в отличие от сентиментальных и романтических путешествий, мировоззрение повествователя перестает быть исключительно эстетическим; оно приобретает также социально-бытовую направленность. Такое изменение не было результатом внутрижанровой эволюции; оно отражало один из этапов общелитературного процесса: в 1830-1850-е годы официально-бытовая тематика разрабатывалась в прозаических жанрах русской натуральной школы, а в дальнейшем и вне ее рамок. Тип социально-бытовой личности имел большие перспективы в русской литературе, тип же эстетической личности на некоторое время исчез из беллетристики. В путевой прозе 1830-1850-х годов происходит изменение соотношения я <-> дорожный объект: по сравнению с предшествующей прозой, ведущую роль начинают играть «объективные», нередко даже в научно-популярном стиле, описания путевого материала, направленные на «внешний» предмет, а не на внутреннюю жизнь автора. Присущие сентиментальным и романтическим путешествиям декларативные формы авторской экспрессии заменяются скрытыми, связанными с литературной характеризацией и усложнением речевых структур персонажей. Путевая проза испытывает влияние жанра художественного очерка с присущими ему элементами социально-бытовой нравоописательности, которые встречаются уже в поздних путешествиях А. Марлинского, а затем и у других авторов, в особенности же, в путевых очерках И. Гончарова «Фрегат «Паллада».
В процессе подготовки настоящего исследования мы опирались на труды историков Л.М.Андрюхиной (1992), А.Н.Ерыгина (1993), Н.И.Конрада (1972), Ю.С.Копелевича (1977), Е.И.Молоховца (1880), В.И.Овсянникова (1989) и др.; географов и этнографов А.Г.Банникова (1949), В.В. Бартольда (1977), А.Н.Пыпина( 1890-1892), С.А. Токарева (1966) и др.
При решении поставленных лингвистических проблем были использованы следующие работы:
по истории русского литературного языка: Ю.С. Сорокин «Развитие словарного состава русского литературного языка 30-90-е годы XIX века»; А.И. Горшков «История русского литературного языка»; В.В. Виноградов «Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв.»; А.И. Ефимова «История русского литературного языка», ЮЛ. Бельчиков «Русский литературный язык во второй половине XIX века», и др.;
по стилистике русского языка: Ю.А. Бельчиков «Стилистика русского языка», А.Н. Васильева «Курс лекций по стилистике русского языка», В.В. Виноградов «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика», А.И. Ефимов «Стилистика художественной речи», А.Н. Кожин «Стилистика художественной литературы» и др.;
диссертационные исследования и монографии по изучаемой проблеме: Л.Л. Кутина «Формирование языка русской науки»; Н.И. Толстой «Славянская географическая терминология: семасиологические этюды»; И.Г. Добродомов «История лексики тюркского происхождения в древнерусском языке»; А.В. Барандеев «Русская гидрографическая лексика»; Т.Ф. Надвикова «Лексика «Хождения» игумена Даниила»; Н.Н. Маевский «Особенности научно-популярного стиля»; Н.А. Сандыбаева «Лексика восточного происхождения»; Р.Н. Терегулова «Словарный состав «Хождения» Афанасия Никитина»; и др.
Анализ этих работ показывает, что во многих из них отдается предпочтение рассмотрению одного из аспектов изучения лексической содержательности «записок путешествий», поиск путей целостного решения проблемы составил суть настоящей работы, обусловил тему исследования.
Объект исследования в настоящей работе - лексические, синтаксические и стилистические единицы, характеризующие описательные фрагменты и событийный план «путешествий». Предметом исследования является функционирование слов-указателей пространственного положения, лексики зрительного восприятия, метатекстовых структур, художественных средств.
Актуальность темы исследования определяется следующими факторами: 1) неразработанность вопроса о жанрово-стилистической природе путевой литературы; 2) необходимость представления системного описания «путешествий», структурной организации, системы средств, реализующих информативную функцию в языке литературы «путешествий»; 3) значимость осознания современной языковой личностью своего «прошлого», в котором картина «свое» - «чужое» занимает одну из ведущих позиций; 4) важность разработки проблемы функционирования языковых единиц в описательных и повествовательных фрагментах; 5)перспективность комплексного, многоаспектного подхода к исследуемой проблематике, заключающегося в интегрировании лингвистических и неязыковых областей знания.)
Цель работы - описать лингвостилистические особенности литературы «путешествий», провести сравнительно-сопоставительный анализ «путешествий» и тем самым исследовать эволюцию в использовании языковых единиц и изобразительных средств языка.
Для достижения указанной цели в работе решаются следующие исследовательские задачи:
выявить основные черты, характеризующие «путешествия» как особый жанр с учетом традиций описания чужих земель и народов на Руси («хождения», статейные списки послов, частные письма посещающих другие страны, публикации ученых-путешественников XVIII-начала XIX вв., литературные «путешествия»);
исследовать теоретические вопросы развития «путешествий» в XII-XIX вв;
произвести анализ особенностей повествовательной структуры, типичных для всех образцов жанра;
выделить особенности описания дорожных объектов, явлений, лиц и показать специфику функционирования языковых единиц с учетом многоаспектной организации «дорожного» материала;
определить и охарактеризовать языковые средства, выражающие пространственное положение дорожных объектов;
установить средства стилистической организации описательных фрагментов «путешествий»;
рассмотреть особенности системного устройства эпистолярных «формул», обеспечивающих выражение особенностей авторского восприятия, заключающего в себе различные оттенки отношения к информации;
представить анализ элементов стилистической организации событийной линии «путешествия»;
описать особенности тематики и форм организации «дорожного» материала;
произвести подробное описание корпуса изобразительно-выразительных средств в текстах религиозных «путешествий»;
определить и охарактеризовать роль изобразительных средств в создании эпического повествования, образов героев, раскрытия внутренней иерархии, связи, взаимодействия и взаимозависимости частей этой системы;
раскрыть эволюционные процессы, свойственные употреблению эпитетов, сравнений, метафор, метонимий, синекдох в «путешествиях» по Святым местам в XII—XVIII вв.
Основная гипотеза диссертации: под воздействием сознания автора, подверженного давлению видимой реальности, т.е. того, что возникает перед его взором, используются единицы языка, позволяющие адресовать предполагаемому читателю «кусочек» действительности, которая по-особому отражается в духовном мире путешественника, что и определяет содержание произведений, относимых к жанру «путешествий».
Положения, выносимые на защиту:
1. Путевая литература принадлежит к числу жанров с односубъект-ным повествованием, организующим началом которого является герой-
путешественник - диегетический повествователь или повествователь-писатель.
Особенности композиции «путешествия», рассматриваемые как чередование эпизодов авторского повествования, имеют различную функционально-речевую принадлежность (собственное повествование, описание, содержащее логические и риторические сентенции и т.п.).
«Хождение» в течение долгого времени рассматривались как явление документальной письменности и не включались в круг художественных произведений, современный подход к изучению стилевых особенностей позволяет осознать жанр религиозных «путешествий» как художественное явление.
Специфика литературы «путешествий» как творческого диалога повествователя и его адресатов устанавливается в результате расслоения различных способов диалогизации авторского повествования: обращений, метатекстовых включений.
Элементы организации событийного плана «путешествия» - географические перемещения и дорожнобытовые эпизоды: тематические группы слов, составляющие специфическую жанровую особенность «путешествий».
Авторская речь обладает стилистическими особенностями, выявляемыми путем анализа сферы употребления и стилистической окраски различных языковых единиц.
Закономерности функционирования в текстах «путешествий» по Святым местам тропеических структур являются показателем интеллектуального уровня героя-паломника и эмоционально-образного восприятия им дорожных событий и фактов.
Организация несобытийного плана путевой литературы представляет собой результат преломления дорожных событий в сознании странствующей личности.
Литература «путешествий» синтезирует функцию передачи информации, добытой путешественником, популяризации научных знаний среди широкого круга читателей, воздействия на сознание путем убеждения.
10. Анализ языковой природы путевой литературы даст основание для более точного определения их места в литературном процессе, в развитии жанров и стилей
Научная новизна исследования заключается в том, что: I) предпринято целостное, системное описание эволюционных процессов языка «путешествий», ранее подвергавшийся лишь фрагментарному анализу; 2) выявлены основные особенности путевой литературы, позволяющие дифференцировать религиозные, литературные и научные «путешествия»; 3) осуществлен новый подход к проблеме, учитывающий жанровое и стилистическое своеобразие анализируемых источников; 4) разработана и представлена типология организации «дорожного» материала и событийной линии «путешествия»; 5) выделены и проанализированы языковые единицы, функционирующие в функциональных типах речи «описание» и «повествование»; 6) осуществлен детальный анализ художественных средств в «путешествиях» по Святым местам; 7) литература «путешествий» рассматривается в свете специфических особенностей языка художественной литературы и индивидуального своеобразия отдельных авторов.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что изучение и анализ языка путешествий дает возможность воссоздать более полную картину становления и развития жанровой системы русского литературного языка; определить роль и место путешествий в процессе формирования национального языка. Рассмотрение процессов изменения в жанровой системе на определенном хронологическом срезе помогают раскрыть особенности развития не только жанра путешествий, но и показать особенности развития общества в данный период, так как все изменения, происходящие в общественно-политической, экономической, научной, культурной жизни общества, находят свое отражение в языке.
Практическая значимость заключается в возможности использования фактических материалов, основных положений диссертационного исследования в практике чтения курсов «История русского языка», «Стилистика русского языка», «Филологический анализ текста», при проведении курсов по выбору и дисциплин специализации.
Материалом диссертационного исследования послужили фрагменты и тексты религиозных, литературных и научных «путешествий» XII-XIX вв., извлеченные путем сплошной выборки.
Методы исследования. Анализ материала в соответствии с избранным объектом, целью и задачами работы проводится при помощи различных методов, ведущим среди которых является описательный метод исследования. Используются также такие методы анализа, как индуктивный и дедуктивный методы, элементы трансформационного и компонентного анализа языковых единиц. Реализованный в работе интегрированный, комплексный подход к объекту исследования базируется на структурно-семантическом методе, позволяющем осуществлять анализ языкового материала на основе диалектического единства формы и содержания, структуры и семантики в целях выявления функциональных особенностей анализируемого явления.
Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации обсуждались на научном семинаре и заседаниях кафедры современного русского языка Московского государственного областного университета, на научно-методическом семинаре кафедры истории русского языка и общего языкознания Рязанского государственного педагогического университета им. С.А. Есенина. По теме диссертации разработан и прочитан один спецкурс; теоретические положения исследования нашли отражение в содержании 10 дипломных работ. Автор выступал с докладами на научных конференциях, в том числе и международных: в Москве («Терминология - 2001»; «Народное образование в XXI веке» - 2001), в Санкт-Петербурге («III Царскосельские чтения» - 1999), в Пскове («Русский язык от Пушкина до наших дней» - 2000), в Смоленске («Разноуровневые характеристики лексических единиц» - 1996, 1997, 1998, 1999, 2001), в Рязани («Русский язык: прошлое и настоящее» - 2000; «И.И. Срезневский и современная славистика: наука и образование» - 2002).
Структура диссертации обусловлена целью, задачами и проблематикой исследования. Диссертационное исследование состоит из Введения, 4-х глав, Заключения, Библиографического списка, Списка источников языкового материала.
Жанровые особенности хождения
Термином «жанр» применительно к древнерусской литературе обозначают, во-первых, определенную форму литературно-художественного произведения (жития, воинские и исторические повести, послания, поучения, притчи, видения, хождения и др.), во-вторых, определенный тип сборника, включающего в себя различные литературные произведения (летописи, патерики, четьи-минеи, прологи, азбуковники, палеи, хронографы и т.д.). «Все эти типы и подтипы сборников, - пишет Д.С. Лихачев, - должны также рассматриваться как жанры, но жанры особые - объединяющие другие жанры» (Лихачев, 1963: 51-52). Типы и подтипы сборников называют «объединяющими жанрами». Формы литературных произведений «первичными жанрами». Подобное терминологическое разграничение необходимо, оно основывается и на самом древнерусском литературном материале.
Хождения принадлежат к числу «первичных» жанров. Они рассматриваются нами как такая устоявшаяся целостная литературная конструкция, при помощи которой оформлялся определенный объект изображения.
В составе этой конструкции или литературной формы сохраняются устойчивые признаки в объекте изображения, сюжетных событиях, в приемах изображения, системе языка и типе повествователя или писателя.
Хождение - один из распространенных жанров древнерусской литературы. Современный исследователь В. Данилов посвятил специальную статью проблеме жанрового своеобразия древнерусских хождений (Данилов, 1962).
В этой статье дан анализ жанровой природы хождений, содержатся тонкие наблюдения над некоторыми стилевыми особенностями хождений. В.В. Данилов в своих выводах указывает на такие качественные признаки, придающие своеобразие этому жанру: а) на зависимость хождений от греческих путеводителей (проскинитариев), которые «по содержанию и стилю не принадлежат к художественной литературе» (Там же: 24); б) на однообразие стиля как «обычное явление в русских описаниях путешествий на Восток» (Там же: 25), стиля «сухого, протокольно-безразличного», для которого обычны «бедные формы речи для выражения смены впечатлений» (Там же: 25), краткость и стандартность формы; в) «наконец, - пишет исследователь, -при оценке «хождений» как литературного жанра следует принять во внимание их частью официозное происхождение, сужавшее круг интересов авторов» (Там же: 28); историческое время сказалось и в том, что составители «хождения» пишут о «лицах официальных, распоряжающихся судьбами людей».
Эти особенности, указанные В.В. Даниловым, характеризуют лишь определенную группу хождений паломнического содержания. Конечно, на формирование жанра оказали прямое и косвенное влияние греческие проски-нитарии, свойственны хождениям краткость, деловитость и точность описаний. Однако это не дает основания выносить хождения за пределы древнерусской художественной литературы. Многие хождения не содержат следов влияния греческих проскинитариев. Не виден в них и «протокольно-безразличный» стиль. Выводы В.В. Данилова не вытекают из анализа лучших хождений, в которых жанровые особенности выражены с большею силой и полнотой: хождения игумена Даниила, новгородских хождений, в особенности хождения начала XIV века, легшего в основу двух памятников -«Беседы о святынях Царьграда» и «Сказания о святых местах и о Константи-нограде» (Сперанский, 1934), хождения Игнатия Смольнянина, Афанасия Никитина, Трифона Коробейникова и др.
Складываясь как жанр на русской почве, древнерусские хождения впитали в себя некоторые приемы, разработанные в византийской литературе, на что указывал В.В. Данилов. Составители хождений могли видеть в византийской литературе некоторые образцы, и не только в проскинитариях. Знаменитый «Синайский патерик» написан в форме путешествия. Повествователи патерика Иоанн Мосх и его ученик Софроний, посещая «святые места», встречаются с различными лицами и передают их рассказы. «Особую прелесть этим рассказам, - пишет Ф.И. Буслаев, - придает наивная форма изложения. Иоанн Мосх и Софроний в своем хождении по святым местам, по обителям и пустыням, встречаются с разными интересными личностями и по точным словам их передают то, что слышали иногда о событии современном, иногда давно минувшем, дошедшем по преданию» (Буслаев, 1905: 14).
О понятии описание
Термин «описание» начинает употребляться в научной литературе с первой половины XIX века. В науке существует несколько различных трактовок данного термина: логаческая (смысловая), литературоведческая, лингвистическая и др. Термины «описание», «повествование» и «рассуждение» употребляются и как обозначения жанра школьного сочинения (сочинения-описания, сочинения-повествования, сочинения-рассуждения), «в котором указанный тип речи, как правило, является лишь ведущим, а не единственным» (Капинос, Сергеева, Соловейчик, 1991:28).
В «Руководстве к изучению русской словесности» Г. Георгиевского (1835: 76) описание определяется как «представление отдельно существующего в пространстве предмета, передача его признаков, действий и отношения к другим предметам». Это предметно - логическая трактовка описания: нет указания на форму описания, на то, какими средствами выражается это представление предмета, «существующего в пространстве».
О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» определяет описание как особый способ изложения мысли, «применение определенной языковедческой методики для систематического изложения особенностей, признаков, состава речевых массивов (корпусов), зафиксированных для данного языка» (Ахманова, 1966: 288) . Сравним также определение, данное в БСЭ (1981: 941): «Описание, функция научного исследования, состоящая в фиксировании результатов опыта (эксперимента или наблюдения) с помощью определенных систем обозначения, принятых в науке. Описание предшествует объяснению».
Литературоведческое содержание термина «описание» отражено в Кратком словаре литературных терминов И.Н. Тимофеева и Н. Венгрова (1958: 97), где описание определяется как «оборот поэтической речи, состоящей в последовательном перечислении отдельных признаков, черт, свойств, явлений». В данном определении понятие описания сужено, ибо относится только к поэтической речи.
О.Л. Нечаева считает, что традиционное понимание описания «как отрывка текста (или даже всего текста) или как способа изложения мысли является односторонним, описательный текст - это только результат описания; а описательный способ как перечисление признаков предмета в широком понимании ... нельзя отрывать от типизированного описательного содержания, от объекта речи в виде предмета.
Описательный способ находится в неразрывном единстве с типизированным описательным содержанием и вместе с ним образует описательный тип речи.
В целом, по мнению О.Л. Нечаевой, описание - это особая речевая единица сверхфразового уровня, имеющая стабильную не только логико-смысловую, но и структурно-языковую характеристику. Языковая характеристика такого типа речи проявляется в своеобразном функционировании предложений, грамматических категорий, а также «в наличии контекстуально-структурных условий формирования и сочетаемости типов речи между собой» (Нечаева: 5).
Иной точки зрения придерживается В.В. Одинцов в своей монографии «Стилистика текста» (1980). Полемизируя с О.А. Нечаевой, ученый утверждает, что при выделении типов речи опора может быть только семантической, так как те или иные синтаксические единицы, грамматические признаки, вьщеленныс в отношении одного типа речи, могут быть обнаружены и в других типах. В основу своей классификации типов речи В.В. Одинцов кладет смысловой критерий (относительную смысловую цельность, законченность отрезка текста) и выделяет 4 вида логических единств монологической речи: определение-объяснение, умозаключение-рассуждение, характеристику-описание и сообщение-повествование. Отдельно выделяется еще один вид, существующий самостоятельно, - диалог, или диалогическое единство. Усложненный характер своей классификации автор объясняет тем, что традиционное выделение только трех функционально-смысловых типов речи обусловлено, во-первых, неизученностыо данного вопроса, а во-вторых, тем, что оно (выделение) применяется по отношению к литературно-художественным текстам, а также текстам, которые «тяготеют» к литературным формам: газетно-публицистическим, научно-популярным и др. Классификация же, предложенная В.В. Одинцовым, по мнению автора, учитывает «все многообразие текстов».
Метатекстовые структуры: виды и роль в создании повествовательной рамки
Ориентация на адресата - друга или читателя - и отсутствие существенных различий между последними обусловили общность «эпистолярных» и неэпистолярных путешествий в использовании различных внутритекстовых средств коммуникации: обращений, упоминаний, диалогов, которые являются «одной из важных составных частей повествования от первого лица», обращенного к читателю /слушателю (Кожевникова, 1994: 33).
В связи с другими жанрами перволичного повествования: повестями, рассказами, автобиографическими записками - основные внутритекстовые средства коммуникации, уже рассматривались (Николина, 1993: 61-77; Кожевникова, 1994:22-47).
В путевой прозе они имеют разную степень значимости. Гораздо более важную, чем простые обращения к адресату, роль в организации повествования литературного путешествия играют адресованные сообщения героя-повествователя о создании отдельных фрагментов текста - метатекстовые структуры (Вежбицкая, 1978: 404).
Основная функция метатекстовых структур, общая для путешествия и других жанров с перволичным повествованием, - фиксация перехода от одной темы сообщения к другой. Для путешествий, где описываемые повествователем объекты довольно быстро сменяют друг друга, это особенно актуально.
Повествовательный фрагмент путешествия, независимо от его тематики, открывается сообщением автора об объекте предстоящей речи. Оно выражается с помощью формы будущего времени глагола передачи информации — рассказать, описать, сообщить, упомянуть, указать - управляющего именем объекта, и в большинстве случаев имеет вид: я расскаэ/су (скаэ/су, сообщу, напишу, представлю, объявлю) что-то (о чем- то). Разумеется, в зависимости от семантических и грамматических характеристик глагола допустимы и другие падежные формы управляемого имени, а также усложнения структуры субъекта речи различными оттенками авторской модальности.
Вследствие высокой частотности такое высказывание приобретает клишированность или формульностьї Предваряющие «формулы» употребляются во фрагментах любого типа. Они могут открывать фрагмент, повествующий о дорожных событиях: «Одновременно, Сов Ьпъ Императорского Русского Географического Общества предложилъ мніі планъ другого путешествия - въ Восточный Тянь-Шань и Нань-Шаньскія горы, къ которому съ полнымь сочувствіемь отнесся и Лвгустіійшій мой Покровитель. Такнмъ образомъ организовалась окспсдиція, н которые изъ результатовъ коей со-ставляютъ предметь настоящаго сообщенія» (Доклад Грум-Гржимайло), «Не стану описывать своихь приключеній на морі;. На этотъ разъ я не остановлюсь далее въ Катаре (Ковалевский. Четыре месяца в Черногории).
Те же метатекстовые конструкции служат зачином фрагментов, содержащих рационально-логические рассуждения автора: "Теперь я объявлю мои мысли о восстановлении сего края (Крыма)" (Сумароков. "Досуги...") -"позвольте мне ... открыть вам образ моих мыслей касательно церковных украшений" (Неврозов); открывают эпизоды, выражающие эмоции повествователя, вызванные теми или иными событиями (впечатлениями); "Расскаэ/су вам чувства, которые составляли мое наслаэ/сдение и на время сближали меня с мнениями" (Кюхельбекер. "Путешествие").
Предваряющие "формулы" встречаются в эпизодах, посвященных событиям исторического прошлого: "Укажу на достопамятнейшие деяния монгольских ханов" (Тимковский). - и выдающимся историческим личностям: "Я стану говорить о князе Потемкине" (Сумароков. "Досуги...").
Однако наиболее частотны предваряющие «формулы» фрагментов, содержащих описания местных достопримечательностей. Ближе к началу текста (главы, раздела) находятся "формулы" с именами наиболее крупных объектов описания, например, городов: "Я напишу несколько замечаний о городе и правах жителей" (Батюшков. "Прогулка по Москве"); "Сообщу вам теперь незнакомые сведения о прежнем и нынешнем Мішане" (Грог. "Письма с дороги по Германии"); "Теперь представлю очерк престольного города фараонов" (Ковалевский "Путешествие во внутреннюю Африку").
В процессе детализации описаний текстов дополнительными, новыми эпизодами, объединенными общей темой: "Город", "Этносы" и т.д., но посвященными разным частным аспектам (микротемам). Предваряющие их сообщения по форме аналогичны рассмотренным выше, но встречаются во внутренних эпизодах текста: "Опишу вам памятник супруэ/сеской любви" (Карамзин); "Скажу о гостеприимстве и радушии пермских жителей" (Пс-черский).