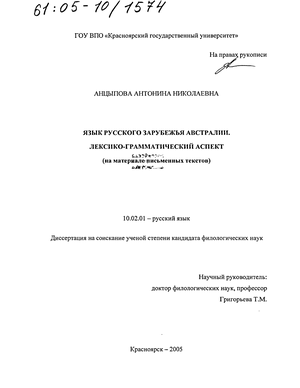Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ЭМИГРАНТОВ АВСТРАЛИИ 11
1.1. Русский язык зарубежья в лингвистических исследованиях XX века 11
1.2. «Волна эмиграции» как компонент исследования 15
1.3. Языковые контакты как теория исследования 17
1.4. Понятие «норма» в языке зарубежья 22
1.5. Особенности лексики русского языка зарубежья в лингвистических исследованиях 24
1.5.1. Иноязычная лексика 25
1.5.2. Архаичная лексика 29
1.5.3. Изменение семантики слов 30
1.5.4. Черты разговорности и просторечия 31
1.5.5. Особенности словообразования 32
1.5.6. Неразграничение паронимов и синонимов 34
1.6. Особенности грамматики русского языка зарубежья в лингвистических исследованиях 35
1.6.1. Особенности морфологии 35
1.6.1.1. Имя существительное 36
1.6.1.2. Имя прилагательное 40
1.6.1.3. Глагол 41
1.6.1.4. Числительное 42
1.6.1.5. Предлог 42
1.6.2. Особенности синтаксиса 43
1.6.2.1. Кальки 43
1.6.2.2. Пассивные конструкции 45
1.6.2.3. Нарушение управления 46
1.6.2.4. Особенности структуры словосочетания 47
1.6.2.5. Особенности структуры предложения 48
1.6.2.6. Черты разговорности 49
1.7. Изучение русского языка эмигрантов Австралии австралийскими
исследователями 51
1.7.1 .Особенности лексики 51
1.7.2. Особенности грамматики 53
1.7.2.1. Особенности морфологии 53
1.7.2.2. Особенности синтаксиса 56
Глава 2. ИСТОРИЯ ЭМИГРАЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БЫТОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА АВСТРАЛИИ 60
2.1. Первая волна эмиграции 61
2.2. Феномен «харбинской эмиграции» 63
2.3. Вторая волна эмиграции 66
2.4. Современные условия бытования русского языка в Австралии 69
2.4.1. Русская общественная жизнь 71
2.4.2. Русская пресса и радиовещание 73
2.4.3. Православное христианство и русские прицерковные школы...74
2.4.4. Социальные функции русского языка эмигрантов 78
Глава 3. РУССКИЙ ЯЗЫК В АВСТРАЛИИ (лексико-грамматический ас
пект) 82
3.1. Лексический аспект 82
3.1.1. Заимствованная лексика 82
3.1.1.1. Английские вкрапления 83
3.1.1.2. Заимствования в виде транскрипций и транслитераций 90
3.1.1.3. Кальки 92
3.1.2. Архаичная и конфессиональная лексика 94
3.1.3. Дериваты на «русской почве» 96
3.2. Грамматический аспект 98
3.2.1. Морфологические особенности 99
3.2.1.1. Особенности имени существительного 99
3.2.1.2. Особенности имени прилагательного 106
3.2.1.3. Особенности функционирования наречия 109
3.2.1.4. Особенности функционирования глагола 109
3.2.1.5. Особенности функционирования предлогов 111
3.2.2. Синтаксические особенности 114
3.2.2.1. Калькирование 114
3.2.2.2. Особенности сочетаемости фразеологически и лексико-семантически связанной лексики 121
3.2.2.3. Особенности структуры предложения 125
Заключение 129
Список использованной литературы 133
Справочная литература 145
Приложение 147
- Русский язык зарубежья в лингвистических исследованиях XX века
- «Волна эмиграции» как компонент исследования
- Первая волна эмиграции
Введение к работе
Проблемы функционирования языков в иноязычном окружении, а также вопросы взаимного влияния контактирующих языков на протяжении последнего столетия представляют неизменный интерес для лингвистов разных стран [Wells 1932; Benson 1960; Бодуэн де Куртенэ 1963; Розенцвейг 1972; Вайнрайх 1972; Хауген 1972; Грановская 1983; Земская 1999; Гловин-ская 2001а, 20016 и др.]. Изучение языка русского зарубежья, несомненно, представляет интерес для исследователей, поскольку:
«история русского литературного языка XX века не может претендовать на полноту описания без включения этого материала» [Грановская 1995: 3];
в необычной для себя обстановке (в иноязычном окружении) могут проявляться скрытые тенденции языка метрополии, что позволит выявить закономерности его развития.
В данной работе представлены результаты исследования русской письменной речи эмигрантов, проживающих в Австралии.
Под письменной речью при этом понимается любой текст как «произведение речетворческого процесса, обладающего завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа...» [Гальперин 1981: 18].
Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, глобальным распространением русского языка, вызванного процессами миграции и эмиграции русскоязычного населения в разные исторические периоды и пристальным вниманием, уделяемым отечественными лингвистами изучению русского языка эмиграции таких стран, как Германия, Италия, США, Канада, Франция и др., а с другой стороны, с неизученностью процессов и изменений, происходящих в языке русского зарубежья Австралии.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые была предпринята попытка:
изучения специфики волн русской эмиграции в Австралию;
анализа социально-лингвистических особенностей эмиграции Австралии на современном этапе;
комплексного подхода к описанию лексико-грамматического аспекта языка русского зарубежья Австралии;
исследования особенностей письменной речи эмигрантов Австралии;
выявления особенностей узуальной нормы языка русского зарубежья.
Цель исследования - изучение социально-лингвистических особенностей функционирования языка русского зарубежья Австралии и выявление особенностей как универсальных для языка русского зарубежья в целом, так и характерных лишь для языка эмигрантов Австралии.
Достижение поставленной цели связано с решение следующих задач:
изучить опыт предшествующих исследований языка русского зарубежья на разных территориях;
установить особенности волн русской эмиграции в Австралию;
исследовать социально-лингвистические условия функционирования русского языка в Австралии на современном этапе;
определить особенности письменной речи эмигрантов Австралии с точки зрения кодифицированного литературного языка;
5) выявить универсальные особенности языка русского зарубежья в
целом;
6) продемонстрировать специфичные особенности письменной речи
русского зарубежья Австралии.
В связи с поставленными задачами экстралингвистическая проблематика диссертационного исследования непосредственно связана с понятием волн эмиграции, их особенностями в Австралии, отношением эмигрантов к русскому языку, влиянием религиозного воспитания на отношение к языку и культуре предков, социальными функциями русского языка в Австралии.
Лингвистическая проблематика исследования включает такие аспекты, как стабильность и динамика языка в иноязычном окружении, влияние английского языка на русскую речь эмигрантов, особенности функционирования русской письменной речи, в отличие от устной, в условиях иноязычного окружения и др.
Научными источниками исследования послужили'.
труды отечественных и зарубежных лингвистов, посвященные изучению русского языка эмигрантов в разных странах мира, а также русского языка метрополии;
работы австралийских исследователей, посвященные изучению русского языка эмигрантов в Австралии;
материалы русскоязычной периодической печати Австралии, отображающие исторические факты существования русской колонии в Австралии, а также отношение эмигрантов к русскому языку и русской культуре в целом.
Объектом исследования являются русский язык эмигрантов Австралии и социолингвистические условия его бытования, предметом — лексика и грамматика письменной речи эмигрантов Австралии.
Материалом практического исследования послужили материалы периодической печати, издаваемой в Австралии на русском языке, материалы частной переписки, материалы письменного анкетирования представителей
русского зарубежья Австралии, а также некоторые художественные произведения представителей русской эмиграции в Австралии (см. Приложение 1).
Методы и приемы лингвистического исследования:
анализ документальных источников (материалы прессы, частная переписка, материалы демографической статистики и др.);
метод анкетирования и прием сплошной выборки - при отборе практического материала исследования;
метод анализа семантической структуры лексических единиц — при определении особенностей функционирования заимствованной лексики в письменной речи эмигрантов;
метод словарных дефиниций - при анализе словоупотребления заимствованной и исконно-русской лексики;
методы синтаксического и морфологического анализа - при изучении письменной речи эмигрантов на разных языковых уровнях;
приемы обобщения, классификации;
метод квантативного сопоставления - при анализе языковых данных.
Положения, выносимые на защиту:
1. Специфичность социально-лингвистических условий функционирования
русского языка в Австралии обусловлена особенностями волн русской эмиграции в Австралию, ролью «харбинской эмиграции» в становлении русского зарубежья Австралии, ролью православной церкви в жизни русскоязычного сообщества;
2. В лексике и грамматике русского языка зарубежья разных стран прояв
ляются типичные особенности, которые можно рассматривать как узу-
альную норму языка русского зарубежья, обусловленные, с одной стороны, стремлением эмигрантов к сохранению русского языка, а с другой стороны, типологическими особенностями языка окружения;
В русском языке эмигрантов Австралии проявляются как универсальные для языка зарубежья особенности, так и специфичные;
Специфичные черты русского языка эмигрантов Австралии обусловлены особенностями австралийского варианта английского языка и ролью православной церкви в жизни русского зарубежья Австралии.
Теоретическая значимость работы определяется тем, что она расширяет и обобщает теоретические исследования в области изучения языковых контактов и находится в русле исследований языка русского зарубежья. Исследование дополняет общую картину функционирования и развития языка русского зарубежья и предлагает дальнейшие перспективы исследования. Подобное исследование значимо для языкознания, поскольку связано с вопросами интерференции в условиях иноязычного окружения, и позволяет выявить универсально неустойчивые участки русского языка.
Практическая ценность исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы:
при составлении различных спецкурсов, в частности, спецкурса «Язык русского зарубежья» для филологов в системе высшего образования;
при составлении методических рекомендаций для обучения русскому языку в условиях языкового контакта;
в переводческой деятельности.
Структура работы включает список сокращений, введение, три главы, список использованной литературы и приложение.
Русский язык зарубежья в лингвистических исследованиях XX века
Вопрос о русском языке рассеяния впервые возник в зарубежной литературе в 20-е годы XX столетия. Именно в это время появляется целый ряд статей, авторы которых выступали за сохранения чистоты языка русской эмиграции. Функционируя в чуждой для себя среде, русский язык не мог избежать некоторого влияния со стороны другого языка, что вызывало немалую тревогу у образованной части русских эмигрантов. Одним из первых, еще в 1923 году, на русский язык эмиграции обратил внимание С. Карцевский. Свою книгу «Язык, война и революция» он посвятил социально-политическим изменениям в России и тому влиянию, которое они оказали на словарь русского языка. С. Карцевский считал, что жизнь за границей не может не сказаться на русском языке, но все это нормальные языковые процессы и подобное нельзя назвать революцией в языке [Карцевский 2000: 217-218]. Писатели-эмигранты того времени [Осоргин 1988а, Осоргин 19886, Тэффи 1988; Карцевский 2000; см. также: Грановская 1993] выделяли следующие явления в языке:
появление новых понятий и соответствующих им слов, возникших в эмиграции (большевизан, болъшевизанствующий, черный (для обозначения крайне правых)) и др.;
вульгаризация речи {втрескаться, драпать, стибрить и др.);
переосмысление {надраивать - плохо учить, садись - успокойся и др.);
смешение межъязыковых омонимов и паронимов {диван (польск.) - ковер);
искажение русской речи, вызванные огромным потоком галлицизмов {трикотезница - вязальщица);
разнобой в склонениях и роде неизменяемых существительных и заимствованных из французского языка собственных и нарицательных имен {подъехал такси);
ненормативное ударение (чихать).
Анализируя многочисленные публикации русских эмигрантов 20-х-нач. 30-х годов, посвященные вопросу сохранения русского языка за рубежом [Грановская 1993, Николеску 2002], можно выделить три основные направления:
критика советского русского языка, утвержденного советской прессой и художественной литературой (СМ. Волконский; К. Бальмонт; Дм. Голицин-Муравин; М. Осоргин; Вл. Ходасевич и др.) [Осоргин 19886; Волконский 1992; см. также: Грановская 1993];
стремление сохранить чистоту прежнего русского языка (СМ. Волконский, Вяч. Иванов и др.) [Иванов 1991; Волконский, 1992 и др.];
желание позволить языку развиваться по своим внутренним законам, не применяя насилие (П.М. Бицилли, Тэффи, СИ. Карцевский, Ю. Сазонова и др.) [Тэффи 1988; см. также Грановская 1993]. «Русский язык всегда менялся, - писала Тэффи в 1926 году в журнале «Возрождение» (Париж) - отбрасывал изжитое, впитывал новое, не боялся ничего... какие бы шлюзы ни ставил наш бедный эмигрантский язык, он порвет их, и если ему суждено стать уродом, то станет, хотя будет живым» [Тэффи 1988: 66, 68].
Примерно со второй половины XX века языком русской эмиграции начинают заниматься филологи США [Wells 1932; Benson 1960 и др.], Сербии [Митропан П. 1970], Австралии [Pobie 1972, Kouzmin 1973], Швеции [Boyad 1985] и ряда других стран.
«Волна эмиграции» как компонент исследования
Традиционно лингвисты выделяют 4 волны эмиграции в Европу [Раев 1994, Назаров 1994, Пфандль 19946, Земская 2001а, Голубева-Монаткина 2001 и др.] и в Америку [Эндрюс 1997, Васянина 2001], однако никто из лингвистов в своих исследованиях не дает определение понятия «волна эмиграции». Видимо, отсутствием четкого определения объясняется неразграничение некоторыми исследователями [Шатилов 1997] понятий «волна» и «поток» эмиграции (см. Гл. 2). Английский толковый словарь предлагает следующее толкование одного из значений многозначного слова wave (волна) - «one of a succession of movements of people migrating into a region, country» [MD 1985: 1927].
В настоящем исследовании под понятием «волна эмиграции» понимается массовое переселение людей в другие страны за определенный временной промежуток.
Как уже был отмечено, выделяются четыре волны эмиграции:
первая волна - после Октябрьской революции; насчитывает от двух до трех миллионов русских, попавших главным образом в такие страны, как Турция, Чехословакия, Германия, Франция, и в меньшей степени - в Италию, Испанию, некоторые неевропейские страны и Китай. Представителям данной волны, состоящей из наиболее культурных слоев российского общества, настроенным на возвращение на родину, по мнению исследователей [Раев 1994,
Назаров 1994, Пфандль 19946, Земская 2001а, Голубева-Монаткина 2001 и др.], в большей мере удалось сохранить единство, культуру и язык;
вторая волна - после Второй мировой войны, значительно уступает первой волне, как в количественном, так и в качественном (образование, социальный статус) отношении. Страны эмиграции, за исключением Китая, прежние, однако большая часть эмигрантов приходится на США. Внутренняя установка данных эмигрантов, в большинстве случаев, заключается в скорейшей ассимиляции [Пфандль 19946, Эндрюс 1997, Земская 2001а и др.];
третья волна - эмиграция 70-х годов, известная как «брежневская», основанная на разрешении евреям и немцам вернуться на историческую родину. Под видом евреев и немцев в эти годы СССР покинули многие известные писатели и ученые. В основном данная волна представлена образованными и культурными людьми, как правило, владеющими английским языком (или языком принимающей страны). Основные страны эмиграции - Израиль, США, ФРГ [Земская 2001а и др.];
четвертая волна - постперестроечная (после 1987 г.), или экономическая. Главным образом, данная волна включала уезжающих с целью поиска работы, а также так называемых «новых русских». Страны эмиграции — США, Франция, Италия, Финляндия и др. Уровень образования зачастую достаточно низкий. По данным Н.Л. Пушкаревой, 99,3% выезжающих из России в 90-е годы не знали никаких языков, кроме русского [см. об этом: Земская 2001а]. Их установка - добиться успеха в новой стране, ассимилироваться [Пфандль 19946, Земская 2001а].
Выделение волн эмиграции, несомненно, имеет значение для исследователей, поскольку, в зависимости от принадлежности к той или иной волне, эмигранты различаются по своему отношению к языку, по стремлению к его сохранности и чистоте в условиях иноязычного окружения, по времени, проведенному вне родины, а также по принадлежности русского языка к определенной эпохе. В настоящей работе данное понятие важно в связи с особенностями русской эмиграции в Австралию, оказавшими влияние на уровень языковой культуры эмигрантов данной страны.
Первая волна эмиграции
Упоминания о первых русских в Австралии датируются концом XIX века. Однако это были лишь отдельные переселенцы [Говор 2001], а первой волной можно считать массовое переселение россиян с Дальнего Востока в начале XX века. Причину этого исследователи видят в недовольстве новой экономической политикой правительства после поражения в войне с Японией. Основным же толчком, по мнению историков, послужило то, что в 1910-1911 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке «сконцентрировалось большое число разочарованных переселенцев, наиболее мобильные и энергичные из которых устремились за границу. Массовому переселению в Австралию способствовало то, что рабочие руки пользовались здесь постоянным спросом, и австралийское правительство не требовало от иммигрантов денежного залога, который вносился на случай болезни или безработицы» [Каневская 1999: 34]. Немного позже, в 20-х годах, русская колония пополнилась засчет бежавших от большевизма, однако исследователи отмечают, что их число было незначительным [Дмитровский 1996, 1999, 2003], поэтому в данном исследовании они не выделяются в отдельную волну.
По данным дальневосточной прессы, а также научных исследований представителей русский эмиграции в Австралии, основная часть переселенцев занималась тяжелым физическим трудом на строительстве дорог, рубке леса, золотых приисках, фермах и плантациях. Социальный состав эмигрантов был представлен выходцами из рабочей и крестьянской среды [Малаховский 1981; Дмитровский 1996; Каневская 1999; Говор 2001]. На положении эмигрантов сказывалось, в первую очередь, незнание английского языка. По этой причине квалифицированным рабочим невозможно было получить работу по специальности. Средством общения внутри этнического сообщества служил русский язык, однако целью сообщества была скорейшая ассимиляция, что отражалось, в первую очередь, на молодом поколении. По мнению самих эмигрантов, «многие из молодого поколения уже перестали говорить по-русски, а о письменности и говорить не приходилось, т. к. не было русских школ, да и вообще для молодежи ничего не делалось — она воспитывалась вне русской культуры» [Суворов 1996: 12].
Тем не менее русская колония формировалась, и центром ее жизни была православная церковь. Хотя следует признать, что по сравнению с религиозной устремленностью эмигрантов первой волны в Европе, это было не так ярко выражено [Шатилов 1997]. Однако уже с 1925 года в Брисбене , в здании англиканской церкви, проводились православные богослужения [из воспоминаний Н.М. Кристесен (урожд. Максимова) - основательницы первого отделения русского языка и литературы в Австралии: А. - 14]. В 1926 году был освящен первый Св. Николаевский храм, а уже в 1927 году при нем была открыта первая в Австралии прицерковная русская школа [Малиевская 2003]. В 1933 году был основан и зарегистрирован первый в Сиднее православный приход (Св. Владимирский) [Суворов 1996].
С ростом русской колонии стали появляться и первые печатные издания. В 1912 г. В Брисбене начинает выходить газета «Эхо Австралии», через год вместо нее появилась газета «Известия Союза русских рабочих», которые являлись печатным органом революционно настроенных рабочих. Австралийские власти добились ее закрытия, но уже в 1916 году начинает выходить та же газета, но под другим названием - «Рабочая жизнь» [Малаховский 1981; Савченко 1998]. Впоследствии выпускалось еще несколько газет, но они быстро закрывались, и русская пресса на некоторое время замолчала. Однако в 1929 в Брисбене почти одновременно стали выходить журнал «Дальний юг» и «Чужбина». С 1932 года в Сиднее выходит журнал «Церковный колокол», вскоре переименованный в «Церковь и наука», который издавался до 1939 года (45 номеров); с 1935 по 1941 гг. выходит также журнал «Путь эмигранта», освещающий русскую жизнь в Австралии. Кроме того, выходило еще несколько непериодических журналов: «Азия» (1934—1937 гг.), «Австралазия» (1933-1935 гг.) и др.
По неофициальным данным, количество русских людей в Австралии к началу 30-х годов не превышало 1500 человек (приблизительно 500 из них проживало в Сиднее). Тяжелые жизненные условия в Австралии, по мнению исследователей, не способствовали общественной, культурной и православной деятельности эмигрантов того времени.
Таким образом, можно сделать вывод, что русская община первой волны эмиграции в Австралии формировалась медленно и была довольно разобщенной и, по большому счету, нельзя говорить о русской духовной и интеллектуальной жизни эмиграции этого периода. Таким образом, можно утверждать, что первая волна эмиграции не сыграла значительной роли в формировании и развитии русского зарубежья Австралии.