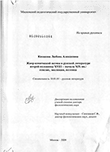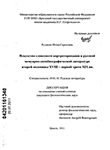Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Историография вопроса 18
Глава II. Зарождение усадебной темы в русской литературе XVIII века (50—60-е гг.) 40
Глава III. Усадебное пространство в творчестве писателей конца XVIII - начала XIX вв. 65
Авторский комментарий и проблема поэтической референции 65
Мотив путешествия в MOJIUX жанрах сентиментальной литературы, его роль в освоении художественного пространства 81
«Бедная Лиза» Н. М. Карамзина: на пути к эпохе неготового слова 108
Изображение сельской жизни у Н. М. Карамзина и Г. Р. Державина: традиции и новаторство 122
Глава IV. Усадебная топика в поэзии А. С. Пушкина 141
Глава V. Слово vers реальность: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина 173
Заключение 224
Библиография 235
- Зарождение усадебной темы в русской литературе XVIII века (50—60-е гг.)
- Мотив путешествия в MOJIUX жанрах сентиментальной литературы, его роль в освоении художественного пространства
- Усадебная топика в поэзии А. С. Пушкина
- Слово vers реальность: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина
Введение к работе
Данное диссертационное сочинение представляет собой предпринятое в литературоведческом ключе (в противовес распространенному ранее культурологическому подходу) и осуществленное в русле современных тенденций литературоведения исследование проблемы соотношения литературы и действительности на примере отдельной темы — темы усадьбы. В центре работы оказываются художественные средства, которыми писатели обозначенной эпохи стремились запечатлеть жизнь в своих произведениях, и то, как эти средства развивались со временем в зависимости от личной интенции автора, от литературного направления и от предписанных этим литературным направлением правил. Выбор дворянской усадьбы в качестве объекта исследования обусловлен исторической замкнутостью этого явления русской культурной жизни: это ограниченный отрезок действительности в ограниченном числе произведений, что позволяет надеяться на более или менее законченный обзор проблемы. Однако тот факт, что для диссертационной работы даже этот ограниченный круг произведений оказывается достаточно широким, привел к необходимости сократить период исследования до нескольких десятилетий, на которые пришлись зарождение и первые этапы развития темы усадьбы в русской литературе. При этом представляется обоснованным предположение о том, что исследование развития отдельной темы в ограниченном пространстве художественных текстов может способствовать решению проблемы развития тематического комплекса (отражение действительности) в национальной литературе в целом.
Актуальность исследования заключается в том, что, несмотря на наличие большого количества исследований на тему усадьбы в русской литературе, интерес к которой заметно усилился в течение последних десятилетий и по-прежнему нарастает, большинство из них имеет явно культурологический характер и не затрагивает непосредственно фактуру художественного текста. Таким образом, в ряде случаев исследователь не идет дальше констатации простого факта: в произведении содержится описание усадьбы или того или иного ее элемента. Механизм взаимодействия реалии и художественного текста оказывается при этом не выявленным, а значит, в предлагаемой филологической плоскости (методы описания усадьбы в художественной литературе и их эволюция) вопрос вряд ли можно считать решенным.
В связи с этим цель диссертации — исследовать принципы описания усадьбы в русской литературе второй половины XVIII – первой половины XIX вв. и выявить соответствующие им художественные методы писателей этого периода.
Достижение указанной цели предполагало решение ряда теоретических и практических задач: 1) выявить и обосновать хронологические рамки исследования; 2) выявить список наиболее значимых с точки зрения проблематики работы жанров, авторов и их произведений в рамках выбранного периода литературы; 3) выявить и проанализировать культурно-исторические факторы, влияющие на особенности художественных методов этих авторов; 4) осуществить максимально глубокий литературоведческий анализ выделенных художественных текстов в свете обозначенной в диссертационном сочинении проблемы; 5) дать литературоведческий анализ описываемых в работе художественных процессов.
Объектом исследования настоящей диссертации является развитие усадебной тематики в русской литературе от ее внетекстового присутствия в художественном произведении до прямо явленного описания, наделенного значимыми в рамках того или иного текста художественными функциями.
Предметом исследования являются художественные методы, с помощью которых авторы смогли с разной степенью достоверности описать усадебное пространство в своих произведениях.
Материалом исследования стали литературные произведения, соотносящиеся с темой диссертации, а также публицистика, переписка, воспоминания, так или иначе подтверждающие или опровергающие связь художественного текста и внетекстовой действительности, то есть выявляющие референциальные связи литературы и реальности. В той или иной степени в диссертационном сочинении задействованы тексты А. Д. Кантемира, А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизина, М. М. Хераскова, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина, М. Н. Муравьева, И. И. Дмитриева, А. Т. Болотова, А. Н. Радищева, П. Ю. Львова, Ф. А. Эмина, Н. Ф. Эмина, К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, Н. И. Гнедича, В. В. Капниста, А. С. Пушкина и др.
Метод работы, основанный прежде всего на традиционном филологическом анализе избранного корпуса текстов, был дополнен контекстологическим, мотивно-семантическим, историко-литературным, а также лингвистическим методами. Определенным методологическим новшеством можно считать применение метода деконструкции к творчеству писателей XVIII века, в частности, Г. Р. Державина.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем, как представляется, впервые ставится вопрос о непосредственно текстовых механизмах описания усадьбы в художественной литературе и о том, что от эпохи к эпохе и от автора к автору эти механизмы претерпевали определенные изменения. Кроме того, впервые для решения указанных задач привлекаются элементы лингвистического анализа, в частности, делается попытка построения системы лексико-семантических полей, составляющих основу описания усадьбы в литературном тексте.
Положения, выносимые на защиту:
-
В XVIII веке, в период активной рецепции античности отечественной культурой, произведения греческих и римских авторов представляли собой для русских поэтов свод разнообразных рекомендаций и правил для стихосложения, при этом творчество понималось как подражание непревзойденным образцам. В этих условиях усадебное пространство изображалось русскими литераторами в рамках наиболее подходящего жанра — идиллии и с помощью заготовленных для этого культурой методов (за счет использования идиллических шаблонов). Параллельно возникала и развивалась культура комментариев, призванных облегчить восприятие читателем аллегоричных текстов, как переводных, так и оригинальных.
-
В период глубокой перестройки литературной культуры, когда готовое слово постепенно уступает место неготовому, характер комментариев меняется: наряду с текстологическими и культурными, возникают комментарии, связанные с поэтической референцией. Примером того, как комментарии меняют референциальную функцию произведения, осложняя его контекст, но не затрагивая структуру, служит поэзия Н. М. Карамзина: в своих комментариях, авторских отступлениях, переписке автор указывает на то, что сельская жизнь, шаблонно изображенная в его стихотворениях, имеет непосредственную связь с действительностью (за пределами художественного текста Н. М. Карамзин, в частности, уточняет, где и когда лично наблюдал описываемый пейзаж и т. п.). Комментарии, а также воспроизводимый по переписке и воспоминаниям современников контекст выводят произведение за пределы художественной абстракции в жизненную конкретику.
-
Другим явлением, открывающим миметические способности литературы, оказывается привлечение в произведение, не относящееся к роману-путешествию, отдельных элементов этого жанра. Вкупе с элементами, характерными для эпистолярных текстов, которые так же, как и тексты путешествий, имеют ярко выраженную документальную направленность, мотив путешествия придает пространству произведения бльшую художественную достоверность.
-
Изменение референциальной функции художественного текста является свидетельством начинающегося в русской литературе конца XVIII века перехода от эпохи готового слова к неготовому. Ярким примером того, как этот процесс затрагивает литературное произведение, является повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза», анализ которой предпринят в диссертационном сочинении в рамках рассмотрения одной из основных для идиллической и усадебной топики оппозиции деревня — город.
-
Конкретизация текстовой референции может быть результатом работы автора над окружением текста, во-первых, и над его структурой, во-вторых. Различные методы такой работы демонстрируют Н. М. Карамзин и Г. Р. Державин, каждый по-своему используя традиционный набор идиллических шаблонов в своей художественной мастерской. При этом Н. М. Карамзин берет типичные идиллические формулы и наполняет их иногда новым, но чаще знакомым содержанием, дробит их, распространяя более частными клише. В результате получается нечто вроде идиллического образа. Г. Р. Державин преодолевает смысловую инерцию идиллических элементов в своей поэзии, сочетая маркированные элементы пастушеской идиллии с откровенными прозаизмами, а также используя прием контраста, который распространяется на две соседние строфы, первая из которых, наполненная бытовым содержанием и прозаизмами, невольно задает восприятие второй, написанной в духе буколик. Это значительно изменяет эффект, производимый на читателя второй, клишированной, строфой, снижает ее изначальную поэтичность.
-
Следующим этапом в рассмотрении усадебной топики в русской литературе становится ее изучение в творчестве А. С. Пушкина. Через анализ связанных с описанием усадьбы оппозиций (деревня — город, лень — скука) и сопряженных с ними мотивов в диссертационном сочинении показано, как в процессе творческого взросления А. С. Пушкин постепенно преодолевает рамки культуры готового слова. В частности, в его творчестве на разных уровнях текста (фразеологическом, лексическом, стилистическом, структурном, а также на уровне персонажей) снимается оппозиция деревня — город. При этом идиллическое описание села и сельской жизни остается. Однако по завершении глобальной работы с организующими оппозицию тематическими комплексами, выполненной с помощью различных художественных приемов и методов (будь то сравнение, параллелизм или расширение семантического поля клишированного слова), оно переходит в новое качество. Теперь идиллическое описание деревни само становится художественным приемом.
Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что методика анализа темы усадьбы может быть применена при изучении других тематических комплексов в русской литературе различных периодов с точки зрения референциальной функции текстов. Кроме того, выводы, сделанные в данном исследовании, могут найти применение в концепциях, нацеленных на выявление общих принципов развития литературы.
Практическая значимость работы заключается в том, что основные результаты исследования могут быть использованы в вузовской системе преподавания в качестве материала для составления учебных программ, пособий, лекционных курсов и спецкурсов по истории русской литературы и теории литературы.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования нашли отражение в пяти опубликованных работах и были представлены в докладах на следующих конференциях: XXXIV Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, март 2005 г.), I научная конференция сотрудников и слушателей Центра повышения квалификации по филологии и лингвострановедению (Санкт-Петербург, декабрь 2005 г.), XXXV Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, март 2006 г.), XXXVI Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, март 2007 г.), XLI Международная филологическая конференция (Санкт-Петербург, март 2012 г.).
Что касается структуры диссертационного сочинения, то оно состоит из введения, предисловия, пяти глав, заключения и библиографического списка из 187 наименований. Объем диссертационного сочинения составляет 247 страниц.
Зарождение усадебной темы в русской литературе XVIII века (50—60-е гг.)
Как факт культуры усадьбы возникают в результате реформ Петра I и уже к последней четверти XVIII века воспринимаются как нечто привычное. Именно с точки зрения человека, привыкшего к усадебному укладу, Николай Михайлович Карамзин пишет: «Старинные русские бояре не заглядывали в деревню, не имели загородных домов и не чувствовали ни малейшего влечения наслаждаться Природою (для которой не было и самого имени в языке их); не знали, как милы для глаз ландшафты полей и как нужен для здоровья деревенский воздух... Только при Государе Петре Великом знатные начали строить домы в подмосковных; но еще за 40 лет перед сим богатому русскому дворянину казалось стыдно выехать из столицы и жить в деревне. Какая разница с нынешним временем, когда Москва совершенно пустеет летом; когда всякий дворянин, насытившись в зиму городскими удовольствиями, при начале весны спешит в село слышать первый голос жаворонка или соловья!»1.
Конечно, было бы ошибкой утверждать, что до середины XVIII века русская аристократия жила исключительно в городах. Но до этого времени не было еще того явления, которое принято называть «русской усадебной культурой». Усадьбы были частью «замкнутой средневековой культуры XVII века» и «имели явно выраженный хозяйственный уклон»". По словам Н. Д. Чечулина, «тогдашние усадьбы — совсем не то, что привыкли мы представлять себе под этим именем в позднейшее и нынешнее время. Дома помещиков ставились не на открытом месте, с красивым по возможности видом, а так, чтобы побольше было видно хозяйственных построек; по устройству эти дома были почти таковы, каковы теперь крестьянские избы в северных губерниях: многие состояли из двух только комнат, разделенных сенями, причем одна служила зимним, другая летним жильем и могла временно служить для помещения гостей; если и было в доме больше комнат, то все-таки зимой многие семьи помещались в одной; большая часть дома обыкновенно занята была огромными сенями, кладовыми, девичьею и большою, так называемою переднею комнатою, почти сплошь уставленною образами, так что она походила на часовню. Комнаты были чрезвычайно малы, тесны, низки и мрачны; не в самом даже маленьком домике можно было из окна рукою достать до земли; полы, потолки, конечно, были не крашены, — полы иногда столь грязны, что почти не возможно было их и отмыть, и притом с огромными дырами от крыс; крыс и мышей всегда бывало множество, так что они не только поднимали страшную возню и беготню, едва погашены были свечи, но иногда вскакивали на постели и даже кусали спящих; стены домов у дворян небогатых не были обыкновенно ничем обиты, в маленьких окнах вставлены потускневшие, темные стекла; иногда не было зимних рам, и на ночь окна жилой комнаты заставлялись для сохранения тепла досками. Те старинные помещичьи дома, которые еще до сих пор можно видеть кое-где, были выстроены уже впоследствии, в 70-80-х годах несравненно больше, и огромнее, и лучше хором старинных»1.
Такое описание типичной усадьбы первой половины XVIII века подтверждается и документальными источниками. Например, согласно описи с. Ясенево Московского 1718 года, «двор вотчинника состоял из хоромного строения о «дву жильях». Стены в светлицах были выбелены и обтянуты полотном, двери раскрашены, косяки окон — со стеклянными и волоковыми окончинами. Из мебели упоминаются простые и обитые кожей стулья, лавки «с опушами», столы, складная кровать, поставцы, шкаф. На стенах висели фряжские листы, иконы. При хоромах имелась мыльня. Во дворе — конюшня, скотный двор, изба для птиц, пруды копаные, огороженный сад с яблонями (660 старых, 715 молодых деревьев), груши, вишни, кусты красной смородины, крыжовника и небольшой цветник. Село окружала березовая роща» .
При этом вплоть до середины XVIII века служилые дворяне нечасто бывали в своих поместьях, посещая их время от времени «для приезду» и «для прохлады», ради отдыха «от напряжения, всегда сопутствующего пребыванию при дворе, и от общества, вернее, от людей, от встреч с которыми не можем уклониться в городе»".
Примечательно, что присутствие темы усадьбы в русской литературе оказывается прямо пропорциональным ее присутствию в российской культурной жизни вообще. Например, незначительное место загородного имения в первой половине XVIII века и его роль, по сути, дачи городского жителя нашло свое отражение в сатирическом творчестве А. Д. Кантемира 30-х годов столетия.
Примечательно, что Кантемир, так же, как и в приведенных выше цитатах Карамзин, для обозначения загородного имения использует слово «деревня». Поскольку в дальнейшем в работе оба этих понятия также будут взаимозаменяемы, отметим, что в аспекте рассматриваемой темы, особенно применительно к произведениям данного периода, слова «усадьба» и «деревня» можно считать синонимичными. Фактически (за редкими исключениями), в XVIII и даже в начале XIX века слово «усадьба» почти не употреблялось, а для обозначения помещичьего имения использовалось слово «деревня» — в «Словаре языка Пушкина» оно определено именно как «помещичий дом с примыкающими к нему строениями и угодьями»1, что практически слово в слово совпадает с определениями в словарях Д. Н. Ушакова2, С. И. Ожегова3 и В. И. Даля4.
По мысли Н. В. Коротковой, «семиотизация концепта «провинция» происходит в XVIII веке. В это время в русский язык проникает данное заимствование, использующееся для наименования единицы административно-территориального деления России. Но ядро лингвокультурного поля, обозначенное словом «провинция», формируется не сразу. Важным феноменом провинциальной жизни России XVIII века является «деревня»5: «Россию и доселе называют страною сёл и деревень» .
Эта особенность словоупотребления нашла свое отражение и в «русифицированных» переводах того времени: «Так, Н. И. Ознобишин, переводя «Жизнь Беликурта», совершенно по-русски убийц называет «душегубами», католического священника — «игуменом», а монахиню — «черничкой», дворянина — «боярином» (это наименование прозвучало в речи слуги), французские деньги — «ефимками», а сельское поместье — «деревней»1.
Только к середине XVIII столетия создаются и обустраиваются крупнейшие загородные резиденции Москвы и Петербурга, формируется быт дворянской усадьбы: «Провинциальное общество, в том приблизительно смысле, как понимаем мы это слово теперь, образовалось в России только во второй половине XVIII века; только в эту пору явилось в провинции довольно значительное число дворян, людей по-тогдашнему интеллигентных, проводивших тут всю свою жизнь, а не только годы старости после тяжелой службы; только в эту пору дана была и дворянам, и городскому сословию известная, даже довольно большая, доля участков местной администрации»".
Процесс обустройства дворян в загородных имениях шел в несколько этапов. Один из них ознаменовался Манифестом о вольности дворянства 1762 года, после издания которого строительство богатых дворянских усадеб приняло широкий размах . Впоследствии грамота 1785 года завершила длительный процесс законодательного закрепления привилегий дворянства, его господствующего положения. Как известно, согласно этим документам, дворяне получали право служить или не служить по своему выбору. К тому же подтверждались все их права на наследственные и приобретенные имения, а также право передачи этих имений по наследству. «То есть имения окончательно становились частной, неотчуждаемой собственностью дворян. Специальная статья грамоты разрешала им заводить в своих имениях фабрики и заводы. Помещичьи дома освобождались от постоя войск, а сами дворяне — от всех видов податей. В губерниях создавались губернские дворянские собрания, в обязанность которым вменялось ведение дворянской губернской родословной книги, в которую были бы записаны все местные помещики. Оговоренные грамотой 1785 года сословные привилегии дворянства окончательно отделили его от всех прочих слоев общества, поддерживая его господствующее положение. Ускорился процесс складывания самосознания дворян»1.
Таким образом, для дворян в это время становится актуальной новая реальность — усадебная жизнь. «Многие дворяне переделывают свои дома, изменяют способы хозяйства... Мы видим также среди дворян расширение потребностей, появление первых признаков чувства изящного, и для кассы тогдашнего среднего дворянства это тоже было немалым шагом вперед: прежние жилища кажутся теперь уже слишком малыми, тесными, похожими на тюрьмы; строятся новые дома, более просторные, комнат в восемь и даже более, и все эти комнаты кажутся „необходимо надобными для спокойного обитания"; они делаются выше, больше, светлее; убираются обоями, украшаются какими-нибудь картинами, гравюрами и т. д.; но вся жизнь, вся обстановка в 60-х годах еще очень проста, более близка еще к старому, и нет почти признаков той роскоши, которая получила потом широкое распространение; впрочем, первые ее признаки — множество разнообразной прислуги, роскошные костюмы, экипажи и т. д. — появились уже в начале 70-х годов»". Примерно в это же время «во многих домах собираются значительные библиотеки, картины, коллекции эстампов, разных редкостей и т. д.» .
Мотив путешествия в MOJIUX жанрах сентиментальной литературы, его роль в освоении художественного пространства
Способность жанра путешествия делать художественное пространство текста реалистичным не могла оказаться незамеченной и самим Карамзиным. Неслучайно в его повести «Лиодор» , содержащей, пожалуй, одно из интереснейших описаний господского дома в сентиментальной литературе, постоянно звучит мотив путешествия: «Я взял трость свою — ту самую, любезная Аглая, которую некогда ты мне подарила и которая была мне верным сотоварищем во всех дальних моих путешествиях» (99); «Лиодор рассказал нам, что он вырос в чужих краях, много путешествовал и только за два месяца перед тем возвратился в Россию» (101); «Вы сами путешествовали, друзья мои, и видели много земель и много наций» (106); «...Охота к путешествиям во мне пробудилась, и я поехал в Гишпанию» (106); «...Сообщая друг другу примечания, сделанные нами в путешествиях, и взаимно объясняя наши мысли...» (102).
Художественное пространство повести охватывает огромные расстояния, которые герои преодолевают: «Отец мой послал меня в Лейпцигский университет» (104); «Она жила в деревне близ Казани; я спешил туда» (105); «...спешил я выехать из России» (105); «Я приехал в Париж» (105); «Я поехал в Гишпанию» (106); «Оттуда возвратился я во Францию и приехал в Марсель» (106). Текст «Лиодора» изобилует географическими обозначениями: Россия, Москва и Подмосковье (в «подмосковных деревнях» (101)), Европа, Лейпциг, Германия, Казань, Париж, Гишпания, Гвадиана, Марсель, Прованс, река Рева (в существовании последней приходится сомневаться, но тем примечательнее попадание вымышленного названия в ряд реальных). В этом контексте даже идиллическое пространство сада стремится получить свое место на карте: «аллея Д го сада» (100).
Такой географический разброс никак не укладывается в рамки ограниченного идиллического хронотопа, как не укладывается в него и стремящиеся к максимальной конкретизации пространство и время повести, насыщенные уточняющими деталями: «...пошел в рощу, которая примыкала к нашему саду» (99); «в десяти шагах отсюда» (101); «через сад пришли в дом» (101); «в таком отдалении от столицы» (101); «в деревню, которая была в четырех верстах от нашей» (101); «наконец он спрятал портрет, встал, оделся, вышел с нами из дому, сел на высоком берегу шумящей Ревы» (104); «более месяца прожили мы в деревне, и никто из нас не чувствовал скуки» (99); «за два месяца перед тем» (101); «прожив несколько недель» (101); «забыв время, он пробыл с нами до полуночи» (101); «на другой день поутру» (101); «около месяца жили мы таким образом» (103); «мне было еще не более двенадцати лет» (104); «я прожил там уже около семи лет» (104); «за три дни перед тем» (105); «несколько дней сряду» (105); «около трех лет прожил я в Париже безвыездно» (106); «часы мои показывали полночь» (109).
Иногда мотивы времени, пространства и мотив путешествия оказываются сконцентрированными в одном предложении: «Незнакомец мой сказал мне, что он помещик соседней нашей деревни, в которую недавно приехал и в которой со дня приезда живет уединенно» (100). Здесь и пространственный элемент в сочетании соседняя деревня, и временные недавно и со дня, и глагол движения приехал вкупе с образованным от него существительным приезд.
Все эти, на первый взгляд, весьма разобщенные и разбросанные по тексту мотивы играют в произведении значительную роль, в том числе, подготавливая читателя к восприятию изображения усадебного дома. Ни текст, ни комментарии не дают оснований полагать, что это описание здания, существовавшего в реальности, но тот факт, что это описание производит впечатление достоверного, вряд ли можно отрицать: «Там, на высоком берегу реки Ревы, стоял большой деревянный дом, построенный в начале текущего столетия и весьма близкий к своему конечному разрушению; мох, трава и самые дерева росли на его гниющей кровле, под свесом которой гнездились тысячи голубей, галок и других птиц, составлявших криком своим всегдашний дикий концерт, и на которой, подобно башням, торчало, по крайней мере, двадцать слуховых окошек; он обведен был рвами, некогда глубокими, но временем отчасти заглаженными, — тут жил Лиодор с камердинером французом и с тремя слугами. Комнаты были одна другой меньше и темнее; везде свистал ветер, хлопали двери, стучали окончины (по большой части перебитые), и тряслись доски, по которым мы шли» (101).
В этом описании сконцентрированы и подготовленные всем текстом повести обозначения пространства и времени — на высоком берегу реки Ревы; в начале текущего столетия, некогда, временем; и апелляция к линейной дихотомии прошлое — настоящее (что было — что стало: построенный в начале текущего столетия и весьма близкий к своему конечному разрушению; рвами, некогда глубокими, но временем отчасти заглаженными); и стремление к конкретизации, вплоть до численной, отдельных деталей: двадцать слуховых окошек; по большой части перебитые. Примечательно также употребление слов, близких к строительной терминологии: кровля, свес, башни, окончины, слуховые окошки. Бесспорно, все это мало сообразуется с традиционным идиллическим хронотопом.
Своеобразный контраст этому описанию составляет, напротив, скупое на детали изображение старинных усадеб, которые в циклический хронотоп идиллии как раз вписываются: «В сих теремах, любезная Аглая, сиживали в старину красные девицы, подгорюнившись, смотрели в поле чистое, ждали милых своему сердцу и, не видя их идущих, проливали слезы горючие из ясных очей своих; вздохи тяжкие, сердечные, колебали грудь их белую». И далее: «... Мы разговаривали о тех временах, когда русские дворяне, послужив верою и правдою, послужив богу, царю и отечеству, возвращались в свои поместья, жили в деревенских замках своих как маленькие царики, гуляли с своими соседями, и в те веселые минуты, когда Оссианская чаша радости вокруг ходила, рассказывали друг другу свои славные подвиги и показывали раны, полученные ими в служении отечеству». Это описание мифологизированного идиллического прошлого, события которого повторяются изо дня в день в неком лишенном любой конкретики пространстве. Переход от одного маркированного описания к другому происходит в рамках одного предложения {«Хозяин выбрал для своего кабинета самую верхнюю комнату, которая в свое время называлась теремом или светлицей» (101-102) — от кабинета к светлице), что только усиливает их контраст.
Тот факт, что принципы художественного описания в жанре сентиментального путешествия отличаются от таковых в иных литературных формах, был замечен и другими писателями, в частности, выдающимся современником Н. М. Карамзина М. Н. Муравьевым. Подобно Карамзину проявивший себя в самых разнообразных литературных формах, Муравьев не был чужд жанру сентиментального путешествия и имел интерес к написанию таких текстов. Взять хотя бы его рукописное путешествие из Москвы в Архангельск в семи письмах под заглавием «Переписка двух приятелей в училище» или «дневниковые заметки» путешествия из Петербурга в Рязань 1793 года «The Idle Traveller. Путешествие праздного человека».
По словам В. Н. Топорова, «прогулка, многократно продолженная во времени и в пространстве, образует путешествие, жанр, к которому М. Н. Муравьев обращался не раз, который он явно любил (как любил и само путешествие), в котором он видел один из путей выхода эпистолярно-дневниковых текстов в литературу, их «оформление в системе жанра «путешествия». Сочетание письма или дневника с путешествием было весьма органическим и по внешним, и по внутренним мотивам. Путешествие, которое в XVIII веке стало излюбленным, очень популярным, обладающим большой и жадно воспринимаемой информацией, предполагало естественную последовательность описаний, которая по условию была укоренена в серии писем одному адресату или дневниковых записей. Письма и дневники сочетали в себе некую прямоту обращения к адресату — внешнему, иному или к самому себе, неофициальность, если угодно, интимность с документальностью непосредственного свидетельского видения»1.
Несмотря на столь ценный для нас вывод, применяется он исследователем в основном в отношении так называемых текстов «передвижений», к которым В. Н. Топоров относит «Утреннюю прогулку», «Доброе дитя», «Журнал путешествия в Оренбург», «Путешествие в Москву», «Путешествие в Архангельск» («Три письма») и им подобные произведения.
Однако наиболее интересным и ценным в рамках интересующей нас проблематики — описания усадебного пространства и роли жанра сентиментального путешествия в его становлении — становится обращение к текстам, формально не относящимся к путевым заметкам. Это, прежде всего, эпистолярная трилогия «Эмилиевы письма», «Обитатель предместия» и «Берновские письма», которая составила своеобразную компиляцию романа-путешествия и романа в письмах — жанров, «дававших простор для описания впечатлений и душевной жизни»".
Усадебная топика в поэзии А. С. Пушкина
Следующим этапом в рассмотрении усадебной топики в русской литературе должно стать ее изучение в творчестве А. С. Пушкина. Такой переход представляется вполне естественным и логичным, тем более что Пушкин является прямым наследником XVIII века, о чем не раз прямо или косвенно говорилось в его собственном творчестве: «Мне галлицизмы будут милы, // Как прошлой юности грехи, // Как Богдановича стихи» (3, XXIX-59).
Недаром, несмотря на то, что имя Пушкина ассоциируется прежде всего с литературой века XIX, большинство исследовательских работ, ему посвященных, так или иначе содержат экскурсы или отсылки в предшествующую эпоху. Связано это с тем, что «Пушкин, как один из творцов русского слова, стоит всецело на плечах XVIII века»1.
Вместе с тем его творчество справедливо считается началом новой эпохи в истории русской литературы, а он сам — истинным гением, обладающим универсальным художественным мышлением, демиургом, оказавшимся способным за четверть века реформировать всю национальную литературу, не оставив, пожалуй, незатронутой ни единую ее область.
«Однако вся эта разносторонняя работа гения была бы бессильной, если бы ей не предшествовала другая работа мысли и искусства — начатый Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароковым и продолжавшийся до Радищева, Карамзина, Жуковского грандиозный труд по построению новой русской литературы как части и наследницы литературы мировой»".
Одной из наиболее традиционных и устойчивых оппозиций в русской литературе еще со времен сентиментализма была оппозиция деревня — город. Противопоставление этих двух пространств и стилей жизни, им свойственных, нашло свое отражение в творчестве наиболее значительных писателей. А. С. Пушкин также не стал здесь исключением, но, как и в случае с другими унаследованными им от литературы XVIII века тематическими комплексами, он качественно изменил характер указанной оппозиции. Это было обусловлено различными причинами, однако одной из основных предпосылок стал медленный, но глубокий перелом в литературной культуре начала XIX века, связанный с переходом от готового слова к неготовому и нашедший свое воплощение в творчестве великого поэта.
Отметим, справедливости ради, что преобразование указанной оппозиции, ее размывание началось задолго до того, как Пушкин вступил в пору своего творческого расцвета. Примерами могут послужить уже рассмотренные нами произведения. Например, в «Обитателе предместия» М. Н. Муравьева новшество вынесено прямо в заглавие и разъяснено в первом же предложении текста: «Не выезжая из города, пользуюся всеми удовольствиями деревни, затем что живу в предместий». Как писал В.Н.Топоров, «предместье имеет свои особые выгоды... Преимущества предместья в том, что город близок, но его неудобств и ограничений практически нет потому, что природа близка, но и удобства культуры и цивилизации тоже сохраняются»1.
То есть все действие произведения разворачивается в «приграничной полосе» между двумя прежде строго разделенными пространствами. Обитатель предместья и его друзья не принадлежат ни одному из них и вместе с тем принадлежат обоим, выступая своего рода посредниками между городом и деревней и таким образом примиряя их между собой. Объединяет эти пространства и мотив переписки: «послания никак не отвечают друг другу, и во всех их пишущий живет в деревне, а человек, к которому он обращается, в городе»1.
По-новому решается проблема взаимоотношения городского и негородского пространства с учетом постоянных передвижений персонажей «Обитателя предместия». То, что проблематика, связанная с оппозицией деревня — город соотносится с темой путешествия, было отмечено Л. Росси применительно к переписке Муравьева с его отцом 1797 года: «Идея путешествия как «туризма» придает новое звучание той диалектике города и деревни, которая играет такую важную роль во всей муравьевскои прозе. Как видно из начала второго письма, здесь деревня является только приятным местом отдыха, после которого и праздному путешественнику придется вернуться к трудовой жизни города»".
По-своему толкуется оппозиция деревня — город и в пьесе Д. И. Фонвизина «Корион», которая начинается пародоксальной с точки зрения предшествующей литературной традиции репликой Корионова слуги Андрея.
Деревенское пространство, прежде желанное, любимое и оцениваемое исключительно со знаком «плюс», описывается в негативном тоне, тогда как его антипод — город — становится для персонажа идеальным местом. Получается, что положительная и отрицательная оценки не безусловно, неоспоримо и неизменно свойственны деревне и городу, а могут даваться то одному, то другому пространству в зависимости от точки зрения того или иного персонажа, то есть качества их оказываются не риторически-объективными, а субъективными, изменяемыми.
Еще одним примером тому служит анонимная повесть 1772 года «Колин и Лиза»1, в которой героиня — прекрасная пейзанка — побывав в городе, пленяется им: «Между тем они приходят в город. Лиза всему удивляется, что ни видит; любуется строением города, смотрит на проезжающих»; «Лиза всю дорогу удивлялась великолепию города и была довольна тем, что она видела»; «Я, йдучи в город, во всю дорогу плакала о тебе, — сказала Лиза, — но там я увидела столь много нового для себя, что мне и загрустить некогда было... какие домы! Какие сады! Как хорошо; наряжены жители!»; Лиза «воображает, что она еще вновь увидит многое, что ее дивиться заставит. Приходит к городу, с восхищением смотрит на все, что ей встречается».
При этом Лиза не холодная, ветреная кокетка: ей, как и ее возлюбленному Колину, даются исключительно положительные характеристики. Она проста («простота нравов и сердец их соответствовала простоте их жизни»), честна («сердца их, не знающие притворства...»), скромна («"Мне кажется, ты лучше меня, Колин", — сказала Лиза»), а также добродетельна и наивна («Лиза была добродетельна, и легковерие стало причиною ее погибели; она, не зная хитрости человеческой, пленялася одною наружностию, не думая, чтоб приятные виды скрывали яд в себе»; «Лиза, будучи невинна, верит всему»).
Лиза искренне любит Колина: «Назавтрее они увиделись и еще больше друг друга полюбили. Они уговорились всякий день сходиться, и каждый день любовь их жарчее становилась; они не находили ни в чем удовольствия друг без друга; начинающееся утро рождало в них желание скоряй увидеться. Они спешили друг ко другу; сельские труды их не тягостны, но приятны им были, для того, что они были вместе; ничто не вмешивалось в их разговоры, кроме любви».
Вынужденная отправиться в город, Лиза печалится разлуке с возлюбленным и постоянно думает о нем: «В один день Лиза с заплаканными глазами прибежала к Колину... "Ах, Колин! Ты не знаешь нашего несчастия..."»; «Она шла печальна: Колин не выходил из ее мыслей ни на минуту»; «Я бы не желала ее [дорогу] вечно знать, — вздохнувши, отвечала Лиза, — для того, что дорога разлучает меня с Колином...»; «"Я, йдучи в город, во всю дорогу плакала о тебе", — сказала Лиза». Даже в городе девушка «не забывает о своем любовнике. "Ах, Колин! Ежели бы ты был со мною, мне бы новость сия еще была приятнее"». А вернувшись, «с нетерпеливостию хочет видеть Колина, чтобы рассказать ему о городе, ищет его глазами».
Да и в город Лиза отправляется не из праздного интереса, а в угоду отцу и во имя любви к Колину: «Ты ноньче же с ним увидишься, — сказал отец, — можно уделять несколько часов для прибыли отца своего, мы за то ускорим вашею свадьбою». Конечно, впоследствии можно заподозрить Лизу в стремлении к богатству и роскоши: по пути из города она считает вырученные за ягоды деньги, а в господском доме «пленяется всем, что она видит». Но даже это опровергается текстом повести: считая деньги, Лиза думает только о своем отце, «воображает, как отец им обрадуется и сколько хвалить ее станет за то, что дорого продала ягоды», а в городском доме «больше всего пленяется» не роскошью, а «вежливостью господина» .
Совсем иначе в повести проявляет себя Колин. Во-первых, он никак не препятствует походу девушки в город и пассивно отпускает ее: «Колин запечалился, но пособить было нечем». Во-вторых, Колин оказывается настоящим эгоистом: если Лиза до встречи с барином думает только о нем, то Колин думает лишь о себе, а его реплики пестрят местоимениями «я» и «мне»: «Ах! Как мне скучно было без тебя, Лиза, и сколько теперь я весел, тебя увидя!»; «Меня это сокрушает»; «Я бы желал, чтоб мы ничего не нашли и чтобы никогда не родились у нас ягоды: тебя бы не стали посылать и я бы не терпел того, что я теперь терплю»; «Ах, как мне жаль тебя, Лиза; сегодняшнее расставанье мне тошнее прежнего».
Слово vers реальность: «Евгений Онегин» А. С. Пушкина
Как следует из предыдущей главы, для А. С. Пушкина как для наследника предшествующей эпохи по-прежнему остается актуальной проблема описания городского и деревенского пространства в художественном произведении, а значит, не теряет своего значения традиционная оппозиция деревня — город. В своем творчестве Пушкин качественно меняет характер указанной оппозиции и принцип описания ее элементов. Не последнюю роль в этом сыграла работа с мотивами, организующими данный тематический комплекс, которая во многом позволила снять с них прежнюю условность и придать городу и деревне реальные очертания.
В усадебную жизнь читатель «Евгения Онегина» окунается уже в первой главе вместе с Евгением, причем тут же сталкивается с отмеченным применительно к пушкинской лирике противоречием: идиллически описанная деревня оказывается пристанищем скуки. При этом мотив скуки возникает в самой первой строфе романа («Но, боже мой, какая скука // С больным сидеть и день и ночь») и проходит через все произведение, иногда нарочито привлекая к себе внимание).
В этой строфе представлен весь набор идиллических штампов: уединение, поля, тишина, ручей, рощи. Но в ней же содержатся и кардинальные отличия от пастушеской лирики. Во-первых, это сравнение сельской и городской жизни, нетипичное для идиллического жанра. Во-вторых (что самое парадоксальное), это результат указанного сравнения: автор приходит к выводу, что разницы никакой между ними нет, ведь «и в деревне скука та же», и традиционное противопоставление деревенского парадиза и города снимается.
Причем важно именно уравнивание деревни и города, а не их сравнение в пользу одного или другого. Например, мать Татьяны в свое время пережила обратную смену эмоций.
Во-первых, в этих строфах по сравнению с предыдущей кардинально меняется лексика: двадцать восемь строк о деревне — и ни одного «типично идиллического» слова. На их роль могли бы претендовать слова, однокоренные со словом «покой» — одним из основных понятий идиллической лирики: в двух строфах они встречаются трижды. Но все дело в том, что, кроме морфологического родства, с элегическим покоем их, пожалуй, ничто не объединяет. Покои как жилое помещение — это в смысловом плане уже совсем другое слово (хотя в контексте данного исследования обращает на себя внимание): «Везде высокие покои», «Он в том покое поселился». Что же касается «почтенного замка», который был «спокоен», то в сочетании с однородным членом «прочен», «спокоен» здесь начинает означать не тот метафизический, вселенский покой, о котором поется в идиллиях, а банальную безопасность.
Также в этом очень конкретном (на общем фоне писательских экзерсисов той эпохи) описании господского дома привлекают внимание слова «должны» и «умная» по отношению к старине (далее во второй главе появляется «благоразумная тишина»). Возникает мотив разумности, пользы, что было чуждо далекому от категорий практичности идиллическому миру. Намек на это встречаем еще раньше (в строфе LIII первой главы).
«Сельский житель» (сочетание, влекущее за собой целый шлейф идиллических ассоциаций) оказывается обладателем не только вод, лесов, земель, но и заводов (причем они занимают первое место в этом ряду), тогда как заводы представляют собой не что иное, как источник прибыли, и не имеют ничего общего с идиллическим миром. Как отметил Набоков в своих комментариях, ««воды», «леса» звучат подобно «Eaux et forets» французского чиновничества» .
Здесь нельзя не упомянуть еще об одной любопытной параллели, представляющей идиллию в романе в новом свете. В третьей главе Онегин называет Ольгу типичным именем пасторальной героини:
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль Увидеть мне Филлиду эту, Предмет и мыслей, и пера, И слез, и рифм et cetera?.. (3,11-48)
Смешение городских и деревенских мотивов, разграниченных в ранней поэзии Пушкина, характерно для всего текста романа в стихах. В ряде случаев их употребление совпадает с традиционным: «Иль взор унылый не найдет // Знакомых лиц на сцене скучной» (1, XIX - 14), «чуждый свет» (1, XIX - 14), «Ему наскучил света шум» (1, XXXVII - 21), «Условий света свергнув бремя, // Как он, отстав от суеты» (1, XLV - 23), «От хладного разврата света // Еще увянуть не успев» (2, VII - 33), «Про вести города, про моды // Беседы с нею не вела» (2, XXVII - 41), «Я модный свет ваш ненавижу» (3, II - 48), «Ты в руки модного тирана» (3, XV - 54), «Дивился я их спеси модной» (3, XXII - 56), «И светской чернью ободренной» (4, XIX 73), «льстивый голос света» (6, V - 104), «Другие, строгие заботы //Ив шуме света и в тиши // Тревожат сон моей души» (6, XLIII - 119), «На суд взыскательному свету» (7, XXVII - 131), «Как стих без мысли в песне модной» (7, XXXV - 134), «И даже глупости смешной // В тебе не встретишь, свет пустой» (7, XLVIII - 139), «Отстать от моды обветшалой. // Довольно он морочил свет...» (8, VIII - 145), «Кто черни светской не чуждался» (8, X 146), «Тут был, однако, цвет столицы, // И знать, и моды образцы» (8, XXIV- 151), «Когда жестокая хандра // За ним гналася в шумном свете» (8, XXXIV - 157), «Мои успехи в вихре света, // Мой модный дом и вечера» (8, XLVI - 162), «Сейчас отдать я рада // Всю эту ветошь маскарада» (8, XLVI- 162) (скука, мода, свет, шум, маскарад как атрибуты городского пространства, обладающие негативными коннотациями).
Однако большей частью совмещение выделенных в предыдущей главе диссертации слов-спутников является новаторским для поэтической культуры начала XIX века: «тоскующая лень» (1, VIII - 11), «Уединенный кабинет, // Где мод воспитанник примерный...» (1, XXIII - 16) (уединение как атрибут деревенского пространства и мода как атрибут городского соседствуют вместе), «для неги модной» (1, XXIII - 16), «чувств изнеженных отрада, // Духи в граненом хрустале» (1, XXIV - 16) (нега — духи), «шум приятный» (1, XXXV - 21), «зевал с друзьями и с женой» (2, XVII - 37) (раньше друзья принадлежали пространству, которому скука была чужда), «Покоится в сердечной неге, // Как пьяный путник на ночлеге» (4, LI - 85) (идиллическая нега соседствует с пьянством), «Деревня той порой // Невольно докучает взору» (4, XLIII - 82).