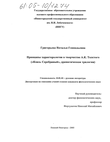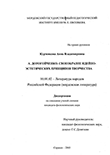Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Эстетика и поэтика художественного образа в творчестве И.А. Бунина и модернизме 14
1. И.А. Бунин и модернисты о сущности искусства 14
2. Поэтика художественного образа 36
Глава II. Концепция личности и формы психологизма 72
1. И.А. Бунин и литературные течения рубежа XIX—XX веков: опыт осмысления личности 72
2. Новое соотношение осознанного и бессознательного начал 84
3. Хронотопические формы психологизма 100
4. Сюжетно-композиционные формы психологизма 108
Глава III. Жанровые новации в творчестве И.А. Бунина в контексте его взаимодействия с модернизмом 123
1. Лирико-философские рассказы и миниатюры 127
2. «Лирический роман» 137
3. Жанр эссе 152
Заключение 172
Библиография 181
- И.А. Бунин и модернисты о сущности искусства
- Поэтика художественного образа
- И.А. Бунин и литературные течения рубежа XIX—XX веков: опыт осмысления личности
- Лирико-философские рассказы и миниатюры
Введение к работе
Рассмотрение творчества И.А. Бунина в контексте художественных принципов модернизма является неотъемлемой частью масштабной теоретической и историко-литературной проблемы — соотношения реализма и модернизма в русской литературе первой трети XX в. В бунинском наследии, преемственно связанном с традициями классики, в то же время активно аккумулировались и новейшие эстетические открытия, совершенные модернистской культурой Серебряного века.
В современных подходах к изучению русской литературы рубежа ХІХ-ХХ вв. все определеннее обозначается тенденция к интерпретации этого периода, опирающейся не только на различия* художественных течений начала века, но и на понимание культурного пространства эпохи как сложной и динамичной целостности, основанной на «диффузном» взаимопроникновении подчас полярных творческих установок. «Там, где участникам и первым интерпретаторам литературного процесса виделась борьба, столкновение различных течений и школ, ныне — особенно на уровне исторической поэтики — открывается сходство эстетических систем... Диффузное состояния — одна из характерных черт не только словесности, но и всего искусства начала XX века в целом» (выделено О. Клингом. — И.Н.) (Клинг, 2000. С. 83). В сознании участников художественной жизни Серебряного века действительно «поверх барьеров» «цеховых» размежеваний порой рождались интуиции о внутренне закономерном соприкосновении реализма и символизма. А. Блок в статье «О современной критике» (1907) писал об этом: «Реалисты тянутся к символизму, потому что они стосковались на равнинах русской действительности и жаждут тайны и красоты... Символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух "келий", им хочется вольного воздуха, широкой деятельности, здоровой работы» (Блок, I960— 1963. Т. 5. С. 206). На возможные линии взаимодействия двух эстетических систем и качества обновляющегося реализма указывала в первое десятилетие XX века и один из первых теоретиков «неореализма» критик Е.А. Колтоновская, широко опираясь на конкретный анализ творчества Бунина, Андреева, Зайцева, Сергеева-Ценского, А. Толстого (Колтоновская, 2000).
* Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, курсив наш. — И.Н.
Однако в последующие десятилетия подобные синтезирующие импульсы литературоведческой мысли оказались оттесненными на периферию в результате выдвижения на первый план схематичной теории «двухпоточности» литературы. Лишь с конца 1970-х гг. в отечественном литературоведении стали появляться отдельные работы (Л. Долгополое, В. Келдыш и другие), где намечалось комплексное рассмотрение оснований диалога реализма и модернизма. Л.К. Долгополов (1976) попытался в своей статье, имея в виду и Бунина, вьщелить некоторые типологические универсалии в литературном сознании начала века и рассуждал, в частности, о принципиально изменившихся, по сравнению с XIX в., концепции личности, восприятии личного и исторического времени. Исследованию объективных сближений, «равнодействующей» между реализмом и модернизмом посвящен и целый ряд работ В.А.Келдыша (1979, 1994, 2000 и др.). В новейшей из них, как бы подводя итоги своим размышлениям о «промежуточных» феноменах в «порубежном литературном процессе» эпохи, ученый верно отмечает диалектику открытости-закрытости в типологических общностях, сложившихся в конце XIX — начале XX вв.: «Текучесть, нестабильность, постоянная изменчивость художественных состояний резко усилилась... внутри направлений. Но даже при самых больших разноречиях здесь присутствовало чрезвычайно сильное подчас ощущение своей "особости", которая, однако, не приводила к изоляции (вопреки острым спорам), ибо соседствовала с не менее интенсивным восприятием "чужого" художественного опыта» (Келдыш, 2000. С. 7). Подчеркнем, что для обсуждения проблемы соотношения Бунина с модернизмом подобное представление о диалектических механизмах литературного движения эпохи является первостепенным. Хотя заметим, что, следуя, вероятно, инерции прошлого, В. Келдыш фактически не рассматривает творчество Бунина в контексте синтезирующих художественных тенденций», а предпочитает приводить в пример более «привычно» звучащие с этой точки зрения имена — Л. Андреева, А. Ремизова и других. Бунин же представляется им преимущественно как продолжатель традиций позднего реализма (Келдыш, 1994-И).
Проблема «Бунин и модернизм» предполагает и современную теоретическую интерпретацию понятия модернизма. В вопросе о хронологических границах модернизма, его периодизации, соотнесенной с фазами эволюции реализма, мы опираемся на работы Л. Колобаевой (1994, 2000) и О. Клинга (1999, 2000). Характеризуя эстетическую ситуацию начала века, Л.А. Колобаева отмечает: «В модернизме — это фаза символизма (1890-1900-е гг.) и фаза постсимволизма — 1910-е годы. В реализме — это фаза итогов, освоения и развития традиций XIX века (1890—1900-е гг.)
и фаза начал, неореализма, включающего в себя опыт модернизма, — 1910-е годы» (Колобаева, 1994. С. 61). В целом принимая это определение, мы считаем нужным внести в него одно уточнение: в реализме уже 1890-1990-х гг. наблюдается не только продолжение классических традиций, но и возникают первые типологические сопересечения с модернизмом — вспомним заметные жанровые новации в «малой» прозе Бунина данного периода, сблизившие его с вектором символистских интуиции, или же «ницшеанство», парадоксальным образом «объединяющее» молодого Горького с одной из философских опор русских «декандентов»... Однако под модернизмом понимаются не только символизм, акмеизм и футуризм, но и более поздние явления европейской и русской культуры: проза М. Пруста, французские сюрреализм, школа «нового романа»... По мысли О.А. Клинга, сложный сплав символизма с постсимволистскими исканиями в «латентном» виде присутствовал в русской литературе вплоть до «Доктора Живаго» Б. Пастернака {Клинг, 1999).
Помимо уточнения хронологических рамок и внутренних составляющих модернизма, необходимо и его сущностное определение в плане соотношения с реализмом и особого места, занимаемого им в культуре XX в. Многочисленные аберрации на этом счет отразились в статье Н.Л. Лейдермана «Космос и Хаос как метамодели мира» (1996). Появившаяся в середине 90-х гг., она демонстрирует взгляд «образца» 1960—70-х гг. на классическую (реалистическую) модель мира как на гармонию, «Космос»; в модернизме же усматривается лишь деструктивное начало, «мирообраз Хаоса». Модернизм действительно был сопряжен с ощущением кризиса, разрушения традиционных форм бытия и культуры, но значительны в нем и поиски новой целостности, «всеединства» в потрясенной катастрофическим опытом современности человеческой душе, в историческом процессе, интерес к которому (пусть и в особых, мифопоэтических формах) был у многих модернистов ничуть не слабее, чем в реализме. Автору данной диссертации близка точка зрения Л.А. Колобаевой, согласно которой «модернизм стал сильнейшим обновляющим ферментом искусства и литературы» XX столетия, и что особенно важно — «и модернизм и реализм мыслятся как явления многосложные, за каждым из этих понятий стоит не одна литературная ветвь. Кроме того, ни одно из них, и реализм в том числе, нельзя считать монопольным обладателем художественной "правды". Модернизм... не исключает, а предполагает искание истины, но обретает ее на иных по сравнению с реализмом путях» (Колобаева, 2000. С. 5).
Обозначенные новейшие представления о соотношении реализма и модернизма, сущности модернизма являются методологической базой нашего исследования. В качестве исходного определения типологических художественных принципов модер-
низма мы принимаем вариант, предложенный Л.А. Колобаевой: «Модернизмом мы называем художественные течения конца XIX-XX веков, адепты которых ставят своей целью создание нового, "большого стиля" в искусстве, лежащего за пределами ближайшей традиции, с установкой на осознанное экспериментаторство, исходят из убеждения в автономности искусства и ориентируются на творческую активность читателя (зрителя)» (Колобаева, 2000. С. 5).
* * *
Теоретическая основа данной работы двуедина. Во-первых, это творческое самоосознание как Бунина, так и ведущих представителей русского и отчасти европейского модернизма. Во-вторых, это научные теоретические исследования.
В начале своего творческого пути Бунин был довольно тесно связан с главными деятелями «нового искусства» — В. Брюсовым и К. Бальмонтом. Он редактировал беллетристический отдел газеты «Южное обозрение», в которой печатались многие символисты, а его «Листопад» появился в 1901 г. в символистском издательстве «Скорпион». Позднее в силу целого ряда литературных и внелитературных факторов (начиная с размолвки с Брюсовым) позиция Бунина по отношению к подавляющему большинству модернистов делается антагонистичной и сохраняется таковой вплоть до самых поздних отзывов. Но в многочисленных бунинских высказываниях о писателях XIX в., о современниках мы должны будем определить, все ли и всё ли в модернизме вызывало столь категоричное неприятие, каковы были нюансы в его оценках модернистских новаций? И с другой стороны — во многом ли Бунин готов был следовать реалистическим традициям? На эти и другие вопросы необходимо последовательно находить ответы, анализируя конкретные грани притяжений-отталкиваний Бунина и модернизма. В качестве своеобразного модуса такого рассмотрения мы воспринимаем бунинское признание, сделанное им в письме к Л. Ржевскому: «"Реалист" Бунин очень и очень многое приемлет в подлинной символической мировой литературе» (Бунин, 1980. С. 167).
Для разностороннего рассмотрения связей Бунина с модернизмом необходим и учет теоретической базы последнего. Принципиально важны для нас суждения модернистов о сущности творчества, «синтезе искусств», движении к жанрово-родовому синкретизму, о поэтике художественного образа. В этом ряду мы особенно выделяем и теорию символа, родившуюся в недрах символизма и имевшую широкий эстетический, психологический, культурологический и религиозно-философ-
ский смысл; а также модернистское обоснование современной концепции личности, новейших форм психологического изображения, которое тесно соотнесено со многими научными психологическими открытиями XX в., связанными, в частности, с феноменом бессознательного. В качестве материала мы рассматриваем выступления А. Белого, Вяч. Иванова, В. Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, И. Аннен-ского и других; из постсимволистского контекста — работы Б. Пастернака, О. Мандельштама, М. Волошина, В. Ходасевича, Н. Гумилева, а также русские и европейские футуристические манифесты, в которых порой намечались реальные тенденции художественного обновления. Нами привлекаются и манифесты французских символистов, содержащие симптоматичные особенности видения искусства, структуры поэтического образа; и декларации, связанные с позднейшим модернизмом — например, теоретические статьи Н. Саррот, А. Роб-Грийе о принципах «нового романа». Безусловно, все эти теоретические аспекты осознаются в тесной сопряженности с творческой практикой. Кроме того, вследствие особой спаянности художественного и философского мышления в эпоху Серебряного века, возникает необходимость и в частичном привлечении философского дискурса в свете обсуждаемых проблем: ряд работ А. Белого, Ф. Степуна, О. Мандельштама, а также В. Соловьева, Н. Бердяева, посвященных, в частности, философии русского Эроса.
В качестве исходного материала нашего исследования мы опираемся на ряд теоретических трудов, различных по направлению и проблематике. Это работы о типологии и эстетических принципах русского и европейского модернизма как целостного литературного и культурного явления — Г.К. Косикова (1972, 1993), Л.А. Ко-лобаевой (2000), Е.Г. Эткинда (1997), В.А. Сарычева (1991), И.П.Смирнова (1977, 1994), Г.А. Белой (1992), Л.Г. Кихней (докт. дис, 1997), В.И. Тюпы (1998), О.А. Клинга (1999, 2000), Е.В. Ермиловой (1989), М.Л. Гаспарова (1995), З.Г. Минц (1979, 1981), И.Ю. Искржицкой (1997), И.В. Корецкой (1995) и других. Это и исследования, рассматривающие классические и новейшие представления о реализме с учетом его эволюции в XX в.: реалистические психологизм, модель характера, нарративные принципы — Л.И.Тимофеева (1959), С.Г. Бочарова (1962), Л.Я. Гинзбург (1971, 1979), В.А. Келдыша (1975, 1994, 2000), А.Б. Есина (1988), Л.В. Чернец (1999), В.Е.Хализева (1999) и других. Теоретического подкрепления требует, несомненно, и выделение синтезирующих жанровых тенденций как у Бунина, так и в модернизме, и здесь мы ориентируемся в основном на следующие источники: о феномене «прозы поэта» — работы Р.О.Якобсона (1987), Ю.Б. Орлицкого (1993); об экспериментах модернистов в сфере метризованной прозы — СИ. Кормилова
(1996); о новациях в жанре рассказа — В.Я. Гречнева (1979), М.С. Штерна (1997); о «лирическом романе» и теории романа в целом — Б.М. Эйхенбаума (1986), М.М.Бахтина (1975), В.Д.Днепрова (1965), В.Е. Хализева (1999), Г.К. Косикова (1972); об эссеистике — М.Н. Эпштейна (1988), В.Е. Хализева (1999) и т.д. Мы не упускаем из виду и некоторые общегуманитарные исследования, придающие новый ракурс интерпретации художественных явлений XX в.: труды М.М. Бахтина (1986) о «философии поступка», М.К. Мамардашвили (1995) об онтологических аспектах современного романного мышления (на материале прозы М. Пруста); исследования Грузинской психологической школы (Д.Д. Узнадзе, А.Е. Шерозия) о роли бессознательного и его соотношении с сознанием в структуре личности и др.
Таким образом, методология диссертации соединяет теоретический и историко-литературный подходы.
В историко-литературном плане мы опираемся на комплекс идей по проблеме «Бунин и модернизм», генерировавшихся на различных этапах литературоведческой мысли: в критике дореволюционной, эмигрантской, советского периода, рубежа 1980—90-х гг., середины и второй половины 1990-х гг.; отчасти в зарубежном литературоведении.
Что касается дореволюционных критиков, то в их оценках «синкретизма» бунин-ского метода, парадоксально соединявшего традиционализм с самой смелой «мо-дерностью», часто преобладало либо непонимание, как, например, в символистских рецензиях, либо недоумение. С упреком о заимствовании «декадентских» приемов автором «Листопада» писалось в самом начале 1900-х гг. В. Брюсовым (1901), В. Ко-раблевым (1901), в редакционной рецензии журнала «Русское богатство» (1902). Другая группа критиков видела в бунинской образности лишь следование традиции (В. Шулятиков, 1901; А. Куприн, 1901; С. Глаголь, 1902) или даже «эпигонство натурализма» (Н. Гумилев, 1910). Более внятно о характере бунинских новаций говорили критики 1910-х гг. — В. Львов-Рогачевский и особенно Е*. Колтоновская. Львов-Рогачевский, сосредотачиваясь на поэтике образа у Бунина, усматривает здесь самобытный сплав реалистической предметности и символической обобщенности, что связано, по мнению критика, с «использованием огромной работы поэтов-символистов» (Львов-Рогачевский, 1913. С. 307). Е. Колтоновская прослеживает постепенный путь к художественному синтезу реализма и символизма, очерчивая его с «крестьянских» рассказов и повестей 1900—10-х гг. («Сосны», «Деревня», «Суходол»): «Бунинская "Деревня" имеет много общего с чеховскими "Мужиками", но тон у нее иной — нервический, краски сгущены, рисунок упрощен — стилизо-
ван. Еще дальше ушел Бунин по тому же пути в "Суходоле", где с фанатической убежденностью, на фоне своей символической деревни обнажает самые корни русского народного естества» (Колтоновская, 2000. С. 176—177). Следующую же стадию этого плодотворного пути Колтоновская видит в насыщенной онтологической проблематикой прозе середины 1910-х гг.: «В интернациональных по теме рассказах "Господин из Сан-Франциско" и "Петлистые уши" художник-символист определенно вытесняет в Бунине прежнего реалиста, вернее, поглощает его. О более гармоничном синтезе символизма с реализмом нельзя и мечтать...» (Колтоновская, 2000. С. 177).
Более интенсивно, по сравнению с дореволюционной критикой, проблема «Бунин и модернизм» обсуждалась в диаспоре — статьях Г. Адамовича, И. Ильина, М. Алданова, Ю. Иваска, П. Бицилли, Ф. Степуна, В. Ходасевича, В. Вейдле и других.
Критики-эмигранты, размышляя о направленности бунинских поисков, верно стремились обозначить его водоразделы с реализмом. М. Адданов писал об отказе Бунина от аналитических форм психологизма («не лежит душа... к психологическому анализу» — Алданов, 1994. С. 69), сходясь с И. Ильиным в фиксации повышенной роли «внешней изобразительности» в произведениях Бунина. Однако Ильин, пристально и с энциклопедической полнотой рассмотревший стереоскопическую выпуклость бунинских образов чувственного мира, ошибочно отделял писателя от сферы «нечувственного духовного опыта», во многом односторонне подходил к трактовке феномена бессознательного в системе психологизма Бунина, что неизбежно вело к абсолютизации его противопоставления классикам. Кстати, сходные с Ильиным суждения о некоторой «овнешненности» в фактуре бунинского образа не раз высказывались и модернистами: «В Бунине... при его тончайших ощущениях окружающей внешности, есть все-таки внутренняя нетонкость понимания личности, — человека... Он весь в одних ощущениях, но очень глубоких» (Гиппиус, 1951. С. 308, 307).
Однако в целом ряде работ намечался и более диалектичный подход к исследованию соприкосновений реалистических и модернистских тенденций в творчестве Бунина. Понимание очевидной «противоположности» бунинской художественной манеры качествам символистского стиля (П. Бицилли) не исключало, однако, установления предпосылок типологического сближения Бунина с модернизмом. В глубокой работе Ф. Степуна (1926) о повести «Митина любовь» содержатся ценные наблюдения не только о природе бунинского Эроса, объективно ставящие автора произведения в контекст философско-эстетической мысли рубежа веков, но и анализ
антропологических взглядов Бунина, сопряженных с интуициями о «космическом», иррациональном начале личности, поисками новаторских композиционных приемов. В 1931 г., основываясь на более широком материале («Жизнь Арсеньева», рассказы, миниатюры), Степун напишет также и о «музыкальности» бунинской прозы, временном синкретизме в «Жизни Арсеньева», об антиномизме его художественного мышления, получившем особенно заостренное выражение в лаконичных миниатюрах: «Последняя форма его жизненной мудрости — удивление: то восторженное, то умиленное, то гневное, то скорбное...» (Степун, 1931. С. 488). Глубокие суждения относительно «модерности» бунинских «кратких рассказов» принадлежат и В. Ходасевичу, который одним из первых сформулировал диалектическую мысль о том, что «врагом символизма Буниным» в реальных творческих свершениях осуществлялось многое из того, что в символизме и модернизме в целом недовоплоти-лось. Это важное положение мы рассматриваем как одно из методологических оснований нашей диссертации. Своеобразное обобщение критической мысли диаспоры по интересующей нас проблеме сделал В. Вейдле (1954). Зачатки новых приемов художественного письма Вейдле распознает еще в ранних лирических рассказах Бунина, значимость которых сопрягается не с сюжетностью, а с «их субстратом, лирически пережитым, с некоторой судорогой чувства и мысли, в которой весь смысл рассказа и заключен» (Вейдле, 1954. С. 84—85). Вейдле выдвигает веские основания сближающе-контрастного сопоставления общеэстетических воззрений Бунина и символистов, рассматривает бунинские языковые новации, анализирует «двойную субъективность» в «Жизни Арсеньева», а также субъективацию повествовательных форм на фоне европейского модернистского опыта (Пруст, Музиль, Джойс и другие). В западном литературоведении преобладает тенденция к решительному отнесению Бунина к числу модернистов, что отчасти оправданно, но и не свободно от издержек (Т. Марулло, Р. Поджоли, В. Вудворт, А. Жолковский и другие). Так, например, Т. Марулло (1994) в одной из своих работ идет от контрастного сопоставления двух «крестьянских» рассказов — «Бежина луга» Тургенева и «Ночного разговора» Бунина. Если у Тургенева исследователь отмечает реалистическую конкретность и уравновешенность в изображении героев, то в «Ночном разговоре» авторские интуиции о темных бессознательных глубинах души закономерно облекаются в модернистские стилевые формы. Марулло совершенно справедливо полагает, что в осмыслении болезней человеческого духа Бунин — художник XX века, разделяющий многие антропологические прозрения модернистов. Однако, ведя речь лишь об отдельно взятом произведении, исследователь абсолютизирует увиденные здесь стиле-
вые тенденции. В характеристиках Марулло доминируют явно «леонид-андреев-ские» или «сологубовские» тона: «модернистская развязка метафизической драмы»; герои — «воплощение злых сил, чья телесная оболочка искажена и изломана "модернистской" кистью автора...» (Марулло, 1994. С. 116, 120).
В литературоведении советской эпохи в силу предвзятого отношения к модернизму и модернистским тенденциям в творчестве Бунина объективное рассмотрение данной проблемы оказывалось затрудненным. Тем не менее было немало сделано в плане сопоставления Бунина как с классикой, так и исканиями XX века (В. Гейдеко, О. Сливицкая, В. Линков, Л. Крутикова и другие). Что касается первой части данного сравнения, то советские критики, с подспудным осуждением отмечая «бунинский художественный гедонизм» (Лакшин, 1978. С. 186), нередко ошибочно противопоставляли бунинское творчество нравственному пафосу, историзму литературы XIX в. (Линков, 1989). Во многих работах этого времени часто преувеличивалась и поляризация Бунина модернизму, основанная на буквалистском следовании высказываниям самого писателя. Однако, не всегда говоря прямо о связи с модернизмом, исследователи выявляли многие новации на разных этапах бунинской эволюции. Так, например, делались попытки прояснить отношения Бунина с модернизмом на реально-биографическом уровне, с привлечением сведений о сотрудничестве Бунина с символистами в 1890—1900-е гг. (В. Афанасьев, 1968), проследить взаимопроникновение поэзии и прозы в его раннем творчестве (Э. Полоцкая, 1970; Э. Денисова, 1972); провести обобщения о поэтике художественного образа, способах субъективации изобразительной стихии (Н. Кучеровский, 1968; Л. Долгополов, 1985). Важный аспект исследований — новые формы психологизма, обновление повествовательных принципов: особую ценность представляют многочисленные статьи О. Сливицкой, статьи и монография И. Вантенкова (1974), а также труды В. Келдыша (1975), М. Иофьева (1977), Л. Крутиковой (1968) и других. Что касается работ о специфике жанровой системы писателя, то среди них выделим книгу В. Гречнева (1979), рассматривающего рассказы Бунина в жанровом контексте времени; статьи Л. Никольской (1978) и Е. Магазанник (1978), выявляющие элементы «модерности» в поэтике миниатюр.
Заметной на рубеже 1980—90-х гг. стала монография В. Линкова (1989), в основу которой легло системное сопоставление художественного сознания Бунина с классическим типом мышления — на примере творчества Л.Н. Толстого. В.Я. Линкову удалось найти многое, что разделяет эти два явления, — в подходе к личности, истории, видении межчеловеческих связей., соотношении разумного
и иррационального, объективного и субъективного начал. Но, по справедливому замечанию рецензента книги С. Шешуновой (1992), автор абсолютизирует конфронтацию Бунина с классической, толстовской, традицией, а утверждая отсутствие у Бунина «чувства истории», не учитывает принципиально новых качеств историзма, выработанных культурой XX в.
Серьезным импульсом к изучению творчества Бунина, в том числе и в его связях с русским и европейским модернизмом, стала монография Ю.В. Мальцева (1994), в значительной мере изменившая сложившиеся в литературоведении представления о Бунине. В ключевых главах работы («Прапамять», «Состав души», «"Модерность"», «Элизий памяти», «Феноменологический роман» и др.) предложены наблюдения над глубинными типологическими схождениями-отталкиваниями Бунина с символистами, авангардистскими течениями, Прустом, «новыми романистами» и др. Мальцевым дано новаторское определение «Жизни Арсеньева» как «феноменологического романа», получившее дальнейшую разработку (Колобаева, 1998-П). Важно, что впервые проблема «Бунин и модернизм» была осознана системно и заявлена как ключевая для целостной интерпретации бунинского творчества. В работах 1990-х гг. прослеживается тенденция к широкому соотнесению наследия Бунина с художественным, религиозно-философским опытом Серебряного века (Г. Карпенко, О. Сливицкая, О. Бердникова, М. Штерн и другие). Предпринимаются (во многом с творческой ориентацией на Ю. Мальцева) первые попытки системного описания взаимодействия Бунина с модернизмом, но пока в пределах небольших работ, ограниченных либо самыми общими масштабами осмысления проблемы (Колобаева, 1998-III), либо отдельным периодом бунинского творчества (Сафронова, 2000). Особый смысл приобретают в этой связи и исследования жанрового состава произведений писателя — в частности, миниатюр (Максимова, 1997; Штерн, 1997), романа (Скобелев, 1992; Штерн, 1997; Колобаева, 1998 (II); Чой Чжин Хи, 1999; и другие), эссеистики (Бердникова, 1995; Штерн, 1997; Колобаева, 1998-1). Следует выделить и целостную интерпретацию жанровой динамики в художественной системе Бунина, предложенную М.С. Штерном (1997).
Таким образом, в современных исследованиях русской литературы начала XX в. и творчества Бунина проблема его соотношения с модернизмом является одной из самых актуальных и вместе с тем — одной из наиболее дискуссионных.
Целью диссертации выступает системное, многостороннее раскрытие характера типологического взаимодействия творчества Бунина с художественными принципами модернизма. Данная цель определяет конкретные задачи работы:
определение степени близости Бунина к модернизму и отталкивания от него на различных этапах творческой эволюции, уровнях художественной системы и одновременно — выявление характера отношения к реализму, руслу классических традиций XIX века;
обобщение эстетических представлений Бунина в их соотнесенности с разноплановыми интуициями о сущности искусства, рождавшимися в модернизме;
исследование бунинских новаций на уровне поэтики художественного образа—в отношении к модернизму и, в частности, теории символа — ядру модернистской культуры;
анализ концепции личности в творчестве Бунина на фоне нового антропологического опыта эпохи «порубежья», сопоставление с представлениями модернистов о душевной жизни и предлагаемыми ими формами психологического изображения;
рассмотрение сюжетно-композиционных новаций в бунинской прозе, их функциональной связи как с новыми приемами психологизма, так и с характером жанровой системы;
раскрытие свойств жанровой системы творчества Бунина, ее синтезирующих тенденций, объективно сближавших писателя с модернистскими поисками и реализовавшихся прежде всего в жанрах лирико-философского рассказа, миниатюры, романа, эссе;
установление степени актуальности обозначенного круга проблем для общего исследования литературы конца XIX — начала XX вв.
Поставленные задачи решаются в трех главах диссертации.
И.А. Бунин и модернисты о сущности искусства
Вопрос о сущности искусства, его онтологическом статусе и соотношении с действительностью приобретает особую актуальность и остроту в литературном сознании Серебряного века.
Бунин, в отличие от многих модернистов, не создал развернутой эстетической теории, однако его раздумья о творчестве, литературе, приобретающие зачастую весьма драматичное звучание, существенны для понимания как его художнической позиции, так и общего культурного климата эпохи.
Важнейшие принципы модернистского взгляда на искусство были сформулированы в одном из первых программных выступлений символистов — работе Д.С. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1892). «Мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности» (Мережковский, 1893. С. 43) — таковы основы «нового искусства», делающего ставку на интуицию как путь познания действительности в творчестве. Мережковский говорит о глубинной связи искусства с ощущением тайны бытия, острота которого оказывается столь свойственной современной душе: «Куда бы мы ни уходили, как бы мы ни прятались за плотину научной критики, всем существом своим мы чувствуем близость тайны, близость океана. Никаких преград! Мы свободны и одиноки! С этим ужасом не может сравниться никакой порабощенный мистицизм прошлых веков...» (Мережковский, 1893. С. 38). Акцент на преобладании интуитивного начала в творчестве характерен и для других символистов. Так, Вяч. Иванов в «Заветах символизма» (1910) формулирует «представление о поэзии как об источнике интуитивного познания и символах как о средствах реализации этого познания» (Иванов, 1994. С. 185). В. Брюсов в статье «Ключи тайн» (1904) осознает искусство в качестве откровения, призванного постичь мир нерассудочными путями через «мгновения сверхчувственной интуиции» (Брюсов, 1973-1975. Т. 6. С. 92). Видоизменяясь, эти мотивы звучат и в ряде программных выступлений футуристов: «В мире, постигнутом интуицией, как стихийный поток бесконечных жизней ... , родились глубинные слова, родилась душевная вскрытость, характеризующая устремления современного творчества» (Русский футуризм.., 1998. С. 141), — писал В. Ховин в 1915 году.
Видение искусства как интуитивного приобщения к тайнам бытия в высшей степени характерно для художественного сознания Бунина и определяет общую направленность всех его размышлений о творчестве.
Уже в раннем рассказе «Тишина» (1902) мотив безмолвия перед тайной мироздания неотделим в сознании героя от волнующей «красоты искусства и религии» [2; 240] . Ощущение невыразимости словом подлинного содержания бытия с остротой переживается Буниным на самых разных этапах его творческого пути: «Нет, настоящего никогда не напишешь, не выразишь!» (Новый журн., 1974. С. 153) — отмечает он в письме от 21 марта 1945 года. Но если у символистов интуиция о невыразимом была спроецирована прежде всего на мир «высших сущностей», то для Бунина — источник невыразимого в искусстве кроется в удивлении и восхищении перед мно-гоцветием плоти бытия:
С общим ощущением загадки бытия сопряжена интуиция о конечной непостижимости творческого процесса. Творить — означает «делать нечто совершенно непостижимое» [5; 145], — читаем в рассказе «Музыка» (1924). Это напрямую связано с представлением писателя о трансцендентном характере творческого акта. Творящее начало, по Бунину, заключено не только (а, подчас, и не столько) в индивидуальном «я» художника, но и в высшей, надындивидуальной, таинственной для него самого энергии прекрасного, проводником которой он становится в моменты творчества. «Не только "я", но и "мною" — таков модус бунинского взгляда на искусство — взгляда, кардинально переосмысляющего устоявшееся классическое представление о художнике как об однозначно активном субъекте творческой деятельности: "Кто творил? Я, вот сейчас пишущий эти строки, думающий и сознающий себя? Или же кто-то, сущий во мне помимо меня, тайный даже для меня самого, и несказанно более могущественный по сравнению со мною, себя в этой обыденной жизни сознающим?"» [5; 146]. Именно интуицией о трансцендентности творчества вызвана бунинская изумленность художнической натурой Лермонтова, отмеченной поразительной проницательностью, не совместимой, казалось бы, ни с его молодостью и житейской неопытностью, ни со взрастившей его пустынной Кроптовкой: «Вот бедная колыбель его ... , вот его начальные дни ... Апотом что? А потом вдруг «Демон», «Мцыри», «Тамань», «Парус» ... Как связать с этой Кроптовкой все то, что есть Лермонтов?» [6; 157].
Представление Бунина о трансцендентном начале творческого акта типологически близко и образу «продиктованных строчек», не раз возникающему в поэзии А. Ахматовой (ст. «Муза», 1924; «Творчество», 1936 и др.), и размышлениям О. Мандельштама об онтологической сопричастности поэта «провиденциальному собеседнику» {Мандельштам, 1987. С. 52), и особенно интуициям пастернаковского Живаго о сути творчества: «В такие минуты (в минуты творчества. — И.Н.) Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним ... : состояние мировой мысли и поэзии и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии» {Пастернак, 2000. С. 365). У бунинского же Арсеньева первые проблески творческого вдохновения также были неотделимы от «состояния поэзии», прежде всего почитаемых им (как и самим Буниным) Пушкина и Лермонтова.
В размышлениях целого ряда художников-модернистов об искусстве возникает мотив вслушивания в таинственные ритмы мироздания, что понимается как важнейший субстрат творчества. «Прислушивание к звучащей ... в далеких глубинах ... души художника смутной музыке» {Иванов, 1916. С. 167) Вяч. Иванов считает истоком поэзии. М. Метерлинк в одном из интервью (1891) говорит именно о «вслушивании» в «тайную и вечную гармонию» бытия как об основе творчества {Косиков, 1993. С. 442). «Ритм символизирует собой поэта», — убежден Б. Пастернак — автор доклада «Символизм и бессмертие» (1913) {Пастернак, 1989. Т. 4. С. 682).
Поэтика художественного образа
Обновление принципов художественной образности составляет важнейшую сторону литературного движения эпохи Серебряного века. Типологические схождения Бунина с модернизмом именно на уровне поэтики художественного образа не раз обращали на себя внимание критиков уже начала века. Так, к примеру, В. Львов-Рогачевский в статье с характерным названием «Символисты и наследники их» (1913) отмечает в произведениях Бунина «зачатки нового реализма, который использует огромную работу поэтов-символистов», особенно выделяя то, что, с одной стороны — бунинский образ предметен, «живописует», с другой — «настраивает и открывает просветы в даль...» {Львов-Рогачевский, 1913. С. 307).
Интенция соединить предметное, вещественно-конкретное с космически-бесконечным оказывается одной из фундаментальных в эстетике символизма. А. Белый в статье «Символизм как миропонимание» (1903) говорит о необходимости синтеза «вечного с его пространственными и временными проявлениями» {Белый, 1994 (II). С. 246). Подобное устремление определяло важнейшие грани символистского образа, выступающего как многозначное единство, «неисчерпаемое и беспредельное в своем значении» {Иванов, 1909. С. 39), — единство явленного и несказанного, встреча предметного с бесконечным. Ощущение тайны, рациональной непостижимости бытия, свойственное всей поэтической культуре рубежа веков и сближающее Бунина с модернизмом, оказало решающее воздействие на пластику художественного образа.
Разрабатывая концепцию символа, Вяч. Иванов определял его как «тело тайны», что чрезвычайно близко и бунинскому образу. Главным качеством «реалистического символизма» Вяч. Иванов видит «верность вещам», «прозрение на плоть, проникновение в тайну плоти» {Иванов, 1994. С. 144, 167), созвучие видимых явлений и сущности, «realia» и «realiora». Делая акцент на экстенсивности образа, Вяч. Иванов убежден в том, что «истинный символизм не отрывается от земли: он хочет сочетать корни и звезды и вырастает звездным цветком из близких, родимых корней...» {Иванов, 1994. С. 196).
Подобные представления о художественном образе-символе находят отражение в поэзии русского символизма. На соединении микроэлементов земного мира и масштабов бесконечности нередко построены образы в поэзии Бальмонта:
Синтез вещественно-конкретного и «звездного» колорита оказывается важнейшей гранью и поэтики А. Блока, на что в свое время обратила внимание З.Г. Минц, анализируя блоковский символ {Минц, 1981). На подобных сочетаниях построены, в частности, такие стихотворения, как «Там в ночной завывающей стуже» (1905), «Шлейф, забрызганный звездами» (1906) и др. Этот принцип образности характерен и для поэзии А. Белого:
Значимость образов бесконечности трансформирует и словесную ткань символистской поэзии, расширяя сферу употребления отвлеченных слов, актуализируя заложенные в них семантические ресурсы (см.: Кожевникова, 1986). Например, в центре ряда стихотворений А. Белого оказываются образы Вечности, Души Мира и т.п. (стих. «Поэт, ты не понят людьми...», 1903; «Образ Вечности», 1903; «Душа Мира», 1902 и др.).
Изображение мировых начал, первооснов бытия занимает существенное место и в произведениях Бунина. В его ранней поэзии — это образ «жизни мировой» (стих. «Когда на темный город сходит...», 1895 — 1; 96), напоминающий некоторые стихотворения Блока и Белого; души (стих. «Небо», 1903—1905); на соединении конкретно-вещественного и вселенского построено и стихотворение «Звезда дрожит среди вселенной» (1917).
«Звездный» колорит оказывается существенным качеством образности и бунин-ской прозы. Мотивы бесконечности звучат уже в самых ранних рассказах писателя («Танька», «Кастрюк», 1892 и др.). Как и в произведениях символистов, через рассказы и повести Бунина проходит целый ряд устойчивых символов: это и образы первоначал жизни (океан, ночь, корабль, море, Атлантида), и единичные образы-символы, раскрывающиеся в контексте данного произведения: «темные аллеи», за которыми — интуиция о неисповедимости жизненных путей; «туман», «цифры» — как символы таинственной бездонности бытия; «антоновские яблоки», становящиеся воплощением уходящего в прошлое уклада жизни; «Роза Иерихона», символизирующая сосуд памяти и т.д.
И.А. Бунин и литературные течения рубежа XIX—XX веков: опыт осмысления личности
Обновление принципов художественной образности в русской литературе к. XIX — н. XX вв., о котором шла речь в предыдущей главе, было тесно взаимосвязано с коренным пересмотром сложившейся в реалистической традиции XIX века системы взглядов на личность, на характер ее обусловленности окружающей действительностью, на пути постижения душевной жизни художественным словом. Обратимся к рассмотрению модернистского опыта видения личности в литературе указанного периода, чтобы затем проследить, какие из составляющих этого опыта оказались в той или иной степени созвучными художественному миру Бунина.
/ Одной из универсалий литературного развития рубежа веков стала тенденция к расширению взгляда на психологическую реальность, выразившаяся в онтологи- -зации психологии. Если для реализма XIX века в его классических проявлениях свойственно доминирование социально-исторической детерминации характера, то литературное сознание н. XX в., не сбрасывая со счетов накопленного опыта познания глубин человеческой психики, тяготеет к тому, что Е. Эткинд назвал «этернизмом» (от франц. I eternite — вечность): «Одинокий Человек, стоящий перед лицом Вечности, Смерти, Вселенной, Бога, не может стать героем романа Гончарова или драмы Островского...» (Эткинд, 1997. С. 14). Модус этернизма во взгляде на личность оказался обусловленным причинами как собственно литературного, так и общемировоззренческого плана: ощущение устаревания традиционных форм литературы и культуры, усложнение представлений о психических процессах, потребность в выработке новых форм психологизма, обострение катастрофизма мирочувствования, вызванное предвестиями серьезных социально-политических потрясений в России и Европе, глубокое разочарование в эволюционизме и теории прогресса как продуктах эпохи позитивизма. Этернизм, ориентация на изображение потрясенного, отчужденного от мира сознания обусловило актуализацию поэтического слова, стремление создать «лирику современной души» (К. Бальмонт), наполнить ею предметно-изобразительные формы. Выдвижение на авансцену онтологического угла зрения на личность повлекло за собой ощущение недостаточности возможностей аналитического психологизма (с учетом многих его разновидностей — от Лермонтова до Толстого), суть которого, по замечанию А. Есина, в интенции «любое внутреннее состояние... разложить на составляющие, разобрать в подробностях, любую мысль довести до логического конца...» (Есин, 1988. С. 68).
Чувство «разомкнутости» психической жизни в бесконечность, безусловно присутствовавшее и у Достоевского, и у Толстого, несравненно обостряется и усиливается на рубеже столетий, и связано это было прежде всего с художественной деятельностью символистов. Уже Д. Мережковский, говоря о современном сознании в связи с проблемами, поставленными Достоевским, делает существенные акценты: «Каждый из нас носит в себе внутреннюю психологическую бездну. Но сознание наше только скользит по ее поверхности. Мы живем и умираем, не познав своей сердечной глубины...» (Мережковский, 1893. С. 48—49). Речь у Мережковского идет о глубинном разрыве «бездн» человеческой души с уровнем самопознания личности и в подтексте — с возможностями сложившихся в литературе путей этого познания.
Мысль об углублении современных художественных представлений о психологической реальности оказывается одной из центральных и во многих работах А. Белого. Новый характер личностного мироощущения он отметил еще в феврале 1903 г. в письме к Э. Метнеру: «В символизме к пяти чувствам прибавляется и шестое — чувство Вечности: это коэффициент, чудесно преломляющий всё...» (цит. по: Лавров, 1978. С. 160). Более развернуто Белый скажет об этом «коэффициенте» немногим позднее, в статье «Кризис сознания и Генрих Ибсен» (1911). Отмечая, что «никогда еще проблемы сознания не ставились с такой отчетливостью, как в наши дни», углубленное представление о психологической реальности он связывает с обращением культуры к сфере подсознания, где происходит соприкосновение индивидуальности с миром трансцендентного: «Чувством мы живем во многих мирах; мы чувствуем не только то, что видим и осязаем (ср. мысль Мережковского о «сознании, скользящем по поверхности». — КН.), но и то, что никогда не видали глазами, не осязали органами чувств; в этих неведомых, несказуемых чувствах открывается перед нами мир трансцендентной действительности...» (Белый, 1994 (И). С. 210). /_,. Тенденция к онтологизации психологии, стремление расширить видение душевной жизни до масштабов бесконечности, провидеть в закономерностях бытия чело- « века тайные вселенские ритмы объективно сближали Бунина с исканиями эпохи Подобный модус ощутим у Бунина и в ранней лирике, и в прозе 1910-20-х годов («Сны Чанга», «Братья», «Ночь» и др.); в более скрытой форме — в «Темных аллеях», а в «Жизни Арсеньева» он предпочтет такой ракурс изображения «истоков дней» героя:
«Я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства, где будто бы когда-то образовалась какая-то солнечная система, потом что-то называемое солнцем, потом земля...» [6; 237]. Однако бунинский «космизм» не стоит преувеличивать. Слишком напряженным и страстным оказывается в его художественном мире вглядывание в «земные» корни человеческого характера: в том же романе онтологическая перспектива не отодвигает на второстепенный план пристального внимания к «тайной работе» [6; 134] души героя, где тесно переплетаются осознанное и интуитивное. А в 1921 г., в предисловии ко французскомуЛізданию «Господина из Сан-Франциско», Бунин, говоря уже о своем раннем творчестве, отмечал, насколько глубоко занимали его «вопросы психологические...» [9; 268]
Происходившая на рубеже веков этернизация во взгляде на личность и пути ее художественного постижения имела ряд существенных следствий. Онтологизация психологии вела не только к расширению перспективы видения душевной жизни, но и, по справедливому замечанию Е. Эткинда, к тревожной мысли о том, что «недуг, свойственный человеку как таковому, излечить бесконечно труднее.., труднее найти пути для оздоровления человеческой натуры, нежели общественного организма. Тут невозможны революции, ни даже реформы...» (Эткинд, 1997. С. 18). Интуиция о глубинной аморфности современной души, связанная с кризисом детерминистской картины мира, оказывается одной из центральных в сознании эпохи . Весьма примечательна запись, сделанная Л. Толстым в 1898 г.: «Как бы хорошо написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека: то, что он один и тот же, то злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо...»Ццит. по: Скафтымов, 1958. С. 265). Подчеркнем: мысль эта высказана Толстым в 1898 году, когда за плечами у него остались и «Война и мир», и «Анна Каренина», где многомерность человеческой психики получила полнейшее отображение. И все же сама действительность «порубежья» подталкивала художников искать новые пути постижения этой «текучести». В этом русле развивалась концепция личности у Чехова: возрастающее ощущение глубинной неопределенности личности, ее неуловимой, подчас пугающей, изменчивости («Толстый и тонкий», 1893; «Душечка», 1898), дробления внутреннего и внешнего «я» («Княгиня», 1889); мотив страха перед бытием, «болезнь боязни жизни» («Хамелеон», 1884; «Отец», 1887; «Страх», 1892), но вместе с тем — активизация новых сюжетно-композицион-ных, хронотопических форм раскрытия глубин сознания.
Лирико-философские рассказы и миниатюры
На разных этапах творческой эволюции Бунина соотношение лирического и эпического начал в его прозе было далеко не одинаковым. Большая часть его первых прозаических опытов начала века связана с жанром лирико-философского рассказа.
Интенсивное развитие малой прозаической формы — жанра рассказа — становится характерным явлением литературы рубежа веков. Эту направленность жанровой трансформации исследователи отмечают и в системе классического реализма, имея в виду позднюю повесть Л. Толстого «Хаджи-Мурат» и рассказы А. Чехова: «И возникновение "сжатой" эпопеи у Толстого, и преобразование Чеховым "малой" прозы, вместившей в свои узкие пределы чуть ли не романные объемы, — это два направления творческого поиска, поучительнейшие для литературного процесса XX в. По существу, они одноприродны в своем новаторском стремлении к усилению художественной концентрированности и динамизма в реалистическом искусстве...» (Келдыш, 1994 (I). С. 27). Бунинские искания 1890-1900-х гг. в сфере бессюжетной лирической прозы, с одной стороны, роднили его с опытом зрелого Чехова, явственным у которого оказывается преодоление традиционных жанровых границ (причем и в прозе, и в драматургии), а с другой — включали творчество Бунина в общий «водоворот жанровых контактов эпохи» (Полоцкая, 1970. С. 412) — эпохи модернизма. Таким образом, Бунин — автор лирико-философских рассказов и начала века, и эмигрантского периода, наследуя традиции обновленного реализма, оказывается причастным и контексту общемодернистских исканий. По мнению некоторых исследователей, жанровые эксперименты Бунина привели на самом позднем этапе к созданию «лирической книги в прозе» («Темные аллеи»), целостность которой основана на единстве ассоциативных связей, лирических коллизий, ритмического строя (Штерн, 1997. С. 12). Вспомним, что настоящее открытие жанра лирической книги, лирического цикла произошло именно в символистской и постсимволистской поэтической культуре.
Говоря о ранних лирико-философских рассказах Бунина, отчасти пересекающихся с исканиями Чехова, а также Б. Зайцева (Полякова, 1985), стоит иметь в виду, что лирическая рефлексия, становящаяся на место традиционного сюжета, носит здесь подчеркнуто фрагментарный, эскизный характер. И в этом — близость Бунина прозаическим эскизам, лирическим миниатюрам К. Бальмонта, печатавшимся в «Южном обозрении» как раз в пору сотрудничества Бунина в этом издании (Афанасьев, 1968). В рассказах «Перевал» (1892-1998), «Святые горы» (1895), «Над городом» (1900) и др. развернутый лирический монолог становится структурообразующим фактором целостности произведения. Медитативное начало слито здесь с образами внешнего мира, приобретающими глубокую символическую наполненность: горный перевал («Перевал»), запах антоновских яблок («Антоновские яблоки»), «седой ковыль» («Святые горы») и т.д. Импрессионистический поток образов, объединенных внутренними ассоциативными связями, сочетается с их предметно-бытовой и исторической достоверностью. Жанрообразующими факторами выступают здесь лирическая дискретность повествовательного пространства, синкретизм художественного времени, музыкально-ритмическая насыщенность языка, близкая к стихотворной форме; символическая емкость уводящих в подтекст деталей-лейтмотивов. Однако подчеркнем: эти ранние, экспериментальные для Бунина лирические этюды не несли в себе развернутых философских рефлексий и обобщений, что коренным образом отличало их от таких позднейших лирико-философских рассказов, как «Ночь» (1925), «Несрочная весна» (1923), «Музыка» (1924) и др. По степени философской насыщенности к ним приближается, пожалуй, лишь рассказ «У истока дней» (1906), стоявший на дальних подступах к будущему «роману» и содержавший оформленные интуиции о тайне времени, слиянности субъекта и объекта, осознанного и бессознательного в структуре личности.
Итак, начиная с 1920-х гг. в творчестве Бунина происходит заметная эволюция жанра лирико-философского рассказа. Более зримым становится оригинальный сплав образного и философско-рефлективного путей постижения бытия. И в этом Бунин по-своему разделил общие закономерности эстетического развития эпохи. Чрезвычайно значима в модернистской культуре активизация взаимопроникновения литературы и философии (такое взаимодействие оформлялось уже в системе позднего реализма — в творчестве Достоевского, Толстого): философская мысль нередко получает «вторую» жизнь и дальнейшую динамику в континууме художественного текста — будь то эссеистика В. Розанова или культурологические идеи, воплотившиеся в образную форму в прозе А. Белого, А. Блока... Хотя Бунина отличало от модернистов стремление сохранить непосредственность художественного изображения, не «отягощенного» привнесенными извне «теориями» или «идеями». Именно это неприятие «теорий» часто влекло за собой, как мы показывали выше, отталкивание Бунина от деятельности символистов. Однако и в ряде поздних лирико-философских рассказов, и особенно в эссе «Освобождение Толстого» им достигается органичное сочетание художественных образов и элементов философской рефлексии. В таких взаимопереходах сказались, очевидно, жанровая диффузность, диффуз-ностъ различных форм творческой мысли — универсалии культуры Серебряного века, вне которых творчество Бунина непредставимо.
Яркими образцами малой лирико-философской прозы Бунина позднего периода стали рассказы «Несрочная весна», «Музыка», «Ночь», «Поздний час» и др. Комплекс мистических интуиции зрелого писателя нашел оригинальное художественное воплощение в рассказе «Ночь». Стержнем его становится ощущение непостижимой тайны бытия и личности, загадочное для самого повествователя «понимание своего непонимания» [5; 298] всей бесконечности мироздания. Это и поразительные по своей исповедальной откровенности прозрения о древнейших пластах Прапамяти, об особом «разряде» людей, к которым принадлежат художнически одаренные натуры... Существенна здесь непреднамеренность, органичность философской рефлексии, далекой от отвлеченного теоретизирования. Единство художественного и философского планов обусловлено взаимопроникновением авторского «я» и картин окружающего бытия, выведенных за пределы эмпирического времени: Юпитер, Млечный Путь, «ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием...» [5; 299]. В образе мировой беспредельности «отражены» решающие мгновения самоосознания: «Юпитер достиг предельной высоты своей...» [5; 307].