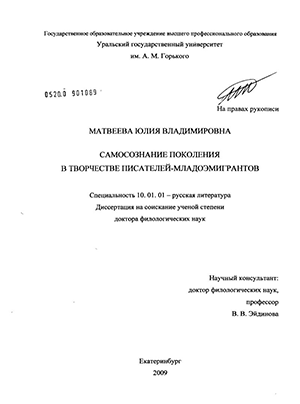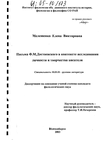Содержание к диссертации
Введение
Часть I. Сценарий общей судьбы и его индивидуальные художественные модификации .
Глава 1. Опыт гражданской войны в его литературной проекции:
Г. Газданов, В. Андреев, В. Смоленский, И. Савин, В. Набоков 27
Глава 2. Эмблематика странствий: корабли и поезда в творчестве «сыновей» эмиграции: В. Набоков, Г. Газданов, Б. Поплавский 62
Глава 3. Eautre patrie: 3. Шаховская, А. Труайя, В. Варшавский, В. Андреев, Н. Берберова, И. Одоевцева, Р. Гуль, Б. Поплавский, В. Набоков, Г. Газданов 77
Глава 4. Литература как форма инобытия: В. Емельянов, Н. Берберова 113
Глава 5. Гностика на краю жизни: «Приглашение на казнь» В. Набокова, дневник и письма из тюрьмы Б. Вильде 146
Часть II. Мироощущение как основа миростроения: Гайто Газданов .
Глава 1. Мистическая интуиция бытия 176
Глава 2. Романтическое сознание 208
Глава 3. Экзистенциальное мышление 244
Заключение 287
Литература 292
- Эмблематика странствий: корабли и поезда в творчестве «сыновей» эмиграции: В. Набоков, Г. Газданов, Б. Поплавский
- Литература как форма инобытия: В. Емельянов, Н. Берберова
- Романтическое сознание
- Экзистенциальное мышление
Введение к работе
Предмет исследования реферируемой работы — творчество «молодых» писателей первой русской эмиграции, совпадающие элементы художественного мышления в их литературном наследии, взаимозависимость мироощущения и художественного сознания, свойственная представителям этого поколения.
Актуальность исследования. К концу ХХ — началу ХХI столетия литература Русского Зарубежья, созданная писателями первой русской эмиграции, прочно вошла в читательский и литературоведческий обиход. Ее изучение стало дифференцированным, аналитическим и профессиональным. На общем фоне этого большого и сложного культурного явления рельефно выделились отдельные писательские имена, прояснилась структура личностных и творческих взаимоотношений (то, что О. Демидова справедливо назвала «литературным бытом» эмиграции), сформировались представления о литературных центрах, изданиях, кружках и тенденциях. Одним из самых дискуссионных, как в 1920–30-е гг., так и сегодня, оказался вопрос о «незамеченном поколении». Речь идет о «молодых» русских писателях, родившихся в конце ХIХ — первом десятилетии ХХ столетия, которые, пережив гражданскую войну и тяжелейший период адаптации за рубежом, к середине 1920-х годов активно вошли в литературу, заставили спорить и говорить о себе.
В 1920–30-е гг. у них были свои издания, кружки и союзы, о «молодой» эмигрантской литературе писали статьи и выступали на публичных диспутах. В 1936 г. на страницах эмигрантских периодических изданий разгорелась полемика о литературной состоятельности так называемых «сыновей эмиграции», в которой приняли участие М. Осоргин и М. Алданов, А. Бем и В. Ходасевич, Г. Адамович, Г. Газданов, В. Варшавский. Свидетельством того, что вопрос о поколении существовал вполне объективно, являются многочисленные мемуарно-биографические и документальные источники; сборник социологических и психологических исследований под ред. В. В. Зеньковского «Дети эмиграции: Воспоминания» (1925), книга В. Варшавского «Незамеченное поколение» (1956), целый ряд самоопределений: поколение «отчужденных» (З. Шаховская), поколение «из пролета эпох» (Г. Газданов), поколение «неудачников» (В. Варшавский), поколение «обнаженной совести» (Ю. Терапиано). В 1950–60-е годы, когда споры сменились аналитическими обобщениями, образ поколения окончательно сформировался в очерково-эссеистических работах Ю. Терапиано, Г. Адамовича, Н. Оцупа, в исследованиях В. Варшавского и Г. Струве, в мемуарах И. Одоевцевой, Н. Берберовой, З. Шаховской, Р. Гуля, А. Седых, А. Бахраха, В. Яновского.
Во многом благодаря появлению вышеназванных источников, к 1990-м годам стало очевидно, что в русской словесности, да и во всей русской культуре ХХ века состоялся такой феномен, как литературное творчество младоэмигрантов, имеющий свой собственный ментальный смысл и свои качественные характеристики — психологические, морально-этические, эстетические. Кроме того, к концу ХХ — началу ХХI столетия, в эпоху стремительно нарастающей языковой и культурной интеграции, жизненный и творческий опыт эмигрантских «сыновей» оказался неожиданно созвучен нашей современности, по-новому востребован читателями, художниками, культурой в целом. Не случайно вполне конкретные, казалось бы, историко-литературные исследования, посвященные писателям-младоэмигрантам, все чаще превращаются в масштабный разговор о «незамеченном поколении». В качестве примера можно вспомнить опубликованную в журнале «Литературное обозрение» подборку материалов о журнале «Числа» (1996, № 2), впервые разыгравших тему младшего поколения русской эмиграции. Можно вспомнить состоявшуюся в декабре 2003 года в Москве конференцию (ИНИОН РАН, Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»), посвященную 100-летию Гайто Газданова, которая совершенно естественно превратилась, как высказался один из ее участников, В. Хазан, в дискуссию о «поэтике поколения».
Если говорить о степени изученности этого феномена в современном литературоведении, то, помимо исследований об отдельных его представителях (В. Набокове, Г. Газданове, Б. Поплавском, В. Яновском, Н. Берберовой, Д. Кнуте), помимо работ, посвященных в целом эмигрантологии или же конкретно «парижской ноте» (Т. П. Буслакова, В. Крейд, К. В. Ратников, Ф. П. Федоров), журналу «Числа» (М. А. Васильева, О. Р. Демидова, С. Р. Федякин), литературным дискуссиям 1930-х годов (Т. Л. Воронина, Н. Г. Мельников, О. А. Коростелев, М. О. Швабрин, А. А. Долинин, С. Р. Федякин, О. Р. Демидова), за последние годы появились две монографии, где литературное творчество «сыновей» эмиграции стало предметом системного анализа. Это труд Леонида Ливака «Как это делалось в Париже. Русская эмигрантская литература и французский модернизм» и книга Ирины Каспэ «Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы». В обеих работах образ «незамеченного поколения», сформированный и сформулированный самими эмигрантами, подвергается сомнению, оба исследователя — каждый, разумеется, по-своему — апеллируя к фактам эмигрантской литературной жизни, анализируя поведенческие и творческие стратегии писателей младшего поколения эмиграции, пытаются воссоздать обратную сторону мифа — убедить в том, что «незамеченность» была лишь иллюзией, спланированной и удобной позицией, которая в результате привела своих адептов вовсе не к поражению, а к самой настоящей победе над временем и судьбой.
Из всего сказанного следует, что вопрос о культурно-эстетической самобытности и ценностной состоятельности поколения писателей-младоэмигрантов так и остается открытым: версии, концепции и литературоведческие интерпретации, несмотря на их глубину, фактографичность, оригинальность, оставляют почти нетронутой для психологического, социологического и семиотического анализа сферу собственно литературного наследия «молодых» писателей-эмигрантов.
Материалом исследования явились художественные, мемуарные, публицистические тексты, принадлежащие авторам интересующей генерации — Б. Поплавскому, В. Набокову, Г. Газданову, В. Варшавскому, В. Андрееву, В. Емельянову, Н. Берберовой, И. Одоевцевой, Р. Гулю, И. Савину, В. Смоленскому, Б. Вильде, З. Шаховской.
Основная цель исследования: найти в творчестве разных художников — поэтов и прозаиков, знаменитых и безвестных — смысловые пятна подспудной общности, распознать их внутреннюю перекличку, а затем, уже на примере творчества конкретного автора, рассмотреть механизм превращения жизненного опыта и выработанного мироощущения в художественную реальность литературных произведений.
Основной целью диссертации обусловлены ее конкретные задачи:
1. Путем структурного и сравнительно-типологического анализа выявить в художественных текстах разных авторов спектр повторяющихся мотивов и эмблематически значимых образов, свидетельствующих об исторической общности реального жизненного опыта их создателей.
2. Определить для генерации эмигрантских «сыновей» круг универсально значимых вопросов философского, экзистенциального, национального и культурного характера, проанализировать их мотивно-образное претворение в произведениях отдельных писателей.
3. На примере творчества конкретного художника (в данном случае — Гайто Газданова) рассмотреть специфические для всей созданной младоэмигрантами литературы черты поэтики и стиля, высвечивающие своеобразный уклад поколенческого мышления.
Выдвинутые задачи определяют научную новизну диссертационной работы, в которой по-новому описан и многосторонне исследован историко-литературный и социо-культурный феномен литературного творчества младоэмигрантов, представлены, проанализированы и введены в научный обиход малоизвестные художественные и публицистические тексты, безвестные и непопулярные писательские имена.
Метод предпринятого исследования можно назвать методом литературоведческой реконструкции, при котором эстетическое и внеэстетическое (онтологическое, психическое, бытовое) рассматриваются в их взаимной предобусловленности.
Методологической основой диссертации стали фундаментальные труды М.М. Бахтина, рассматривающие литературу в глобальной производности от форм, типов и функционирования человеческого сознания; философская герменевтика Х.-Г. Гадамера, предполагающая возможность обнаружения подлинного бытия творца в глубине его образной системы; учение Л. С. Выготского о психоаналитическом методе исследования, с точки зрения которого искусство есть особый, социально ангажированный способ разрешения бессознательного; работы Б. М. Эйхенбаума, на практике раскрывающие диффузию индивидуального и социального в литературном творчестве; семиотическая концепция искусства Ю. М. Лотмана; «психопоэтика» Е. Г. Эткинда; работы Н. А. Богомолова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского. В трактовке понятия «поколение» мы опирались на современные писателям-младоэмигрантам концепции К. Мангейма и Х. Ортеги-и-Гассета, на отечественную традицию, намеченную трудами Л. Я. Гинзбург, Ю. М. Лотмана, А. Я. Гуревича, М. О. Чудаковой, Б. В. Дубина. В трактовке понятия стиля, столь необходимого при анализе литературного текста — на работы А.Ф. Лосева, В.И. Тюпы, В. В. Эйдиновой.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно существенно расширяет представления отечественной историко-литературной науки. Благодаря эффективному применению сложных синтетических подходов, соединяющих семиотику и герменевтику, структурный и психологический анализ, достигается эффект психобиографической реконструкции «младшего» поколения русских эмигрантских писателей.
Практическая ценность исследования. Собранный литературный материал, результаты обобщений, выводов, умозаключений могут быть использованы в процессе дальнейшего научного изучения литературного наследия первой русской эмиграции, могут быть использованы также при чтении лекционных курсов по истории русской литературы первой половины ХХ века, при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по литературе Русского Зарубежья для филологических факультетов высших учебных заведений. Основные результаты работы внедрены на филологическом факультете Уральского госуниверситета им. А.М. Горького в рамках лекционного курса «Русская литература Зарубежья».
На защиту выносятся следующие положения:
1. Литературное творчество «молодых» писателей первой русской эмиграции может и должно быть рассматриваемо не только в качестве материала для подтверждения или опровержения мифа о «незамеченном поколении», но в первую очередь — в качестве целостного историко-литературного феномена, которому присущи собственные импульсы развития, а также собственные эмоциональные, интеллектуальные и эстетические характеристики.
2. Художники-младоэмигранты, исторически и объективно принадлежа одному поколению, в созданных ими литературных произведениях воспроизвели главные события своей биографии, причем не только индивидуальной, но и общей (типичной) для всей генерации.
3. На разных структурно-поэтических уровнях организации текста отразился в литературном творчестве эмигрантских «сыновей» их душевный опыт с его уникальными психическими комплексами и мировоззренческими установками.
4. Системный сравнительный анализ позволяет обнаружить в текстах разных самобытных художников моменты подспудной, а иногда и сознательно закрепленной общности (сюжеты, мотивы, образы), раскрывающие суть поколенческого единства.
5. Поскольку литературное творчество для младших эмигрантов имело статус бытийный и экзистенциальный, то истолкование и распознавание зашифрованных в литературную форму первопереживаний и первообразов имеет реальный исследовательский смысл.
6. Помимо общности содержательной, нужно говорить и об элементах некоего поэтического и стилевого единства в наследии младоэмигрантов. Оно, в частности, проявляется в настойчивом стремлении реализовать в формах поэтики доминирующие черты поколенческого мировоззрения и мироощущения. К таковым можно отнести мистическое чувство жизни, романтический уклад сознания, устремленность в перспективу экзистенциальной философии. Примером индивидуального претворения этой спонтанно сформировавшейся «поэтики поколения» служит проза Гайто Газданова.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования были представлены в виде научных докладов, прочитанных на 9 научных конференциях разных уровней в Екатеринбурге, Москве, Тюмени, Калининграде, среди которых Международная научная конференция «Русское Зарубежье: приглашение к диалогу» (Калининград — Светлогорск, 2002), Международная научная конференция «Гайто Газданов: Писатель на пересечении традиций, культур, цивилизаций. Взгляд из ХХI века» (Москва, 2003), Международная научная конференция «Русское литературоведение в новом тысячелетии» (Москва, 2004), Международная научная конференция «Дергачевские чтения: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности» (Екатеринбург, 2006), Всероссийская научная конференция «Проблемы изучения культуры Русского Зарубежья» (Москва, 2006), Международный научный семинар «Франция — Россия: Проблемы культурных диффузий» (Екатеринбург, 2006; Тюмень, 2008).
Эмблематика странствий: корабли и поезда в творчестве «сыновей» эмиграции: В. Набоков, Г. Газданов, Б. Поплавский
В генерации «сыновей» тоже были попытки найти «в своей среде гения», каковым представлялся, конечно, Б. Поплавский, судьбы многих из них «превратились в историю разбитых жизней» и «внутри каждой личности боролись за преобладание «человек» и «писатель». Недовоплощенными ушли из жизни или из литературы И. Шкотт, М. Агеев, А. Штейгер, В. Емельянов, Б. Божнев, Д. Кнут, тот же Поплавский, многие другие.
Зато эмоциональная проницаемость мембраны, отделяющей искусство от жизненных переживаний, дает надежду распознать одно через другое, рассмотреть «систему эмоций» поколения в их литературном воплощении.
Из всего сказанного следует цель представленной работы: попытаться найти в творчестве разных художников — поэтов и прозаиков, знаменитых и безвестных - смысловые пятна подспудной общности, распознать их внутреннюю перекличку, а затем, уже на примере творчества конкретного автора, рассмотреть механизм превращения жизненного опыта и выработанного мироощущения в художественную реальность литературных произведений.
Метод предпринятого исследования можно назвать методом литературоведческой реконструкции, при котором эстетическое и внеэстетическое (онтологическое, психическое, бытовое) рассматриваются в их взаимной предобусловленности.
Подобный аспект анализа имеет в русском литературоведении давнюю и авторитетную традицию. Это, конечно, фундаментальные труды М. М. Бахтина, рассматривающие литературу в ее глобальной производности от форм, типов и функционирования человеческого сознания. Это работы Л. С. Выготского, и в первую очередь его «Психология искусства», на многие тезисы которой хотелось бы нам опереться. В частности, на ее трактовку бессознательного и специфическое понимание психоаналитического метода
Там же. С. 8. - как способа «расширения сферы исследования» и «указания на то, как бессознательное в искусстве становится социальным»: «...искусство никогда не сможет быть объяснено до конца из малого круга личной жизни, но непременно требует объяснения из большого круга жизни социальной. Искусство как бессознательное есть только проблема; искусство как социальное разрешение бессознательного - вот ее наиболее вероятный 66 ответ» . Стремление постичь в литературном творчестве диффузию индивидуального и социального, раскрыть этические первопричины («творческие стимулы») искусства пронизывает работы Б. М. Эйхенбаума, его исследования, посвященные Лермонтову, Некрасову, Толстому, Чехову67.
В иной форме и, соответственно, в терминологии семиотической концепции искусства, однако столь же масштабно, проблема соотнесения реальности внеэстетической и сугубо художественной ставится в работах Ю. М. Лотмана и многих представителей тартуско-московской семиотической школы.
Тот же аспект, ту же проблему взаимосвязи «всей совокупности внутренней жизни человека» с высказанным и художественно выраженным словом положил в основание своей «психопоэтики» Е. Г. Эткинд . Чтобы увидеть «не просто события личной жизни поэта, но основу его поэтической мифологии»69, всякий раз «реконструирует» биографию творца Н. А. Богомолов.
Подобное видение, одновременно схватывающее и синтезирующее фактуру творчества и фактуру жизни художника, было присуще Г. Адамовичу, а также многим писателям, философам, филологам и критикам трети XX века. Портреты. Разыскания. Томск, 1999. С. 82. Русского Зарубежья, для которых антропоцентрический фактор в искусстве был (при всей их эстетической требовательности) совершенно неоспорим70. Думается, так называемый антропоцентризм и вообще является непременной составляющей литературоведческого анализа. Ведь даже тогда, когда речь идет о пристальном анализе поэтики, выход к образу творца неизбежен. Сошлемся на работы В. В. Эйдиновой о стиле Л. Добычина, А. Платонова, О. Мандельштама, И. Бабеля , возводящие стилевой «закон формы» в ранг генерализующего принципа индивидуального художественного мышления. Основной целью диссертации обусловлены ее конкретные задачи: 1. Путем структурного и сравнительно-типологического анализа выявить в художественных текстах разных авторов спектр повторяющихся мотивов и эмблематически значимых образов, свидетельствующих об исторической общности реального жизненного опыта их создателей. 2. Определить для генерации эмигрантских «сыновей» круг универсально значимых вопросов философского, экзистенциального, национального и культурного характера, проанализировать их конкретное мотивно-образное претворение в творчестве отдельных писателей. 3. На примере творчества конкретного художника (в данном случае — Гайто Газданова) рассмотреть специфические для всей созданной младоэмигрантами литературы черты поэтики и стиля, высвечивающие своеобразный уклад поколенческого мышления.
Литература как форма инобытия: В. Емельянов, Н. Берберова
Структурообразующим и в экзистенциальном, и в эстетическом плане по известному ряду объективных исторических причин стал для большинства художников младшего эмигрантского поколения мотив странствия, связанный с ним мотив пути. Собственная бытовая и бытийная неустойчивость, собственное странничество младоэмигрантами зачастую мифологизировались: Набоков свою заграничную бездомность, как известно, превратил в семиотически значимую деталь собственной биографии; Газданов вошел в читательское сознание, а ранее - в память современников в образе ночного таксиста; Поплавский — в его странном костюме, «представляющем собой смесь матросского и дорожного» «всегда был - точно возвращающимся из фантастического путешествия» ; Берберова одним из своих заглавных личных символов называла «гордую фигуру на носу корабля»; Зуров и Кузнецова запечатлели себя по-тургеневски примостившимися на краешке чужого гнезда.
Конечно, рифма изгнанник/странник - одно из общих мест эмигрантской литературы, но если для поколения старших она была рифмой хоть и банальной, но всегда и неизменно щемящей, то в жизнетворчестве «сыновей» получила обертоны самые разные. Свое нечаянное пожизненное странничество они не только не проклинали, но благословляли, воспринимали как дар, ведь оно сулило освобождение, освобождение от многих вещей — от монотонности обыденной жизни, от груза культурных традиций, порой от необходимости родного языка, наконец, от собственной окостенелости. И если притча о блудном сыне вполне могла бы стать глубинной метафорой образа жизни целого поколения, то его экслибрисом, эмблемой, опознавательным знаком в литературе стали образы кораблей и поездов, неизменно присутствующие в творчестве самых разных художников. Несмотря на то, что каждый из них, прозаиков и поэтов, «держал», по характерному выражению Б. Поплавского, свой «Метафизический фасон», поезда и корабли, несомненно, принадлежат их общему инвариантному мотивно-образному фонду, так же как принадлежали их общему прошлому.
Рвущийся сквозь огонь бронепоезд, бесконечно ползущие составы, салон-вагон командира, переполненные солдатские теплушки, уплывающие вдаль корабли - вот образы, наделенные, как описанная Ю. М. Лотманом карточная игра эпохи рубежа XVIII-XIX веков, «подчеркнутой исторической конкретизацией» и ставшие безусловным центром «своеобразного мифообразования» эпохи гражданской войны. В них отлило себя время, они оказались в равной мере близки красным и белым, военным и не военным, тем, кто остался, и тем, кто навсегда уехал. Вспомним возведенный в ранг государственного символа легендарный крейсер революции, а с другой стороны, канонизированный и много раз запечатленный «исход» врангелевских войск: Дельфины играли вдали, Чаек качал простор, И длинные серые корабли Поворачивали на Босфор. Н. Тихонов. Перекоп.
В известной повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69», в повести «Салон-вагон» А. Соболя движущийся бронепоезд стал последним оплотом трагически мечущегося героя. Позднее такой же единственной точкой опоры станет салон-вагон и для командарма Гаврилова в «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка. Романтический образ бронепоезда «Пролетарий» в перекрестном сиянии Марса и Венеры возникает в финале «Белой гвардии». Поезда и корабли, работа на паровозе-снегоочистителе, а затем на катере «Шаня» герметично заполняют «сокровенную» революционность платоновского Фомы Пухова.
Рассматривая в одной из своих работ «психофизиологические основы» поэтического комплекса моря, В. Н. Топоров говорит о ситуации, когда «морской» код становится формой «не морского» сообщения, ибо описывает нечто более глубокое и обширное, чем море, что есть в душе человека. Причем авторы в этом случае «не стесняются совпадений», ибо у них есть «подсознательное чувство» «органичности и самой "морской" темы и способа ее "разыгрывания"». «В самих описаниях "морского" нередко чувствуется», «как повторное воспроизведение уже некогда реально пережитого соответствующего личного опыта» имеет «не всегда сознаваемый психотерапевтический смысл»134. Кажется, нельзя подыскать более точной аналогии, более исчерпывающего и внятного пояснения - без сомнения, корабли и поезда и на страницах советских, и на страницах эмигрантских книг прежде всего конденсировали исторический и экзистенциальный опыт творцов. В конечном счете они превратились в самый настоящий и чистый символ — «такой знак, значение которого не установлено заранее; оно, с одной стороны, - интуитивно усматривается и очевидно, а с другой, — никогда не постигается до конца и обладает неисчерпаемостью» 35. Эти одновременно присутствующие «очевидность» и «неисчерпаемость» обеспечили поездам и кораблям пореволюционной эпохи статус некоего универсального символа.
Романтическое сознание
Впрочем, нет у Поплавского и однозначно «французских» тем, хотя исторических, топонимических и бытовых реалий, связанных с Францией, намного больше. Иногда русское и французское у Поплавского совершенно неразличимо, переплетено и образует единую реальность. Например, стихотворный триптих «Во мгле лежит печаль полей...» — «Тихо светится солнце в тумане...» - «На холодном желтеющем небе...», где образ предрассветного храма, иллюзорного прибежища лирического героя, попеременно наполняется православной и католической семантикой. В первом и в третьем стихотворении преобладают как будто «русские» смыслы: «лампада теплится веками», «и колокол в туманный час неспешно голос посылает», «занесенные крыши скита»219. Во втором стихотворении на фоне того же блоковского «бело-серого» занимающегося дня, той же пустой церкви, «где лампада парит над землею», вдруг неожиданно, но в то же время естественно слышится орган.
На первый взгляд, и подлинная Россия, и подлинная Франция вообще оказались за пределами эмигрантской метафизики поэта. И все-таки, если читать пристально, национальный русский компонент, реализуемый на разных уровнях смысла и структуры, у Поплавского очень значителен, особенно в прозе, где, как писал Г. Адамович, все то, что было в его стихах, «сказано глубже и тверже»" .
Своим современникам Поплавский виделся поэтом богемным — не русским и не французским, но «русско-монпарнасским»"21, его поэтическое признание: «Я не участвую, не существую в мире, / живу в кафе, как пьяницы живут» - цитируется не однажды как признание глубоко личное.
Совершенно естественно, что экзистенциальная ничейность, интернациональная богемность стали главным достоянием героев его прозы, главной характеристикой отраженной в ней атмосферы. Особенно это чувствуется в «Аполлоне Безобразове», где герой - Васенька — с первых страниц явлен как персонаж десоциализированныи, а значит, и денационализированный, пребывающий в состоянии «гражданской смерти». Он эмигрант, он «недавно приехал и только что расстался с семьей» , но внешность его уже обрела «выражение трансцендентальной униженности».
После встречи с Аполлоном; Безобразовым, находящимся «по ту сторону рассветов и закатов», это состояние получает иную, но тоже общечеловеческую трактовку: «гражданская смерть» оборачивается беспредельной свободой, а «трансцендентальная униженность» -христоподобием. Нет никакой исторической драмы, никакой личной и национальной трагедии, это всего лишь состояние личности, порвавшей с грубостью социального мира: «Но что, собственно, произошло в метафизическом плане от того, что у миллиона человек отняли несколько венских диванов сомнительного стиля и картин Нидерландской школы малоизвестных авторов, несомненно, поддельных, а также перин и пирогов, от которых неудержимо клонит к тяжелому послеобеденному сну, похожему на смерть, от которого человек встает совершенно опозоренный? ... Разве Христос, если бы он родился в наши дни, разве не ходил бы он без перчаток, в стоптанных ботинках и с полумертвою шляпой на голове?» [АБ, 11].
Таким образом, русский мир, казалось бы, остраняется безвозвратно -Аполлон Безобразов, «равнодушный к русским, охотно отводил от них глаза» [АБ, 49]. В этой ситуации русскость лишь гарантирует чистоту эксперимента, усиливает экзистенциальное одиночество, отщепенчество, тоску и томление. И все же дальнейшее повествование планомерно наполняется русскими героями и русскими реалиями: в качестве сказочного богатыря, русского
Зевса, появится Тихон Богомилов, в качестве «спорной драгоценности» -«русская девушка с французским именем» Вера-Тереза фон Блиценштиф; одной из самых динамичных и решающих глав окажется глава, где герои, Васенька и Аполлон Безобразов, попадают на русский бал — «Маруси Николаевны именины», на которых пирует «наглая и добродушная, добрая и свирепая, лихая Россия, шоферская, зарубежная»; одним из самых запоминающихся образов романа станет образ «железной шоферской лошадки», «шоферской тройки», явно пришедшей на смену знаменитой тройке Гоголя.
Во втором романе — «Домой с небес» — русская тема многократно усиливается" . Между первым и вторым романом проходит шесть лет. В «Аполлоне Безобразове» герой уходит от «земли» к «небесам», т. е. в сферу чистого созерцания и фолософствования, к Аполлону Безобразову; в романе «Домой с небес» происходит обратное: Олег возвращается «на землю» - от книг и размышлений о Боге, от Аполлона Безобразова к земной любви, к различимым и во всех смыслах маркированным вещам. Вместо бесплотной полурусской-полуфранцузской девушки Терезы в романе появляются вполне рельефные и страстные русские красавицы Таня и Катя. Так же, как Васеньке нравились экзальтация и утонченность Терезы, Олегу нравится теперь «спокойная, родная, бесконечно русская» Катя, по-евразийски восхищает его и то «русское ... бездонное, кровное, татарское», что заставляет откликаться сердце Тани. Наконец вместо абстрактной декорации философской драмы («Белый сумрак. Европа» - на фоне которых происходит «тяжба» Аполлона Безобразова и Васеньки) в тексте второго романа не явно, не повсеместно, но все-таки возникает некое противостояние «русской изуверской полноты» и «взрослой западной отчужденности» [ДН, 287].
Экзистенциальное мышление
И здесь, надо сказать, представления лирического героя, а вместе с ним и самого автора, почти соответствуют знаменитой гофмановской антитезе: музыканты и немузыканты. Показательна в этом смысле характеристика, данная однажды Николаем Соседовым своему бывшему домовладельцу, офицеру «из хорошего дворянского рода» Алексею Васильевичу Воронину: «Он был образован и умен и обладал той способностью постижения отвлеченных идей и далеких чувств, которая почти никогда не встречается у обыкновенных людей». Подобное противопоставление, где, с одной стороны, - те избранные, кто способен на «отвлеченные идеи и далекие чувства», а с другой, - «обыкновенные люди», не случайно для Газданова.
Именно этим критерием, способностью и неспособностью людей к «отвлеченным идеям» и «далеким чувствам», всегда, неизменно, из романа в роман руководствуется в своих оценках по отношению к другим персонажам лирический герой Газданова. Обладая «мистической одаренностью», он безошибочно определяет эту «особую личную одаренность» и в других, называя ее то «гибкостью души и понимания», то «душевной роскошью», то, как мы видели, «способностью постижения отвлеченных идей и далеких чувств». Но если о том, что представляет собой мистическое сознание и самосознание газдановских «музыкантов» более подробно говорилось ранее (см. гл. 1), то мир противоположный, мир так называемых «обыкновенных людей» заслуживает отдельного внимания.
В изображении ординарного, обыкновенного, а потому бесконечно убогого склада жизни и души Газданов оказался наследником двух великих художников — Гофмана и Чехова. Чехова Газданов вообще очень любил и был с ним, очевидно, творчески созвучен. Так же, как и Чехов, увидел он главную трагедию человеческого существования в затягивающей и всепоглощающей силе житейской косности; как и Чехов, создал убийственные по своей точности и выразительности образы, воплощающие эту стихийную власть нормы, но, как сделал это некогда Гофман, противопоставил ей - заурядной, средней и серой норме бюргерского мира, -героев с «музыкальными», то есть чувствительными и творческими душами. Этот поистине романтический конфликт заурядного, обытовленного и духовного, неизменно присутствуя во всех произведениях Газданова, обретает первостепенное и самостоятельное значение в рассказе «Воспоминание» (1937), в романе «Ночные дороги» (1939).
Более всего сюжет «Воспоминания» и в самых общих чертах, и в отдельных фрагментах напоминает чеховского «Черного монаха». Василий Николаевич, герой этой небольшой новеллы, как когда-то Коврин, тоже пытается обрести простое человеческое счастье — женится, начинает уютную и безмятежную, казалось бы, семейную жизнь. Но в этой-то безмятежности, целиком состоящей из «обедов и объятий», где нет «ни одной отвлеченной мысли», и заключается главная опасность - именно она, очевидная безмятежность, способствует усиливающейся болезни героя, а потом и вовсе приводит его к гибели. Словно пересиливая «убожество» дневного счастья, по ночам в виде снов и галлюцинаций к герою возвращаются сводящие его с ума «воспоминания об удаленных на столетия временах, знания забытых языков и еще множество вещей, пребывающих в тысячелетней летаргии». Во время одного из таких видений (как и у Чехова — ночью у моря) Василий Николаевич стреляет в себя, тем самым расплачиваясь за свою счастливую успокоенность.
Таким образом, само по себе счастье у Газданова, то счастье, общепринятые представления о котором укоренялись в человеческом сознании веками, недостижимо и иллюзорно, ибо оно — антидуховно, антимузы кально. В нем нет ни душевного трепета, ни душевной печали, а стало быть, нет и подлинной жизни. Но если рассказ «Воспоминание» представляет собой короткую и довольно «прозрачную» иллюстрацию этой мысли, то несколько позднее, в романе «Ночные дороги» в смысле полноты и объема она найдет поистине эпическое выражение.
В основе сюжета здесь лежит уже не новеллистическая история, словно бы сама по себе имеющая четко обозначенные композиционные законы развития, но непосредственный процесс созерцания героем чуждого ему мира, его попытка постичь этот мир, погрузиться в него. Другими словами, все содержание романа составляет рефлексия лирического героя на окружающую его реальность. По крайней мере, установку на такое прочтение можно найти буквально в первых же строчках произведения, заключающих одновременно и своеобразную экспозицию, и лирическую завязку действия: вид маленькой, ссохшейся старушки, тихо едущей в инвалидной тележке глубокой ночью по площади св. Августина, оказался вдруг эмоциональным импульсом, предельно обострившим реакцию героя на мир: «Но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетливо слышный в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, вдруг пробудил во мне ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которое в последние годы почти не оставляло меня» [1: 463].
С этого «отправного» образа и этого «отправного» переживания, разворачивается сам сюжет - непрерывный поток воспоминаний, впечатлений, наблюдений героя над той средой и теми людьми, с которыми его когда-либо сводили дороги ночного Парижа или причудливые дороги его личной судьбы.
В плане характеристики внешнего мира и выявления авторского к нему отношения трудно найти у Газданова произведение более откровенное и более панорамное, чем «Ночные дороги». Но вот, вглядевшись в черты этого мира и реакцию на него автора, становится еще очевиднее та, быть может, подсознательная, романтическая мировоззренческая почва, которая их питает. Чтобы обосновать это, попробуем проследить напряженное соотношение между героем и реальностью, на котором, собственно, строится вся «упругость» и драматическая конфликтность внутреннего сюжета романа.