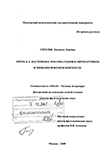Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Проза поэта в исследованиях отечественных литературоведов 18
ГЛАВА II. Проза поэта с вымышленным героем: поэтика повествования, образная структура 37
2.1. Форма организации повествования в прозе поэта с вымышленным героем 37
2.2. Автор, повествователь, герой ..62
2.3. Взаимодействие элементов образной структуры в поэзии и прозе О. Мандельштама и Б. Пастернака 75
ГЛАВА III. Автобиографическая проза поэта: проблемы авторской идентификации 91
3.1. Автобиографическая проза как поиск художественного самотождества 91
3.2. Личностная самоидентификация в автобиографической прозе Мандельштама и Пастернака 107
3.3. Автобиографическая проза поэта как комментарий поэтического творчества 122
Заключение 145
Список использованной литературы 149
- Форма организации повествования в прозе поэта с вымышленным героем
- Автор, повествователь, герой
- Автобиографическая проза как поиск художественного самотождества
- Личностная самоидентификация в автобиографической прозе Мандельштама и Пастернака
Введение к работе
Творчество Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака - классика русской и мировой литературы XX столетия - находится под пристальным вниманием зарубежных и отечественных литературоведов. Более всего "повезло" поэтическому наследию обоих поэтов: оно широко известно, ценимо, поэтому чаще становилось объектом исследования. Сопоставление и сравнение этих двух авторов до сих пор также основывалось только на их поэтическом творчестве. С.С. Аверинцев, например, противопоставляет Мандельштама и Пастернака друг другу, поскольку «у одного есть то, чего нет у другого... физическое ощущение от стихов Пастернака - густота, от стихов Мандельштама - разреженность...» (3, с. 213). Антиподами считала поэтов и Н.Я. Мандельштам. Современный исследователь М. Эпштейн, наоборот, ставит их рядом друг с другом, потому что видит в их поэзии много общего: «У обоих поэтов образная перегруженность... речь Пастернака и Мандельштама кажется более густой, вязкой, каждое слово здесь тесно налегает на другое слово...» и т.д. (159, с. 83).
Прозаические же произведения обоих поэтов изучены значительно меньше. Исключением является широко известный роман «Доктор Живаго» Б. Пастернака, интерес к которому не ослабевает до сих пор. Ранняя же проза Б. Пастернака, как и проза О. Мандельштама, не так привлекает внимание исследователей и не востребована читателями, хотя заслуживает того в полной мере, являясь важной составляющей всего творчества обоих поэтов.
Чаще всего проза любого поэта несет на себе следы отмеченных еще Р. Якобсоном (одним из первых обратившим внимание на это явление) "очевидных усилий" поэта, переходящего на прозу. Устойчивое поэтическое мировосприятие накладывает свой отпечаток на прозаическое
творчество поэта, причем в каждом отдельном случае имеются повторяющиеся признаки, которые позволяют говорить о целом явлении, названном в литературоведении прозой поэта. Р. Якобсон, как известно, одним из первых дал анализ ранних прозаических произведений Б. Пастернака именно как прозы поэта, объяснив все ее особенные свойства поэтическим мировосприятием автора этой прозы. Затем лишь немногие исследователи подробно останавливались на данном явлении, вписывая его в более широкий процесс взаимовлияния стиха и прозы в рамках всей художественной литературы. Как некую типологическую общность прозу поэтов выделяют Ю. Левин, Ю. Орлицкий, В. Маркович, Н. Мазепа и др., предлагая свои варианты доминирующих тенденций в данном явлении, которые подробно рассматриваются нами в первом параграфе первой главы.
Проза О. Мандельштама и Б. Пастернака 1920-х годов в целом мало изучена, еще меньше она изучена как проза, написанная поэтом, с учетом поэтических пристрастий, убеждений ее авторов, вот почему исследование прозы классиков русской литературы XX века как единого явления можно назвать своевременным. К тому же на переломе эпох требуется подвести некий итог, заново переосмыслить достигнутые духовные результаты, минуя неустойчивость литературного процесса, вернуться к несомненным мастерам художественного слова, оказавшим большое влияние на всю последующую литературу. Новаторство обоих поэтов в прозаическом повествовании, особенно в форме его организации, в ослаблении сюжета, в нарушении традиционной причинно-следственной связи, не прошло бесследно для следующих писательских поколений, в частности, для представителей модернистской, постмодернистской прозы второй половины XX века.
Вот почему изучение прозы О. Мандельштама и Б. Пастернака, ее типологических особенностей, ее поэтики продолжает оставаться актуальным и в начале XXI столетия.
Причины обращения поэтов к прозе составляют немаловажную часть изучения самой прозы. Что заставляет состоявшихся поэтов искать самовыражения в ином способе организации мысли? Только ли личное желание (что было бы простым и легким ответом)? Однако внешние обстоятельства, не всегда благоприятные, могут сыграть решающую роль в судьбе как самого поэта, так и его творчества. Вот почему социокультурные обстоятельства, повлиявшие на переориентацию поэта, являются неотъемлемой частью всего процесса создания прозы поэта. Рассмотрим обстоятельства, сопутствующие написанию прозы поэтами, а также условия, предшествующие ее созданию и частично повлиявшие на ее возникновение и развитие (например, «словоцентризм» "серебряного века", проза «потока сознания» М. Пруста и Д. Джойса, философские концепции начала XX века).
В 1920-е годы Б. Пастернак работал одновременно над прозой и над стихотворными произведениями. Об этом свидетельствуют роман в стихах «Спекторский» и примыкающая к ней прозаическая вещь «Повесть» с одним и тем же героем. Но в большей степени период с 1923 по 1930 годы в творчестве Пастернака можно охарактеризовать как время эпических исканий, т.к. он работал в это время в основном над поэмами «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт».
В конце 20-х годов, после завершения работы над историческими поэмами, Пастернак вновь обратился к лирике (сборник «Второе рождение», 1932). По мнению исследователей, этот период времени характеризовался спадами поэтической энергии, длительными перерывами в оригинальном творчестве, что в целом соответствует общей картине
6 упадка русской лирики в 20-е годы, на излете «серебряного века». Закономерно, что именно в это время поэт усиленно занимался переводами, а также обратился к прозе. Кроме повести «Детство Люверс» (1918), Пастернак создал такие прозаические произведения, как «Воздушные пути» (1924), «Охранная грамота» (1928-1930).
Для О. Мандельштама 20-е годы характеризуются вынужденной работой над переводами, редактурой, рецензиями и полным отказом от поэтического творчества, т.к., по воспоминаниям Н.Я. Мандельштам, «переводилась абсолютная дрянь, отрава, хотя всякий принудительный перевод для поэта губителен. Мандельштам так закабалил себя переводами, что даже передохнуть не мог...» (105, с.51). О. Мандельштам так же, как и Б. Пастернак, под давлением внешних обстоятельств и сложившейся ситуации, когда невозможно было заработать и содержать семью, занимаясь только поэтическим творчеством, под воздействием набирающего все большую силу общественно-политического режима, приходит к решению самовыразиться, самореализоваться иным способом -через прозаическое творчество. В 1923 году Мандельштамом было создано первое прозаическое произведение «Шум времени», опубликованное частным изданием, т.к. государство принимало у Мандельштама только переводы, в 1925 году. Оно имело успех среди читательской интеллигенции и было доброжелательно воспринято критиками русского зарубежья1. Это была одна из немногих изданных в СССР книг, которая вызвала поразительное и впоследствии уже невозможное единодушие и внутрисоветской, и эмигрантской критики. Причем большинству рецензентов Мандельштам-прозаик даже казался выше Мандельштама-
1 Выход "Шума времени в 1925 году оценивался современниками и в России и в эмиграции как событие первостепенного значения. Восторженный прием "Шума времени" в среде либерально ориентированных современников ярче всего проявился в рецензии Д. Святополк-Мирского, который в 1926 году писал: "Не будет преувеличением сказать, что "Шум времени" одна из трех-четырех самых значительных книг последнего времени, а по соединению значительности содержания с художественной интенсивностью едва ли не ей принадлежит первенство..." (63, с. 182).
поэта. Хотя некоторые поэты, например М. Цветаева, Г. Адамович, выразили неприятие, непонимание этого произведения и, как следствие, были невысокого мнения о его художественной ценности. В 1927 году О. Мандельштам написал свое единственное прозаическое произведение с вымышленным героем и сюжетом - «Египетская марка», получившее также неоднозначные отзывы у читателей. Официальная же литература полностью не приняла продолжение прозаического опыта поэта, т.к. ничего похожего ни в советской, ни в классической прозе не наблюдалось. В 1928 году Мандельштама публично обвинили в переводческом плагиате, после чего развернулась длительная кампания, в результате которой он лишился ленинградской квартиры, вынужден был переехать в Москву и в конце концов выйти из Союза писателей.
Конфликт, травля и связанные с ними эмоции легли в основу, отразились в еще одном прозаическом произведении 1929 года - в «Четвертой прозе», где Мандельштам уже открыто противопоставляет себя «кровавой Советской земле» и ее «захватанному грязными лапами социализму»: «кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени» (96, с. 144). «Четвертая проза» была издана в Советском Союзе только в 1988 году, до этого еще в 60-е годы она (без одной, крайне антисоветской главки, отсутствующей даже в западных изданиях) стала самиздатовским бестселлером.
После негативных эмоций, сублимировавшихся в творчество, в прозу, к Мандельштаму, по словам его жены, вернулись стихи: «Почти два года, истраченные на распрю, окупились во сто крат, «больной сын века» вдруг понял, что он-то и был здоровым. Когда вернулись стихи, в них уже и в помине не было темы «усыхающего довеска». Это был голос отщепенца, знающего, почему он один, и дорожащего своей изоляцией» (106, с. 93).
Предшествующий кризис стал переломным моментом в творчестве поэта, появились новые стихи, возникшую же в творчестве паузу заполнила проза, не ставшая от вынужденного появления хуже, чем стихи, поскольку создавалась гениальным художником, но тем не менее была иного свойства, отличаясь от традиционной прозы в силу большого влияния на нее уже сформировавшегося поэтического ума и сознания.
У Б. Пастернака проза появилась в менее трагические моменты жизни, к тому же, по воспоминаниям его биографов, он всегда хотел писать прозу, но этому мешала необходимость регулярного заработка переводами. В своих письмах Пастернак называл прозу «настоящей работой, которая все не выходила. Как только округлялось начало задуманной вещи, в силу материальных обстоятельств, оно печаталось. Вот отчего все обрывки какие-то и не на что оглянуться» (23, с. 6). Вот почему почти вся проза Пастернака до романа «Доктор Живаго» считается незаконченной. Несмотря на это, его прозаическое творчество обладает несомненной художественной ценностью, такой же, что и стихи, и заслуживает не меньшего внимания со стороны ученых-литературоведов, чем поэзия. Малая изученность прозы Пастернака 20-х годов, этого самого исследуемого русского писателя XX века, объясняется не только тем, что в сравнении с лирикой и романом «Доктор Живаго» его ранние повести могли показаться менее значительными, но и сложностью и незаурядностью этой части наследия художника.
Сложность прозы Б. Пастернака так же, как и прозы О. Мандельштама, объясняется влиянием поэтических школ «серебряного века», откуда вышли оба поэта. Преобладание формы над содержанием, кардинальная перестройка языка и сознания были главными тенденциями поэтической эпохи начала XX века. По мнению французского исследователя Ж. Бло, интерес к форме и возможностям, вытекающим из
экспериментов с языком, связан с тем, что в XIX веке уже исчерпались все возможности, связанные с содержанием: «Если Лермонтов и Пушкин идут от поэзии к прозе, от прозы к поэзии, то вовсе не из интереса к форме, а для того, чтобы найти средство выразить личность и мир, новизну и значимость которого они ни в коей мере не ставят под сомнение» (22, с. 84). В XX же столетии, считает ученый, "нет больше возможностей для открытий и миру творца содержательных историй пришел конец, нет больше незавоеванных территорий, и искусство и оригинальность автора состоят в беспрецедентности и красивости новых комбинаций" (22, с 84-85). Отсюда возникший в прошлом веке большой интерес к возможностям формы, к чрезмерной по густоте образности, метафоризации, изощренности в выборе средств художественной изобразительности, т.е. ко всему тому, что было характерно только для поэзии и что мощным потоком хлынуло в прозу XX века.
Поэтическое отношение к прозаическому слову объединяет прозу Мандельштама и Пастернака, принцип поэтической мысли лежит в основе создания прозы поэта. Если поэт берется писать прозу, под давлением ли внешних обстоятельств или внутренней потребности иным образом самовыразиться, то она под воздействием накопленного поэтического опыта будет постоянно испытывать на себе его влияние, будет обусловлена им, в результате чего возникает проза поэта с ее особенным вниманием к слову.
Словоцентризм этой прозы был наследием "серебряного века". Именно модернизм впервые указал на слово как на минимальную полноценную единицу художественного образа. Именно он с непривычной для классической русской литературы рациональностью завел разговор о неких самодовлеющих величинах словообраза, о материальном, т.е. звуковом или графическом его основании, о чувственно воспринимаемой
форме, в которой осуществлен «материал», и о концептуализации обозначаемого, т.е. наделении его произвольным смыслом. Таким путем "серебряный век" как бы утвердил необычную для реалистической эстетики формализацию материально-духовных составляющих художественного образа. «Скрытый рационализм модернизма проявился в том, что научные изыскания или мечтания он превращал в практическое руководство к творчеству, шел не от сердца и от жизни, а от ума" (88, с. 32). Первотолчок к сознательному использованию художественных возможностей слова дал А. Потебня: «Слово только потому есть орган мысли и непременное условие всего позднейшего развития понимания мира и себя, что первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения» (113, с. 182). А. Потебня обнаружил внутреннюю форму у слова. Ею оказалось глубинное представление, сопрягающее звуковые сочетания с единицей смысла и делающее эту связь неслучайной. Слово, сохранившее живую связь с первосмыслом, т.е. обладающее живой внутренней формой, поэтично и может стать источником художественного произведения. Это открытие можно считать заслугой "серебряного века" в дальнейшем развитии русской литературы XX века.
Мандельштаму во многом импонировала потебнианская теория. Он разработал свою теорию поэтического слова, следуя за А. Потебней, хотя несколько по-иному перетолковывает смысл его концепции. Согласно Мандельштаму, слово как бы имеет двойную природу: значимость слова не сводится ни к символическому, ни к предметному значению. «Самое удобное, рассматривать слово как образ, т.е. словесное представление» (83, с. 206-207).
В этой связи уместно привести суждение И. Бродского: «Мандельштам является поэтом формы в самом высоком смысле слова. Для него стихотворение начинается звуком, «звучащим слепком формы», как
11 он сам называл его»1 (24, с. 194). А также суждение М. Цветаевой о Пастернаке: «В России крупнейшим из поэтов и прозаиков... утверждаю Бориса Пастернака, давшего не новую форму, а новую сущность, следовательно - и новую форму» (152, с. 153). Оба поэта оказывали внимание форме в поэтических произведениях, пробуя ее различные вариации, что не могло не отразиться на их прозе - Мандельштам и Пастернак решительно взрывают традиционную прозаическую форму, но только с целью поиска, выжимки нового смысла, сути, т.е. содержания. И здесь нельзя не вспомнить знаменитое пастернаковское определение поэзии как губки, полемически противопоставленное ее традиционному пониманию как родника или фонтана. «Современные течения вообразили, что искусство - как фонтан, тогда как оно — губка. Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться» (103, с. 367). Этот же образ поэзии-губки встретим в стихотворении «Весна»: «Поэзия! Греческой губкой в присосках // Будь ты... // А ночью, поэзия, я тебя выжму // Во здравие жадной бумаги» (102, с. 188).
Поэзия - не извержение смысла, а выжимание содержания из формы, как из губки, выжимание смысла из формы при ее сокращении. В другой статье Пастернак определяет поэтический образ как сжатие и уплотнение форм бытия: «Метаморфизм - стенография большой личности, скоропись ее духа» (103, с. 414). Та же идея творчества как сжатия или выжимания развивается и Мандельштамом в «Разговоре о Данте». Анализируя «Божественную комедию» Данте, он выводит концепцию поэтического творчества как «выжимания» формы из содержания. У Мандельштама, как и у Пастернака, возникает образ поэзии-губки, с той разницей, что, по Мандельштаму, то содержание, из которого «выжимается» форма, само
1 Мандельштам писал: «Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова нет, а стихотворение уже звучит.'Это внутренний образ, это его осязает слух поэта» (83, с.503).
есть форма. «Форма ... представляется выжимкой, а не оболочкой, ... форма выжимается из содержания-концепции, которое ее как бы облекает» (83, с. 568).
Исходя из постулируемых обоими поэтами суждений о творчестве, повлиявших в том числе и на прозу, мы исследовали материал, уделяя повышенное внимание форме - форме повествования, тем более, что она отличается от традиционной прозы, не забывая при этом о содержательном аспекте.
По мнению некоторых исследователей, например, Н. Берковского, проза О. Мандельштама и Б. Пастернака по своей форме близка прозе М. Пруста размытостью конкретных зарисовок, преимущественной обращенностью к внутреннему миру человека, подчеркнутым доверием к истине субъективной, и - главное - страстью постижения жизни, прорастающей сквозь все подробности. Это обусловлено общим движением прозы начала XX века, толчком для которого послужил философский контекст эпохи, в последствии приведший к литературе «потока сознания», где фрагментарность и ассоциативность являются характерной особенностью этой прозы.
Конечно, при всех перекличках и родственности ряда черт, проза Мандельштама и Пастернака другая, чем прустовская: другие подробности, иной тонус повествования, другой образ автора, иные отношения с читателем. Пруст если не бесстрастен, то по крайней мере сдержан, русские же поэты в своей прозе более эмоциональны. Они предлагают вступить в особые отношения с текстом, отношения со-понимания, когда читатель догадывается и восстанавливает умалчиваемые или опущенные моменты -лирический подтекст, умение читать «паузы», «проколы», расстояния между ними, внутренние связи, ассоциативные ряды и логические выводы. В общем, так же, как и при чтении стихотворных произведений. Особенно
новаторской, рассчитывающей на достраивание читателем зрительного ряда выглядит проза Мандельштама, которая была сродни экспериментам Ю. Тынянова и В. Шкловского в области синтеза кино и литературы.
Новые возможности поэтического обращения с прозаическим словом еще раньше предложил Андрей Белый. Образцом разорванности образов и эпизодов были его прозаические творения - «Симфонии», «Петербург», «Серебряный голубь». Он стремился преобразовать, интенсифицировать письменную литературную речь. Проза Белого стала первой подобной прозой поэта XX века, повлиявшей на прозаическое творчество многих писателей. Но все же главным в его прозе, как в любой прозе поэта, является перенос тех находок в области языковых средств, найденных и отработанных им в поэтической «лаборатории», в прозаическое творчество. Эти средства (у каждого поэта свои) - фонетические, лексические, фразеологические, синтаксические - привнесли свою особую заряженность, прозаическому языку обычно не свойственную. Характерной особенностью любой прозы поэта являются сгущения, «уплотнения» смыслов. Они оснащают прозу новыми емкостями, несут с собой повышенную энергию мироощущения их автора, а для читателя, имеющего вкус к языкотворчеству, составляют дополнительную прелесть присутствия при эксперименте, не только формальном, но и содержательном. Поэтому прозу поэта считаем необходимым изучать в контексте поэтического творчества ее автора.
С учетом данного обстоятельства, объектом нашего исследования стало поэтическое, прозаическое творчество О. Мандельштама и Б. Пастернака, а также их литературно-критические работы, т.е. практически все творческое наследие поэтов. Предмет исследования - прозаические произведения О. Мандельштама и Б. Пастернака 1920-х годов, как явление, составляющее особую типологическую общность с присущими творчеству
обоих авторов признаками и чертами, которые и определяют такой феномен как проза поэта — особый род художественной и мемуарной прозы.
Важным для нашего исследования представляется также взятый временной период - 1920-е годы, та культурная (и литературная) эпоха, которая в качестве одной из главнейших причин повлияла на поэтов, побудила их писать прозу. Коренные изменения в социокультурном воздухе эпохи, в эстетических литературных взглядах писателей достаточно полно воплотились в их прозаических текстах, где «лирическое «я» объективируется в некоторой степени, «эпизируется», отражая положение личности, находящейся в предельной зависимости от социальной действительности. Общая картина мира — неклассическая по своей сути — сказалась на способах и формах конструирования личностного сознания.
Научная новизна настоящей работы, представляющей собой исследование данного художественного феномена, заключается в том, что:
1) впервые в ней осуществлена попытка сравнить и сопоставить
прозаическое творчество поэтов О. Мандельштама и Б. Пастернака одного
периода создания в таком аспекте;
анализ их прозаического наследия осуществляется в неразрывной связи с их поэтическим творчеством и вписывается в исследование малоизученного явления, как прозой поэта.
сделана попытка показать зависимость способа оформления мысли в прозе и поэзии от социокультурных причин.
Целью диссертации является, таким образом, исследование феномена прозы О. Мандельштама и Б. Пастернака 1920-х годов как прозы поэта, т.е. явления, вызванного к жизни общекультурной ситуацией и глубоко индивидуальной логикой развития художника.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
1) обосновать феномен прозы поэта, определив типологически
сходные признаки в прозе О. Мандельштама и Б. Пастернака 1920-х годов;
2) раскрыть своеобразие прозы двух поэтов, рассмотрев образную
структуру, форму организации повествования, взаимоотношения между
автором, повествователем и героем, средства языковой выразительности;
3)> вписать прозу О.Мандельштама и Б. Пастернака в культурный контекст эпохи, выявить социокультурные условия, побудившие их взяться за прозу.
Методологической базой исследования послужили труды по теоретической поэтике А.А.Потебни, Р.О.Якобсона, Ю.Н.Тынянова, В.Шкловского, Б.В.Томашевского, Д.С.Лихачева, работы в области семиотики культуры М.М.Бахтина, Вяч.Вс.Иванова, Ю.М.Лотмана, работы таких известных исследователей творчества О.Мандельштама и Б.Пастернака, как Ю.Левин, С.С.Аверинцев, М.Л.Гаспаров, К.Ф.Тарановский, В.С.Баевский, С. Н. Бройтман и др. В работе используется структурно-типологический и герменевтический методы исследования. Выбор методологического комплекса согласуется с культурологическим подходом к прозаическому творчеству названных поэтов, позволяющим объяснить причины обращения поэтов к прозе именно в этот период времени. В исследовании также использовался принцип имманентного анализа, который помогает раскрыть особенности художественной системы произведений.
Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы для углубленного изучения творчества О. Мандельштама и Б. Пастернака, для создания картины развития русской прозы 20-30-х годов XX века, куда входила, помимо официальной литературы социалистического реализма, и иная, альтернативная проза, в том числе проза поэта. Основные положения диссертации могут быть
16 включены как в курс лекций по истории русской литературы, так и в спецкурсы, посвященные творчеству обоих поэтов.
Исследование показало, что прозаическое творчество О.Мандельштама и Б.Пастернака возможно разделить на части, взяв за основу деления принцип наличия или отсутствия вымышленного героя в прозе: автобиографическая проза (без героя) и проза с вымышленным героем, при этом в отдельной главе уделив особое внимание истории вопроса. Таким образом, сам материал предсказал структуру работы, которая предполагает наличие трех глав: в первой рассматривается проза поэта в исследованиях отечественных литературоведов, во второй — проза поэта с вымышленным героем, в третьей - автобиографическая проза поэта.
В первой главе исследуется генезис термина проза поэта, рассматриваются мнения исследователей по поводу правомерности выделения данного явления как заслуживающего особого внимания и подробного изучения, а также исследуются социокультурные условия формирования этого феномена.
Во второй главе даются основные характеристики «прозы поэта» с вымышленным героем на материале таких произведений, как «Египетская марка» Мандельштама, «Детство Люверс», «Воздушные пути» Пастернака. Этот тип прозы поэта подразумевает особую форму организации повествования, особые отношения автора с героем, взаимосвязь прозы и поэзии одного автора на уровне средств языковой выразительности, детерминированные принципом поэтической мысли автора.
В третьей главе «Автобиографическая проза поэта» рассматриваются особенности переноса методологии поэтического мышления на автобиографический жанр.
#
*
Исследование, проведенное нами, может стать основой для будущих исследовательских работ, посвященных прозе О. Мандельштама и Б. Пастернака, а также феномену прозы поэта в русской литературе ХХв.
Форма организации повествования в прозе поэта с вымышленным героем
Литература, традиционно разделяясь на стих и прозу, предполагает существование переходных, т.е. наделенных признаками и стиха и прозы, явлений. Еще Б.В. Томашевский отмечал, что «естественнее и плодотворнее рассматривать стих и прозу не как две области с твердой границей, а как два полюса, два центра тяготения, вокруг которых исторически расположились реальные факты... Законно говорить о более или менее стихотворных или прозаических явлениях Из всего этого можно сделать вывод, что для решения основного вопроса об отличии стиха от прозы плодотворнее изучать не пограничные явления и определять их не путем установления такой границы, может быть мнимой...» (127, с.7-8). Р. Якобсон также указывал на то, что «простота классификации», где «по одну сторону проза, по другую - поэзия», не совсем соответствует действительности, т.к. существует «проза поэта, которая не совсем то, что проза прозаика, и стихи прозаика - не то, что стихи поэта: разница является с мгновенной очевидностью» (161, с. 324). Далее исследователь писал: «Горец идет по равнине, ни заслонов, ни провалов на этой плоской поверхности не водится. Сделается его походка трогательно-неуклюжей или обнаружит его великолепную ловкость, заметно, что она для него неестественна, она слишком похожа на шаг танцора: усилие очевидно. Вторично приобретенный язык, даже если он отточен до блеска, никогда не спутаешь с родным. Читая прозу Пушкина или Махи, Лермонтова или Гейне, Пастернака или Малларме, мы не можем удержаться от некоторого изумления перед тем, с каким они совершенством овладели вторым языком; в то же время от нас не ускользает странная звучность выговора и внутренняя конфигурация этого языка. Сверкающие обвалы с горных вершин поэзии рассыпаются по равнине прозы» (161, с.324).
Итак, Р. Якобсон одним из первых заметил явление и дал ему соответствующее название: проза поэта. Он имел в виду всех поэтов, писавших прозу, и Б. Пастернака как наиболее яркого поэта, чья проза напоминает «шаг танцора», т.е. обладает «заметной поэтической звучностью выговора и внутренней конфигурацией». Еще один современник Пастернака, литературный критик К. Локс обратил внимание на его прозу, о которой он писал: "Проза поэта — это может быть и высшей похвалой и крайним порицанием, в зависимости от того, какой смысл вкладывается в это понятие... Мы думаем, что рассказы Пастернака принадлежат к хорошему настоящему виду "прозы поэта" (71, с. 286). Как видим, исследуемое явление было замечено и обозначено именно с появлением прозы Б. Пастернака.
Попытка более подробного осмысления данного явления представлена позднее, во второй половине XX века. Как "особое явление, выдвинутое литературой авангарда на передний план", называл прозу поэта Л. Флейшман (138, с.188). Ю.Б. Орлицкий в своей работе «Стих и проза в русской литературе» предлагает свой взгляд на эту проблему. Он дает «типологию творческих индивидуальностей по их отношению к стиху и прозе» (95, с. 15). Ее крайние полюса составляют «чистые» Поэты и Прозаики - авторы, работающие исключительно в стихе или в прозе (например, А. Блок или Ф. Достоевский), а третий основной тип -синтетический Поэт-Прозаик (А. Пушкин, М. Лермонтов) - автор, одинаково плодотворно осваивающий оба основных типа художественного мышления и соответствующие им формы организации речевого материала. Конкретизируя предложенную схему, Ю.Б. Орлицкий вводит ряд переходных рубрик, среди которых для нас представляет интерес один из подтипов, который называется им так: «Поэт, создающий прозу поэта, т.е. особый род художественной и мемуарной прозы» (95, с. 15). В отдельной главе, посвященной данной проблеме, исследователь, основываясь на анализе прозаического творчества А. Белого, С. Есенина, М. Цветаевой, главным критерием прозы поэта называет ритмическую организованность прозы, т.е. все тот же «шаг танцора», по Р. Якобсону, при этом отмечая тот факт, что «русская литература XIX в. не знает прозы поэта в современном понимании этого слова: стих и проза, поэт и прозаик «разведены» по различным полюсам литературы, а поэзия и проза, безусловно, испытывая постоянное взаимное влияние, тем не менее, сохраняют свою структурную монолитность. Перелом намечается на рубеже веков, когда благодаря появлению русского символизма инициатива вновь начинает переходить в руки поэзии. Именно в это время появляется новая «серия» русских верлибров, активизируется интерес к другим формам, так или иначе синтезирующим стих и прозу в классическом понимании этих понятий; тогда же появляются и первые образцы того, что мы называем теперь прозой поэта» (95, с.36).
Автор, повествователь, герой
Итак, и О. Мандельштам, и Б. Пастернак, предаваясь воспоминаниям и опираясь на автобиографическую память, строят и свое художественное, и свое личностное самотождество. «В автобиографической прозе пишущий становится творцом образа собственного «я», являя его другим, что определяет авторитетность его оценок в тексте, делает их точкой отсчета «в системе определений и характеристик», - пишет Н.А. Николина и подтверждает свои слова высказыванием Н. Бердяева: «Тут субъект слишком заинтересован в своем предмете, относится к нему страстно и пристрастно, склонен к самовозвеличиванию, к идеализации того самого «я», которое так часто бывает ненавистно (92, с. 225). Автобиографическая проза как жанр, отличная от обыкновенной автобиографии как набора жизненных фактов, «обращается к жизненному пути личности как к ее самоосуществлению. Она ищет индивидуальной целостности и создает (или пытается создать) образ «я»; она обнаруживает ощутимость сознания самому себе, конституирующую себя субъективность, схватывающую, объективирующую свою структуру в акте первичной рефлексии» (92, с. 226). Автобиографическая проза как жанр представляет факт самоидентификации и цепь самооценок. Оценивая свои действия, автор предлагает своеобразную интерпретацию собственного «я». К автобиографическому повествованию обращается только такая личность, которая знает, что она собой представляет и чем желает быть, которая выходит за пределы простой единичности и осознает это. Н. Бердяев говорил, что познание себя «есть творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Ценность этого акта определяется тем, насколько он возвышается над временем» (20, с. 8). Употребляя емкую формулу Б.М. Эйхенбаума, можно сказать, что любой акт мемуаротворчества - это всегда "акт осознания себя в потоке истории" (157, с.342).
Самопознание тесно связано с самоидентичностью автора. «В самоидентичности само сознание ясно выражает себя не как самоотнесенность познающего субъекта, но как этическое самоутверждение ответственной личности. Индивидуальная личность проецирует себя в качестве кого-то, кто ручается за более или менее сознательно освоенную историю жизни. В свете приобретенной им индивидуальности он желает быть идентифицированным и в будущем как личность, которую она из себя сделала» (92, с. 88).
Таким образом, жанр автобиографической прозы характеризуется стремлением автора самоидентифицироваться, найти и определить себя как личность, т.е. осуществить свое самотождество. «Самоидентификация человеческого "я" как комплексная деятельность по самоопределению направлена на достижение тождества с самим собой, соотнесения себя как "я" с истинным образом "я" (54, с. 51). Иными словами, поиски себя являются конечной целью процесса самоидентификации в любой форме, в том числе и в автобиографической прозе. Безусловно, этот процесс внутри каждой автобиографии сугубо индивидуальный, но все же в автобиографической прозе О. Мандельштама и Б. Пастернака можно найти некоторое типологическое сходство в их способе осуществить свое самотождество. Но сначала остановимся подробнее на каждом из их автобиографических произведений, на том, как каждый из них идентифицирует себя в них.
Мандельштам в главе о Комиссаржевской в «Шуме времени» говорит: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени... Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, - и биография готова» (96, с. 64). Можно сказать, что Мандельштам определяет себя разночинцем и ищет свое место в истории, проецирует себя сквозь «шум времени». Ж. Бенчич в связи с этим считает, что «Мандельштам почти спонтанно выполнил одно из основных требований, предъявленных историкам основоположником духовно-исторических наук Вильгельмом Дильтеем: истинно историческое знание должно быть переживанием, внутренним опытом исследуемого предмета» (18, с. 156). Таким образом, по мысли исследователя, «Шум времени», в котором общая история становится предметом автобиографической памяти, в своих существенных чертах удовлетворяет дильтеевскому критерию автобиографичности, поскольку Мандельштам совершенно в духе дильтеевского рецепта «приводит в свое сознание все человеческие субстраты и исторические связи, в которые он вплетен», превращая автобиографию в историческую картину. Вплетение исторических картин Мандельштамом в свою автобиографию было отмечено еще его современниками. Н.Я. Берковский писал о мандельштамовскои позиции по отношению к культурно-историческому фону: «Мандельштам воспитан на тех историках культуры, которые с дерзостью и риском подчас, вмышляли в малейший штрих личной жизни грандиозные подробности общего стиля культурной эпохи, которые, портретируя, клали фоновые детали буквально ей на плечи...» (21, с.295). Получается, что Мандельштам намеренно сокращает дистанцию между культурным фоном и фигурой, помещенной на этом фоне, - поэтому связь того и другого ощущается более конкретной и конкретнее становится сам фон.
Но рассматривать автобиографическую прозу О. Мандельштама только как картину эпохи, в которой он возмужал и вырос, было бы недостаточно, поскольку мучительный поиск «разночинцем» своего места в мире является вторичным и производным от поиска и самоопределения своего поэтического бытия. Американский ученый С. Браун считает, что Мандельштама можно было бы сравнить с человеком, зачарованно рассматривающим свой собственный музей восковых фигур, музей своего прошлого, в котором все экспонаты бережно хранятся под стеклом - от Исаковского издания Пушкина, братьев Крупенских, отличных «знатоков вина и евреев», до Эрфуртской программы Карла Каутского.
Автобиографическая проза как поиск художественного самотождества
Появление жанра автобиографии в 20-е годы особенно показательно, поскольку, по мнению Вяч. Вс. Иванова, «в это время впервые ощущается тяга к документу как таковому и к литературе факта, свободной от лжи беллетристики» (52, с. 598). Первый взлет популярности документа имел место после первой мировой и гражданской войн, когда прошел первый интеллектуальный шок, вызванный революцией и возникла потребность осмыслить происшедшее, вспомнить об истоках национальной трагедии. В разной степени к литературе факта в ее вариантах, сближенных с художественным вымыслом, примыкают воспоминания или автобиографические книги, становящиеся в это время популярной литературной формой. Практически все крупные русские писатели — старшие современники или ровесники Мандельштама и Пастернака (И. Бунин, Б Зайцев, И. Шмелев, М. Пришвин и др.) - в середине 20-х годов обращаются к воспоминаниям о своей детской поре, совпавшей со временем первой русской революции. Это литературный фон, на котором книги О. Мандельштама и Б. Пастернака ярко и странно выделялись, фактически сохраняя все черты, присущие доминировавшему мемуарному жанру, но, по сути дела, претендуя не на роль непосредственного «свидетельства очевидца», а на философски-аналитическое и одновременно поэтическое исследование фактов исторической действительности.
Наиболее оригинальные книги в этом жанре, как уже было отмечено, - это «Шум времени» Мандельштама, где подчеркнутая точность имен, фамилий и обстоятельств отличается от их смещенности в его же «Египетской марке» (в ней наличие прототипа у главного героя - Парнока не делает документальной эту прозу с принципиальной установкой на фрагментарность); это «Охранная грамота» Пастернака, представляющая собой попытку передачи биографического опыта метонимическим приемом описания персонажей, особенно повлиявших на автора (Рильке, Скрябин, Маяковский; главки, каждому из них посвященные в поздней автобиографии «Люди и положения», могут служить частичным комментарием к раннему тексту). Лучшие прозаические книги Мандельштама и Пастернака близки, по мнению Вяч. Вс. Иванова, к их же документальной автобиографической прозе (52, с. 477). Эта близость легко объясняется принадлежностью названных произведений к единому явлению, рассматриваемому в данной работе, - типологической общности, называемой проза поэта, которая, как и любое сложное явление, может распадаться на составные части. Так, в предыдущей главе речь шла о прозе поэта, имеющей в основе своей художественный вымысел и главного героя, отличного от автора. В данной же главе анализу будет подвержена автобиографическая проза поэта, основанная на реальных жизненных фактах и имеющая автора в качестве главного героя. Подобное разделение прозы поэта на составные части возможно также на основе автореференциальности.
Понятие автореференциальности дает Д. Ораич-Толич в статье «Автореференциальность как форма метатекстуальности», а также предлагает взять его структуру, которая представляет собой «категориальный семиотический треугольник, состоящий из текста, автотекста и автометатекста» (41, с. 188), за основу типологии при анализе литературного произведения. Способы, которые позволят рассматривать автореференциальность, зависят от того, какой элемент структуры взят за основу, и от соотношения элементов этой структуры.
Данная типология, по нашему мнению, применима к прозе поэта, так как автореференциальность — это «литературно-художественный прием, в котором автор и его поэтика становятся предметом собственного текста» (41, с. 189), что мы и находим в «Египетской марке», «Шуме времени» Мандельштама, в «Охранной грамоте» Пастернака и других прозаических произведениях.
Из предложенных исследователем четырех способов типологии: по виду автотекста; по виду автометатекста; по жанровой принадлежности текста; по соотношениям этих элементов структуры - нас интересует типология по жанровой принадлежности самого автореференциального текста. В зависимости от нее выделяются «три типа автореференциальности: персональная (автореференциальное соотношение устанавливается в таких жанрах, как автобиография, мемуары, дневники, письма и т.п.), эссеистско-научная (в таких жанрах, как эссе, манифесты, программы и т.п.) и художественная (автореференциальность является частью имманентной структуры литературного текста)» (41, с. 189).
Применяя эту типологическую классификацию к прозе поэта, можно выделить в ней художественную автореференциальность: в «Египетской марке» Мандельштама или в «Детстве Люверс» Пастернака, где автор присутствует имманентно, не называя себя, и персональную автореференциальность: в автобиографической прозе Пастернака и Мандельштама, где предметом текста становится сам автор с его впечатлениями и эмоциями, взаимоотношениями с другими людьми.
Автобиография О. Мандельштама «Шум времени» в издании 1925 года охватывает период, простирающийся от самых ранних воспоминаний автора до его «крымского опыта» времен гражданской войны (главы «Феодосия»), Второе издание книги, вышедшее в 1928 году, тематически более цельно, поскольку в нем опущена глава о Феодосии, а повествование ограничено только детством и юностью Мандельштама», - считает Ж. Бенчич в своем исследовании «Шума времени» и «Феодосии» (18, с. 155). «Шум времени» заканчивался примерно на том времени, когда О. Мандельштам начал писать стихи, конец «Феодосии» - временем, когда он отказался от мысли об эмиграции. Действительно, на первый взгляд совершенно самостоятельные произведения «Шум времени» и «Феодосия», вышедшие под одной обложкой в 1925 году, объединены общим авторским замыслом - личными воспоминаниями и являются частями одной автобиографии. В 1929-1930 годах О. Мандельштам создал еще одно автобиографическое произведение «Четвертая проза» (четвертая после книг - «Шум времени», «Египетская марка» и «О поэзии»). По мнению В. Кривулина, она «одна из неразрешимых загадок русской литературы, похожая то на исповедь, то на отрывки незаконченного политического памфлета (63, с. 188).
Б. Пастернак написал два автобиографических произведения «Охранная грамота» (1928-1930) и «Люди и положения» (1957), но в силу существующего между ними большого разрыва во времени написания (почти тридцать лет) они значительно отличаются по структуре, несмотря на то, что в обоих произведениях излагаются одни и те же события в одном и том же промежутке времени. Нас интересует прежде всего «Охранная грамота», поскольку создание ее началось в 1928 и закончилось в 1931 году, чуть позже того времени, когда и Мандельштам писал свою автобиографию.
Личностная самоидентификация в автобиографической прозе Мандельштама и Пастернака
Итак, и О. Мандельштам, и Б. Пастернак, предаваясь воспоминаниям и опираясь на автобиографическую память, строят и свое художественное, и свое личностное самотождество. «В автобиографической прозе пишущий становится творцом образа собственного «я», являя его другим, что определяет авторитетность его оценок в тексте, делает их точкой отсчета «в системе определений и характеристик», - пишет Н.А. Николина и подтверждает свои слова высказыванием Н. Бердяева: «Тут субъект слишком заинтересован в своем предмете, относится к нему страстно и пристрастно, склонен к самовозвеличиванию, к идеализации того самого «я», которое так часто бывает ненавистно (92, с. 225). Автобиографическая проза как жанр, отличная от обыкновенной автобиографии как набора жизненных фактов, «обращается к жизненному пути личности как к ее самоосуществлению. Она ищет индивидуальной целостности и создает (или пытается создать) образ «я»; она обнаруживает ощутимость сознания самому себе, конституирующую себя субъективность, схватывающую, объективирующую свою структуру в акте первичной рефлексии» (92, с. 226). Автобиографическая проза как жанр представляет факт самоидентификации и цепь самооценок. Оценивая свои действия, автор предлагает своеобразную интерпретацию собственного «я». К автобиографическому повествованию обращается только такая личность, которая знает, что она собой представляет и чем желает быть, которая выходит за пределы простой единичности и осознает это. Н. Бердяев говорил, что познание себя «есть творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Ценность этого акта определяется тем, насколько он возвышается над временем» (20, с. 8). Употребляя емкую формулу Б.М. Эйхенбаума, можно сказать, что любой акт мемуаротворчества - это всегда "акт осознания себя в потоке истории" (157, с.342).
Самопознание тесно связано с самоидентичностью автора. «В самоидентичности само сознание ясно выражает себя не как самоотнесенность познающего субъекта, но как этическое самоутверждение ответственной личности. Индивидуальная личность проецирует себя в качестве кого-то, кто ручается за более или менее сознательно освоенную историю жизни. В свете приобретенной им индивидуальности он желает быть идентифицированным и в будущем как личность, которую она из себя сделала» (92, с. 88).
Таким образом, жанр автобиографической прозы характеризуется стремлением автора самоидентифицироваться, найти и определить себя как личность, т.е. осуществить свое самотождество. «Самоидентификация человеческого "я" как комплексная деятельность по самоопределению направлена на достижение тождества с самим собой, соотнесения себя как "я" с истинным образом "я" (54, с. 51). Иными словами, поиски себя являются конечной целью процесса самоидентификации в любой форме, в том числе и в автобиографической прозе. Безусловно, этот процесс внутри каждой автобиографии сугубо индивидуальный, но все же в автобиографической прозе О. Мандельштама и Б. Пастернака можно найти некоторое типологическое сходство в их способе осуществить свое самотождество. Но сначала остановимся подробнее на каждом из их автобиографических произведений, на том, как каждый из них идентифицирует себя в них.
Мандельштам в главе о Комиссаржевской в «Шуме времени» говорит: «Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени... Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, - и биография готова» (96, с. 64). Можно сказать, что Мандельштам определяет себя разночинцем и ищет свое место в истории, проецирует себя сквозь «шум времени». Ж. Бенчич в связи с этим считает, что «Мандельштам почти спонтанно выполнил одно из основных требований, предъявленных историкам основоположником духовно-исторических наук Вильгельмом Дильтеем: истинно историческое знание должно быть переживанием, внутренним опытом исследуемого предмета» (18, с. 156). Таким образом, по мысли исследователя, «Шум времени», в котором общая история становится предметом автобиографической памяти, в своих существенных чертах удовлетворяет дильтеевскому критерию автобиографичности, поскольку Мандельштам
совершенно в духе дильтеевского рецепта «приводит в свое сознание все человеческие субстраты и исторические связи, в которые он вплетен», превращая автобиографию в историческую картину. Вплетение исторических картин Мандельштамом в свою автобиографию было отмечено еще его современниками. Н.Я. Берковский писал о мандельштамовскои позиции по отношению к культурно-историческому фону: «Мандельштам воспитан на тех историках культуры, которые с дерзостью и риском подчас, вмышляли в малейший штрих личной жизни грандиозные подробности общего стиля культурной эпохи, которые, портретируя, клали фоновые детали буквально ей на плечи...» (21, с.295). Получается, что Мандельштам намеренно сокращает дистанцию между культурным фоном и фигурой, помещенной на этом фоне, - поэтому связь того и другого ощущается более конкретной и конкретнее становится сам фон.
Но рассматривать автобиографическую прозу О. Мандельштама только как картину эпохи, в которой он возмужал и вырос, было бы недостаточно, поскольку мучительный поиск «разночинцем» своего места в мире является вторичным и производным от поиска и самоопределения своего поэтического бытия. Американский ученый С. Браун считает, что Мандельштама можно было бы сравнить с человеком, зачарованно рассматривающим свой собственный музей восковых фигур, музей своего прошлого, в котором все экспонаты бережно хранятся под стеклом - от Исаковского издания Пушкина, братьев Крупенских, отличных «знатоков вина и евреев», до Эрфуртской программы Карла Каутского. А в стекле, которое с одной стороны, отделяет писателя от того, что он описывает, отражается, с другой стороны, и образ самого писателя1 (18, с. 158). Это высказывание надо понимать как отражение, проекцию личности автора на