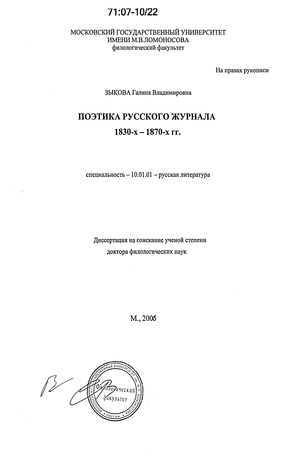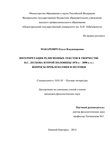Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Репутация журналистики в XIX веке 40
Глава II. CLASS Журналистика как «другая литература» CLASS 81
Глава III. Проблема единства журнала как коллективного произведения 124
Глава IV CLASS Гендерная проблематика в русском журнале, или Провокация вместо проповеди CLASS 159
Глава V. Цитатность стиля 177
Глава VI. CLASS Хронотоп периодического издания CLASS 192
Глава VII. Принцип дискретности в художественных формах вне журнала 214
Заключение 229
Выводы 239
- Репутация журналистики в XIX веке
- Журналистика как «другая литература»
- Проблема единства журнала как коллективного произведения
- Гендерная проблематика в русском журнале, или Провокация вместо проповеди
Введение к работе
Исследование журналистики чаще, чем другие темы, провоцирует современного филолога — даже если он занят прошлым — соотносить это прошлое с актуальным настоящим, видеть в писателях прошлого наших предшественников или обсуждать кардинальную разницу между нами и ними. Журнал, даже литературный, даже старый, трудно просто описывать с объективистской точки зрения.
На Западе журналистика как существенное (или даже определяющее) явление словесности нового времени начинает осмысляться очень рано, уже в XIX веке, самими практиками, авторами и редакторами. Активнее всего это, кажется, делается в англоязычном мире, в соответствии со старым тезисом Сенковского: «Англия есть одно государство в свете, где литературные журналы доведены до высокой степени совершенства; где настоящим образом понимают журнальное искусство...»1.
Репутация журналистики в XIX веке
В отличие от художественной литературы в прямом смысле слова обусловленность журналистики, ее форм и уровня развития имеют не опосредованный, а самый прямой характер. Этим объясняются не только объективные свойства русской журналистики XIX века, но и отношение к ней. Даже значение Гоголя, как известно, представлялось Белинскому сугубо локальным из-за неразвитости и несвободы русского общества; что же касается журналистики, то тем более понятно, что русские литераторы продолжали говорить о «неправильности» (в частности, вторичности) отечественной журналистики даже тогда, когда собственно беллетристика и поэзия уже осознавались как вполне самостоятельная часть европейской литературы. Эта неполноценность русской журналистики, конечно, осознавалась как обусловленная общественными причинами: во-первых, политической цензурой, во-вторых, отсутствием в крепостной России массового и при этом относительно грамотного читателя.
Еще Белинский рисковал жаловаться на несвободу русской публицистики, фатальную для нее: «Фельетон составляет существенную принадлежность всякой газеты. К сожалению, фельетон у нас пока еще невозможен. Что такое фельетон? Это болтун, по-видимому добродушный и искренний, но в самом деле часто злой и злоречивый, который все знает, все видит, обо многом не говорит, но высказывает решительно все, колет эпиграммою и намеком, увлекает и живым словом ума и погремушкою шутки... Где ж ужиться с фельетоном русской публике, которая так церемон на, серьезна, чопорна, с таким избытком одарена великодушною готовностию благоприлично скучать...»
Об элитарности русской печати как о большом пороке много говорят в шестидесятые годы: «Если мы хотим писать для большинства — не говорю уж мужиков, а чиновников, попов и разного народа, грамотного и желающего знать, что делается на белом свете, — мы никак не можем идти битой колеей... Надобно отбросить совсем все приемы и предания нашего журнализма, чтоб что-нибудь сделать полезное для других и для себя, а это очень, очень трудно. Наша литература до сих пор еще салонный барин в белых перчатках и парижском фраке, а масса среднего круга читателей — совсем не такая»70. И действительно, русский журнал долго сохранял парадоксальную для жанра элитарность. Тиражи русских журналов исчислялись в лучшем случае несколькими тысячами во времена, когда в Англии и Франции — уже сотнями тысяч. О массовом характере западной журналистики, о масштабах влияния, например, «Таймса», Сенковский подробно и часто рассказывает русскому читателю как о чем-то достойном восхищения и подражания. Напротив, «Современник» в конце 1840-х — начале 50-х столь же подробно описывает скандальные судебные процессы, сопровождающие появление небывало многотиражных газет во Франции, и пытается отрицать очевидное существование демократической прессы в Англии . Специфической элитарностью не только русской «высокой» литературы, но и журналистики объясняется и некоторая брезгливость, с которой русские критики-журналисты иногда говорили даже о Диккенсе. Чуть ли не целиком перепечатывая выпуски диккенсовских «Круглого года» и «Домашних слов», «Современник» одновременно сокрушался о том, как портит современную английскую прозу угождение вкусам массовой публики, грубые, гротескные, неправдоподобные краски сенсационного романа и вульгарная сентиментальность
Журналистика как «другая литература»
Упорное нежелание признавать журналистику законной частью литературы объясняется не только снобизмом, отвращением к коммерциализации культуры и т.п. Некоторые конститутивные черты журнального текста противоречили господствовавшим представлениям о самой сущности искусства. Уже говорилось о том, как Достоевский защищал журналистику, заменившую тип фактом, а правдоподобие сенсационностью. У журнала есть и другие родовые черты, делающие его в России XIX века не только важным явлением словесности и основным местом публикации классического романа, но и необходимой альтернативой беллетристики, противоположностью беллетристики, вместе с ней образующей целое литературы.
Разумеется, понятно, что такая противоположность вполне относительна. Известно, что в XIX веке журнал часто оказывался экспериментальным полем формирования новой поэтики. Специально журнальные приемы порождали новые явления в беллетристике, и «литература факта» влияла на «вымысел». Но здесь я хотела бы поговорить не об этом — реальном и постоянном — взаимодействии литературы и журнала, а прежде всего уточнить содержание двух концептов, которые могут быть определены через свое отличие друг от друга. Говоря о журнале, журналистике как особом художественном языке, я буду иметь в виду: 1) собственно журнальные жанры, т.е. немыслимые вне контекста периодической прессы, прежде всего фельетон в широком смысле этого слова, публицистические статьи, например, литературная критика (в интерпретации Добролюбова, 2) влияющие не только на восприятие, но и на самый состав беллетристического произведе ния (прежде всего романа) условия публикации в периодике (т.е. в определенном контексте и дробно).
Хотя беллетристика XIX века, как известно, преимущественно печаталась на страницах журналов, существовала отчетливо ощущаемая разница между «почтенными романистами» вроде Толстого или Тургенева и беллетристами-«фельетонистами» вроде Достоевского. Как известно, на русском литературном жаргоне даже романист, пишущий специально для журнала, заранее учитывающий, как именно текст будет дробиться на выпуски, назывался «фельетонистом»; Диккенс в предисловии к одному из своих романов называет себя "periodical essayist" (хотя и имеет при этом в виду себя как автора романов, а не статей!), противопоставляя себя тем, кто неспешно пишет книги, спокойно доводя их до совершенства.
В эпоху расцвета русской журналистики (1840-е - 60-е гг.) доминирующей формой художественной литературы в традиционном смысле слова является повествовательная проза, реалистическая, как ее потом назовут, т.е. создающая иллюзию «второй реальности».
По поводу слова «реалистическая» приходится объясниться, гипотеза о существовании большого стиля, который обычно называют «реализмом», как известно, сейчас активно критикуется, как и вообще представления об истории литературы как о последовательной смене направлений. Старая концепция не столько оспаривается, сколько отбрасывается как признак дурного тона, к научной гипотезе предлагают отнестись совершенно как к художественному приему, она точно так же автоматизируется148. Что никакого «реализма» не было, часто доказывают, демонстрируя нереалистические черты творчества Пушкина. Вспоминают, например, статью Якобсона «Пушкин в свете реализма» (хотя на языке Якобсона слово «реализм» обозначало не исторически конкретный большой стиль, а современную ложную эстетическую догму, игнорирующую неустранимую условность всякого искусства). Почему-то даже не обсуждается естественная возможность: реализм как большой стиль мог существовать, а Пушкин был художником другой эпохи. Кажется, современная филологическая мысль оказалась в отрицательной зависимости от советской официозной традиции, которая так яростно отрицается. И в советской традиции, и в современном литературоведении реализм воспринимается не столько как историческое явление, т.е. большой стиль европейского искусства 40-х — 70-х гг. XIX века, сколько как идеал, истинный или мнимый. Кроме этого, современные филологи, оспаривающие теорию стадиального развития литературы, в качестве компрометирующего обстоятельства указывают, что у этой теории есть авторы, немецкие романтики.
Проблема единства журнала как коллективного произведения
Как известно, периодическая печать предполагает сосуществование и взаимодействие противоположных принципов: с одной стороны, требует пестроты и разнообразия, с другой — некоего единства, общего стиля («house style»). На теоретическом уровне это жанровое своеобразие журналистики констатировалось многократно, хотя в исторических исследованиях в первую очередь описывается именно «общий стиль». Менее изучено то, как конкретный журнал в конкретных исторических обстоятельствах работал с формообразующим противоречием, что демонстрировалось преимущественно: необходимость единства или плодотворность разнообразия.
О том, что есть разница между журналом и аморфным сборником, в России выразительно говорили даже люди сугубо академического склада ума еще в начале XIX века: библиограф Ана-стасевич писал Евгению Болховитинову, что без объединяющего смысла журнал превращается в «могилу».
Любомудры в соответствии со своим пафосом жесткой систематизации культуры в первое время издания «Московского вестника» пытались принципиально отказываться даже от беллетристики как противоречащей серьезному тону философического журнала (на необходимости повестей в письмах Погодину на-стаивали Пушкин и Рожалин ). Искомое единство журнала На деждин представлял себе так: «журнал преимущественно должен обрабатывать свою догматику— философию изящного... Он должен иметь твердую и основательную теорию, полную и цельную систему»216 (не трактат, не лекционный курс — журнал!).
Свой тип единства журнала попытался предложить Сенков-ский: «в противовес прежним дилетантским представлениям о журнале стремился утвердить единый стиль, единый, цельный ансамбль всего издания...»217. Однако, жестко редактируя чужие тексты для того, чтобы выстроить этот ансамбль, Сенковский ог-ранизовывал и необходимую для журнала пестроту и разнообразие, трактуя одни и те же темы и патетически, и издевательски.
В шестидесятые годы, во времена относительно свободной идеологической полемики и размежевания позиций, единство журнала всё чаще понимается как единство почти партийное, как коллективная позиция единомышленников (что внешне проявляется в коллективном авторстве и уже обсуждавшейся неподписанное передовых статей, обозрений). Это представление о необходимости партийного единства журнала проявляется даже в мелочах, например, в том, как «Свисток» 1859 года пародирует принцип «сообщенных материалов» и вообще «объективизма». Добролюбовские «Письма из провинции» сопровождались шутовскими уверениями редакции: «Помещая дерзкое и нимало не остроумное письмо г.Свиристелева, мы представляем на суд пуб-лики только его личное мнение...» . Добролюбов, как когда-то Мерзляков, отчасти прятался за псевдонимом (свиристелевские статьи не только резкие, но и «неприличные» — например, письмо первое о бессмысленном и ненужном, с точки зрения Добролюбова, публичном «протесте» группы писателей против антисемитизма). Однако «Свисток» здесь к тому же высмеивает и традиционный журнальный объективизм, старую манеру печатать настоящие, не мистифицирующие сообщенные материалы: в «Современнике» к тому времени уже не было места «личному мнению».
И дело не только в постоянстве позиции журнала; каждый отдельный номер видится и составителям, и рецензентам как своего рода цельный текст, скрепляемый прежде всего «критикой», «ру-ководящей статьей» ; если такого смыслового центра не обнаруживается, рецензенты не знают, как читать такой журнал, потому что воспринимать разные публикации по отдельности они не привыкли: «Июльская книжка «Отечественных записок» до такой степени лишена всякого единства, что я решительно не имею возможности остановиться, как я это делаю обыкновенно, на какой-нибудь наиболее характерной статье, и в ее идее и тенденции уловить общую идею целой книжки...»
Гендерная проблематика в русском журнале, или Провокация вместо проповеди
В современных исследованиях викторианского журнала почти непременно можно встретить обсуждение тендерных проблем, и, видимо, не только потому, что это идеологически «правильно» и модно, но и потому, что к этому располагает журнал как таковой: во-первых, он всегда выстраивает, определяет свою аудиторию, в том числе и по тендерному принципу; во-вторых, потому, что сама журналистика чаще, чем книжная «высокая» литература, обсуждает подобные проблемы как привлекательные для «широкого читателя».
Что касается истории русской литературы, то эта тема почти совершенно монополизирована феминистской критикой, причем в ее раннем, наиболее примитивном изводе. В старых журналах, особенно в тех, которые имели советскую репутацию «реакционных», усматривают патриархатный террор и ничего больше. Вот взятые наудачу примеры предвзятого толкования, не учитывающего исторического контекста, предполагающего расстановку сил (и значение слов) извечными и не меняющимися. «Само слово «поэтесса» и обозначало женщину-поэта, и указывало на ущербный характер ее творчества по сравнению с мужским. Критики обычно использовали такие снисходительные слова, как «искренняя», «милая» и «скромная», — т.е. слова, которые нико гда не появлялись в описании поэзии мужчин» . Между тем, как известно, слово «искренность» на языке критиков середины XIX века — одно из ключевых и наиболее частых в разговоре о послепушкинской поэзии, как женской, так и мужской. А.В.Дружинин, рецензируя «Джен Эйр», якобы «отказал женщине в праве на социальный протест». Слова критика: «Женщины, по моему мнению, на то и созданы в свете, чтобы мириться со всякой действительностью и любить всякую действительность, — а если им от Бога дана сила, вроде силы нашей писательницы, — то и мирить с нею своих собратий,» — комментируются почти комическим образом: «как следует из контекста, речь идет именно о женской половине «собратий»281. Политическая позиция Дружинина в расчет не берется, предполагается, видимо, что «протест»— безусловная ценность, и право на него Дружинин оставляет себе и мужчинам вообще; между тем, как известно, для либерала Дружинина «любить всякую действительность»— не участь слабого, а правильная позиция.
«В 1843 году в «Библиотеке для чтения» опубликована анонимная статья о Жорж Санд, написанная критиком, которая берет на себя функции «доктора», ставящего социальный диагноз, или «представителя полиции нравов»... Статья начинается описанием анекдота о случайном знакомстве с «пифониссой» и «страшной Лелией», хотя при ближайшем рассмотрении автор увидел женщину «малого роста, отрадно полную телом, но совсем не купечески жирную». Дальнейшее описание полностью порнографическое, то есть автор сосредоточенно-оценочным взглядом озирает тело и наряд романистки... Фельетонная развязность рецензента, доходящая до неприличия, — это, конечно, форма унижения и сексизма по отношению к эмансипантке: она недостойна «приличного слога», в результате анализ ее творчества подменен разговором о ее теле и сексуальном опыте»282. Если учитывать журнальный контекст, многое даже и в приведенном выше отрывке, действительно грубом, окажется не совсем таким, каким оно представляется интерпретатору. Даже стремление продемонстрировать неуважение, описывая тело и подробности быта, в контексте «Библиотеки...» лишается специально сексистского характера: так «Библиотека» поступала не только с Жорж Санд, но и, например, с Жаненом и Бальзаком. Сосредоточенность на «сексуальном опыте» — это для Сенковского не столько способ говорить о женщинах в литературе, сколько позиция самой Жорж Санд. «Библиотека...» осуждает не только характер этого опыта, но именно саму сосредоточенность на нем. В тех случаях, когда журнал Сенковского не просто ерничает по поводу Жорж Санд, а обсуждает ее идеи, он упрекает ее не только за пресловутую безнравственность, а и за то, что она сводит вопрос о свободе современной женщины к свободе половых отношений, адресуясь только к молодым и привлекательным, сужая и обедняя жизнь женщины, богатую и другими интересами, несводимыми к любви. См. в статье «Школы в нынешней французской словесности»: «Какой жребий готовите вы женщине? Любовь, — то есть вещь, которая родится в пятнадцать лет, умирает в тридцать, и отвратительна ранее и позже этого? Женщина, какою вы ее себе воображаете, какою хотят ее сделать, жила бы, таким образом, только пятнадцать лет...