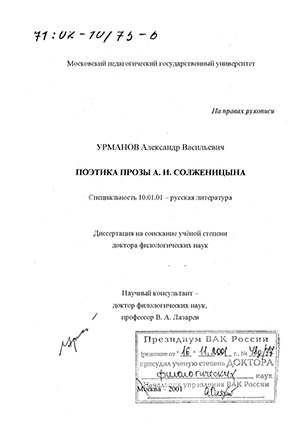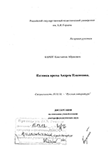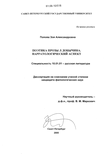Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Своеобразие художественной концепции мира и проблема творческого метода а. солженицына
1.1. Теоретические аспекты проблемы метода 15
1. 2. Основные методообразующие доминанты художественной концепции бытия А. Солженицына 22
1.3. "Социальный" или "идеальный"? (к спорам о природе солженицынского реализма) 26
1. 4. Структур! художественного мира и особенности мето да (о традициях христианского средневекового искусства в рас сказе "Матрёнин двор") 39
1. 5. О функции "модернистских" приёмов в исторической эпопее "Красное Колесо" 73
1. 6. Постмодернистская концепция бытия и творчество Солженицына 85
Глава II. Структура и формы повествования в прозе а. солженицына (к проблеме полифонизма)
2. 1. О функции рассказчика в структуре повествования от первого лица 93
2. 2. Проблема полифонизма и роман "В кр}те первом". Субъектные и внесубъектные формы выражения авторского сознания в главах о Сталине 10
2. 3. Образ автора как нарративно-смысловой центр исторической эпопеи "Красное Колесо" 12
2. 4. Своеобразие повествования в "обзорных" главах
2. 5. Многообразие форм выражения точки зрения автора в главах с различными типами повествования 149
2. 6. Особенности организации повествования в "экранах" 158
2. 7. Акториальное повествование в "моногеройных" главах "Красного Колеса" 171
2. 8. Нарративная организация в "ленинских" главах эпо пеи 176
2. 9. Ирония как форма выражения идейно-эстетической оценки в главах о Керенском 182
Глава III. Образ мира в художественном слове солженицына
3. 1. Художественное слово как элемент поэтики 195
3. 2. Роль многозначного слова в формировании художественной модели мира 201
3. 3. Способы актуализации художественного слова 217
3. 4. Эстетическая значимость фоносемантических свойств слова 230
Глава IV. Предметный мир
4. 1. О функции предметных образов в художественном произведении 251
4. 2. Предметный мир повести "Один день Ивана Денисови ча" 253
4. 3. Структура и иерархия "вещных полей" в рассказе "Матрёнин двор" 268
4. 4. Быт как форма воплощения "устойчивых" свойств на ционального бытия в эпопее "Красное Колесо" 281
4. 5. Бытовое и надбытовое в предметах домацррго инте 4
рьера 289
4. 6. Интерьер как средство идеологической характеристики персонажа 297
Глава V. Символ как форма воплощения авторской концепции бытия
5. 1. Символика прозы А. Солженицына как системное единство 308
5. 2. О функции символических образов в структуре реали стического повествования 319
5. 3. Символика солнечного света 327
5, 4. Символ колокольного звона 334
5. 5. Образ "семячек" как бытовая подробность и символическое обобщение 339
5. 6. Мотив разрубания, рассечения, раскалывания 347
5. 7. Символический мотив "дня отдыха" 363
Глава VI. Сфера
6. 1. Причина обращения автора к "прямым" формам воплощения идей 378
6. 2. Опора на философские авторитеты 387
6. 3. Идейный "радикализм" и партийная идеология в изображении Солженицына 394
6. 4. Воплощение идей в персонажах 411
Заключение 428
Примечания 433
Список использованной литературы
- Структур! художественного мира и особенности мето да (о традициях христианского средневекового искусства в рас сказе "Матрёнин двор")
- Образ автора как нарративно-смысловой центр исторической эпопеи "Красное Колесо"
- Роль многозначного слова в формировании художественной модели мира
- О функции символических образов в структуре реали стического повествования
Структур! художественного мира и особенности мето да (о традициях христианского средневекового искусства в рас сказе "Матрёнин двор")
Определение специфики хзэдожественного метода того или иного автора является одной из первоочередных задач любого исследователя, так как даёт ключ к постижению основных принципов и закономерностей поэтической системы писателя, помогает определить его место в общем контексте русской и мировой литературы. Как это ни парадоксально, но такого "ключа" к творчеству А. Солженицына как будто не существует. Точнее, они предлагаются в таком большом и разнообразном "ассортименте", что выбрать подходящий, единственно правильный довольно затруднительно.
Для начала приведём два очень характерных высказывания о методе писателя, имеющих взаимоисключающий характер: "Направление, выбранное Солженицыным, - архаика"5; "Солженицын сугубый новатор, которого упорно пытаются читать как архаика"6.
Об "архаичности" Солженицына обычно говорят те, кто считают его наследником традиций русского реализма XIX века. В наши дни само слово "реализм" (без наукообразных довесков типа мета-, то-, пост-) воспринимается иногда как анахронизм, как пережиток тоталитарной эпохи и даже как нечто несуществующее. «В каком-то смысле реализм - это антитермин, или термин тоталитарного мышления, - утверждает В. П. Руднев в своём "Словаре культуры XX века". - Настолько нелепый термин, что данная статья написана лишь для того, чтобы убедить читателя никогда им не пользоваться»7. Что ж, совет Руднева мог бы оказаться полезным, но только в том случае, если бы реализм действительно исчерпывался той незамысловатой формулировкой, которую даёт автор "Словаря...": "Реализм - это направление в искусстве, которое наиболее близко изображает реальность". Но в том-то и дело, что реализм - феномен слишком сложный и многогранный, чтобы его можно было свести к одной функции - в данном случае к функции "отображающего зеркала". А. Ф. Лосев давно уже высказал на этот счёт совершенно справедливую мысль: "Что же касается определения реализма как отражения действительности, то это определение и устарело и потеряло свой смысл"8. Произведения Солженицына реалистичны, но это не означает, что их следует рассматривать лишь как простое "отражение" реальной действительности, как иллюстрации к многострадальной истории России. Художественный опыт автора "Матрёниного двора" и "Красного Колеса" убедительно доказывает, что и в XX столетии реализм по-прежнему остаётся универсальной эстетической системой, способной всесторонне объяснить мир и человека в нём, охватить бытие во всей его полноте и сложности; что реалистический метод имеет поистине безграничные возможности не только в изображении конкретных реалий повседневного быта, в социальном анализе, в показе человеческих характеров и судеб, в охвате глобальных исторических процессов, но и в осмыслении сущностных, универсальных законов жизни.
С другой стороны, автора "Словаря культуры XX века", высказывающего чрезвычайно упрощённые и пристрастные суждения о реализме, в какой-то мере понять можно. Приходится констатировать, что основательно разработанной, отвечающей современным требованиям науки концепции реалистического метода всё ещё нет, что типология и поэтика реализма (особенно в применении к творчеству писателей XX столетия) остаются малоизученными проблемами. Прискорбно, но факт: научной модели реализма как целостной системы основополагающих принципов художественного отражения действительности, применимой для объяснения многообразных литературных явлений XIX-XX веков, до сих пор не существует. Причин тому несколько. Во-первых, не могла не сказаться чрезмерная идеологизация и вульгарная социологизация, которыми до недавнего времени сопровождалось изучение практически всех эстетических явлений, в том числе и реализма. "Формулу" реалистического художественного мето 18
да невозможно вывести, не уяснив в полном объёме своеобразия лежащей в его основании концепции бытия, не принимая во внимание всех её основных свойств и параметров. Тенденциозный идеологический подход к решению данной проблемы существенно затруднял саму возможность изучения таких сторон и свойств этой концепции, которые выходили за пределы марксистской ортодоксии или, тем более, принципиально расходились с ней. По справедливому замечанию В. Г. Власова, интерпретация реализма как метода, являющегося эстетическим эквивалентом примитивно истолковываемого материалистического мировоззрения, оборачивалась тотальной социологизациеи, недооценкой специфической внутренней природы художественного творчества и почти полным игнорированием "универсальных" свойств реалистической концепции бытия9. Это и приводило к созданию упрощённых представлений о природе реализма.
Ещё одна причина, не позволившая создать обобщённую концептуальную модель реализма, заключается в том, что её разработка велась преимущественно на материале русской классики XIX века (причём и в этом случае одни литературные явления преподносились в гипертрофированном виде, а другие, напротив, недооценивались или вовсе игнорировались), без Зачёта тех изменений, которые происходили в недрах реалистической эстетики и поэтики в следующем столетии.
Образ автора как нарративно-смысловой центр исторической эпопеи "Красное Колесо"
В представлении героев, перед ними не просто деревенский ландшафт, а подлинная, исконная Россия, образ их родины: "- Так это - Россия? Вот это и есть - Россия? - счастливо спрашивал Иннокентий" (I: 274). Русская земля, которая предстаёт перед их взорами, изуродована, растерзана какой-то чудовищной по разрушительности силой (гізрьгта, искролісана); изгажена, замусорена (грязь, вонь, нечистоты); поражена, обезображена неведомой болезнью (изувеченная, израненная, больная, чудовищные струпья, свинцовые загноины); на ней нет никакого порядка (разбросано, покинуто). Итак, в описании колхозной деревни можно выделить четыре семантически близкие группы слов и словосочетаний со следующими значениями: растерзанности, загрязнённости, беспорядка и поражённости болезнью. Во всех выделенных по тематическому принципу лексических группах актуализированы не только прямые номинативные, но и переносные значения. Автор идеологически заострённо воспринимает уродливые черты колхозной реальности, придавая им обобщённо-символический, онтологический характер. Конкретное, частное воспринимается как проявление сущностного. Дорога не просто "изрыта", "искромсана", а искромсана "непоправимо, до конца веков". Герои видят не столько материально-предметный беспорядок, сколько онтологический хаос. При подобном ракурсе зрения даже облупленные сельхозагрегаты "с хоботами, жерлами, зацепами" воспринимаются не только как обычные машины, но и как апокалиптические чудища.
В данном случае можно говорить о принципиальной двойственности изображения - отчасти реалистического, отчасти символического. Конечным результатом подобной стилевой двойственности становится двупла-новость самой изображаемой действительности. С одной стороны, это вполне реалистические по стилю картины колхозной действительности послевоенного времени, местами почти натуралистические зарисовки деревенского пейзажа. С другой, бытовая и социально-историческая конкретика не мешает прочтению этой главы в обобщённо-символическом или даже мифологическом ключе. Изображённая Солженицыным картина имеет не только конкретно-исторический, социальный, но и "эсхатологический" (а иногда почти "апокалиптический") характер, то есть в каком-то смысле является литературной проекцией эсхатологического мифа - мифа о торжестве "хаоса" над "космосом", о временном искажении красоты и гармонии мира "демоническими" силами. Прекрасное в художественном мире "Круга первого" деформировано, обезображено, осквернено вторжением социального зла, приобретающего в идейно-смысловом контексте романа обобщённо-символический характер и выступающего как образ хаоса, как антиномия сотворенного Богом совершенства.
В явлениях эмпирической действительности Солженицын усматривает онтологические свойства. "Онтологизация" изображаемой действительности достигается прежде всего через многократное повторение экспрессивных идеологически значимых деталей и образов, предельная концентрация которых на ограниченном текстовом пространстве является главным средством актуализации переносного, обобщённо-символического значения.
Второе важнейшее средство актуализации "онтологических" значений - приём контраста. Образ растерзанной и обезображенной колхозной деревни дан в идейно-смысловом и композиционном обрамлении прекрасного среднерусского пейзажа - "сияющего", "обширного", "объёмного" простора. Слово простор (на протяжении четырёх страниц автор употребляет его одиннадцать раз, причём в последнем случае с прописной буквы) тоже вбирает в себя разные значения - и прямые, и переносные. Простор - это не только горизонталь, плоскость, "свободное обширное пространство", "свобода, раздолье" в пространственном смысле38, но и воплощённая красота и гармония, бесконечный и вечный Божий мир, устремлённая к небу вертикаль. Выразительная деталь: головы Иннокентия и Клары, бредущих среди простора, "запрокинуты к небу" (I: 27З)39.
Таково в упрощённом виде различие между социально-аналитическим методом Ф. Абрамова и других "социальных" реалистов и, с другой стороны, в значительной степени "знаменательным", "символическим", "идеальным" реализмом автора "Круга первого". Для А. Солженицына, в отличие от названных выше писателей, важно не только изобразить социальный "срез" жизни, но и создать масштабный по ёмкости обобщения символический образ бытия.
Чаще всего критики и историки литературы говорят об "осознанном следовании традициям русского классического реализма"40. Иногда твёрдая ориентация А. Солженицына на русскую классику вызывает упрёки в архаичности, старомодности, вторичности. Доходит и до откровенных издёвок. «Александр Исаевич Солженицын - гениальнейший русский актер нашего времени, - в ёрническом тоне пишет известный "парадоксалист" Б. Парамонов. - Роль, в которой он выступает, - ВПЗР: великий писатель земли русской. В сущности, Солженицын стилизатор, он перепевает темы Толстого и Достоевского (гарантия величия русских). От Толстого морализм, от Достоевского каторга. И морализм, и каторга те же, что у Достоевского и Толстого, - не страшные, девятнадцатого века. Он пугает, а мне не страшно ... И в своих романах и рассказах Солженицын не экзистенциальный свой опыт передавал, а талантливо процитировал - сыграл, представил - классического русскую литературу»41.
Роль многозначного слова в формировании художественной модели мира
Б. О. Корман писал по поводу образа Наполеона в "Войне и мире" Толстого: "Это не просто Наполеон; это Наполеон, увиденный носителем речи. Главное здесь - не столько герой сам по себе, сколько отношение к герою того, кто о нём рассказывает. Отвращение к нравственной (точнее, безнравственной) позиции героя, возмущение его самовлюблённостью -всё это не приняло здесь формы прямых суждений и высказываний, а материализовалось в деталях портрета"47. Нечто подобное происходит и в романе "В круге первом". В портретных описаниях Сталина и некоторых других персонажей произведения Солженицына не только "воссоздаётся" их облик, но и выражается (в косвенной или прямой форме) отношение к ним автора. Потому и предстаёт "вождь всех народов" в романе Солженицына как существо исключительно гадкое, патологически жестокое, мстительно-злобное, аморальное, "с низкопокатым назад лбом питекантропа".
Впрочем, Солженицын и не скрывал того, как создавался этот образ: "Я считал: пусть пожнёт Сталин посев своей секретности. Он тайно жил -теперь каждый имеет право писать о нём всё по своему представлению (выделено нами. - А.У.). В этом право и задача художника: дать свою картину, заразить читателей"48. Не будем спорить о том, удалось ли писателю "заразить" читателей своим отношение к Императору Земли, но вот в том, что он "даёт свою картину", выстраивает образ Сталина "по своему представлению", сомневаться не приходится. Более того, очевидна и изначальная установка Солженицына - абсолютное развенчание Сталина, полное его "уничтожение". В заметках "Приёмы эпопей", комментируя роман "Истоки", писатель упрекнул М. Алданова за то, что тот "несправедлив к цайо и недоброжелателен", что Александр II "не взят на глубине и не истолкован достаточно ... В изображении Алданова он примитивен"49. Но подобный упрёк можно адресовать и автору сталинских глав "Круга первого" . "Типичная агитка", - писал об этих главах А. Е. Краснов-Левитин, полагая, что "автором движет ненависть"50. Отвергая первое определение ("агитка"), следует признать, что автору романа действительно не удалось (или не захотелось) скрыть своё вполне определённое отношение к персонажу. Всё это трудно примирить с позицией Бахтина, доказывавшего, что "в диалоге уничтожение противника уничтожает и самую диалогическую сферу жизни слова"51. По определению учёного, "спор, где важнее одержать победу над противником, а не приблизиться к истине" - это спор не полифонический, а "риторический"52.
Одной из самых важных форм выражения отношения автора к герою является контраст. Иногда контрастное сопоставление даётся в прямой форме, выражается на повествовательном уровне. Это те случаи, когда сам нарратор, обычно в пределах одной фразы, но иногда и на более протяжённом отрезке текста, "сталкивает" созданные советским искусством и официальной пропагандой мифы о Сталине с реальностью (то есть с "объективным" авторским видением). Самый выразительный пример подобного рода - портретное описание героя в 19-й главе: "А он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными) уже редеющими (их изображали густыми) волосами; с рытвинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшею кожной сумочкой на шее (их не рисовали вовсе) ... " (I: 94). На каждый пропагандистский "тезис" автор в скобках даёт свой "антитезис". В "полифоническом" романе "В круге первом" действует тот же принцип, что и в монологическом художественно-документальном "Архипелаге ГУЛАГ", где пропагандистским штампам типа "Великий Отец", "Великий Рулевой" автор противопоставляет своё видение: "маленький рыжий мясник", "с придавленным низким лбом", "низкорослая рябая личность" и т. п.
По словам М. М. Бахтина, полифонический "герой Достоевского не объектный образ, а полновесное слово, чистый голос; мы его не видим, мы его слышим"53. Персонаж Солженицына, напротив, является одновременно и субъектом повествования (в большей степени субъектом сознания) и объектом авторского изображения - то есть субъектно-объектным образом. Читатель не только слышит героя, но и видит его, причём уровень фокали-зации (зрительной перспективы) явно не совмещается с "голосом" и сознанием актора - "объективно" показываемая автором жизнь Сталина контрастно опровергает, "разоблачает" слово героя о самом себе и о мире.
В других случаях, когда повествователь сопоставляет "наполеоновские" самооценки героя с реалиями его кунцевского бытия, контраст выражается не столь явно и требует от читателя самостоятельных наблюдений и выводов, однако позиция автора всё же угадывается и здесь. Повествователь подчёркивает несостоятельность претензий героя на величие и мировое господство, помещая "Императора Земли" в тесное и замкнутое пространство его добровольной тюрьмы: "Сильно сгорбившись, путаясь в длинных полах халата, шаркающей походкой владетель полумира прошёл во вторую узкую дверь, не различимую от стены, опять в кривой узкий лабиринтик, а лабиринтиком - в низкую спальню без окна, с железобетонными стенами" (I: 143). Эффект контраста возникает за счёт того, что автор использует здесь не нейтральные антропонимы "Сталин", "Джугашвили", а семантически экспрессивную метонимию "владетель полумира", которая и вступает в смысловую оппозицию с такими выражениями, как "узкая дверь", "узкий лабиринтик", "низкая спальня" и т. д. Более того, со словосочетанием "владетель полумира" начинает контрастировать и описание внешности героя.
О функции символических образов в структуре реали стического повествования
Так, "ленинская" 43-я глава второго "Узла" начинается с подробнейшего воспроизведения переживаний героя по поводу неудобств, которые причиняет ему племянник Розалии Землячки - вечно голодный молодой человек, отнимающий пустыми разговорами время и "объедающий" Ленина: "А и это при бюджете Ульяновых тоже недопустимая нагрузка, улупит два яйца да ещё четыре бутерброда" (КК IV: 93). На протяжении двух страниц текста "лохматый оборванец", способный запросто "улупить" несколько ульяновских бутербродов, всецело занимает внимание главного героя, фактически заслоняя собой всё остальное. Вождь большевиков всерьёз поглощён проблемой отстранения назойливого племянника "пламенной революционерки" от бесплатных домашних обедов и завтраков: "Сейчас, уходя, сказал Наде: ни в коем случае не кормить, скорей отвыкнет!"
В следующей главе обыгрывается один из сквозных мотивов, пронизывающих всё творчество Солженицына - о "райских" условиях царских тюрем и ссылок: солженицынский Ленин, проживающий в благополучном европейском городе, мечтательно вспоминает о своей сибирской ссылке: "То ли было в Шушенском! И натоплено, и наварено, и нажарено, на неделю баран, разносолов кадушки, дупеля, тетерева на столе, молоком залейся, и до блеска всё вымыто девчёнкой-прислугой" (КК IV: 124). В этой же главе Ильич ностальгически вспоминает о тифлисском "эксе" (и не в первый раз, см. 22-ю главу "Августа Четырнадцатого": КК. I: 211-212), а также о "несостоявшемся русском Бебеле" - Романе Малиновском, который оказался агентом охранки (в 15-й главе четвёртого "Узла" автор ещё раз "заставит" Ленина вспомнить о чрезвычайно симпатичном ему провокаторе). В произведении Солженицына это едва ли не единственный случай, когда вождь большевиков, неустанно проклинающий не только всех своих политических врагов, но даже и соратников по партии, не жалеет восторженных слов и оказьшает абсолютное доверие, хотя оснований для этого нет никаких: "По буржуазным понятиям было у него так называемое уголовное прошлое - несколько краж, но это только оттеняло его пролетарскую непримиримость к собственности, да и яркость натуры. И хотя чересчур подозрительные товарищи стали клепать на него - Ленин только утверждался в доверии" (КК IV: 112). Эпизод этот заставляет вспомнить аналогичный приём "самодискредитации" персонажа, который Солженицын использовал в романе "В круге первом". В этом произведении патологически недоверчивый Император Земли откровенно "признаётся" читателям, что за всю свою "безошибочно-недоверчивую" жизнь он доверился только одному человеку - Гитлеру. Герой, точка зрения которого доминирует в соответствующей главе, как бы сам стремится убедить читателей, что никаких оснований верить фюреру у него не было: "Разведчики доносили, что Гитлер стягивает войска к востоку ... Черчилль предупредил Сталина о нападении ... Все базарные бабы в его собственной стране пророчили войну со дня на день" (I: 126). Герой "Круга первого" (как и персонаж "Красного Колеса") делает всё возможное, чтобы читатели содрогнулись от его выбора объекта симпатий и доверия. Он словно бы призывает читателей ужаснуться, с помощью многократного восклицательного повтора или парцелляции акцентируя внимание на том, что доверие оказано извергу рода человеческого: "И Сталин поверил ему!"; "Человек этот был - Адольф Гитлер"; "Он верил Гитлеру!.." и т. д. (Г. 126-127).
В 46-й и 87-й "ленинских" главах "Апреля Семнадцатого" герой (не без помощи автора, которому, видимо, показалось недостаточно слов Троцкого о Ленине: "А в решающие часы - да и трусоват". - КК. X: 532) продолжает саморазоблачение, начатое ещё в 22-й главе "Августа Четырнадцатого" (см.: КК. I: 209-210): " ... когда в эмигрантских собраниях пахло начинающейся дракой - он первый уходил" (КК IX: 387); "И снова был реально очень опасный момент: не придётся ли спешно покидать дом Кшесинской ... архиглупо рисковать жизнью в самом начале борьбы" (K.K. IX: 558). Очередной повтор мотива, известного по "сталинским" главам "Круга первого", герой которых на протяжении нескольких страниц выражает повышенное беспокойство за собственную безопасность, вспоминает о придуманных им самим изощрённых усовершенствованиях в системе охраны собственной персоны: "И все эти предосторожности не были трусостью, а лишь - благоразумием. Потому что бесценна его личность для человеческой истории" (I: 129). Возникает ощущение, что, подобно Императору Земли из первого романа Солженицына, рефлектирующий Ленин в эпопее "Красное Колесо" не упускает из своего внимания ни одного компрометирующего и его и всю партию в целом эпизода, намеренно часто акцентируя на них внимание в своих внутренних монологах.
Солженицынский Ленин размышляет о своих работах: "А надо быть архиосторожным, никогда не допустить цитирования против себя - ко всем опасным фразам пристраивать оборонительные придаточные предложения, все фразы должны быть во всех боках защищены, оговорены и противовешены - чтоб никто не мог выбрать уязвимую" (КК IV: 108). А вот в воссоздаваемой автором внутренней речи героя он не "защищает" себя "во всех боках". То есть в этом случае ощутимо стремление автора-творца заставить героя "продемонстрировать" себя с самых невыгодных позиций. А между тем некоторые исследователи убеждены, что «писатель изображает точки зрения многочисленных героев как "авторские", давая возможность каждому из персонажей выразить себя с максимальной степенью убедительности»96. Действительно, персонажи повествовательных мо-ногеройных глав с максимальной степенью убедительности выражают себя - но при этом некоторые из них почему-то особенно стараются заострить внимание на собственных негативных качествах. Один старается с максимальной степенью убедительности доказать, что он шут гороховый, другой - что он отъявленный трус, третий - что он вообще является аморальным типом и т. д.