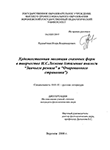Содержание к диссертации
Введение
Глава Первая Художественная модификация очеркового жанра (Воительница) 23
Глава Вторая Художественная трансформация жанра «святочного рассказа»
1. «Штопальщик» 41
2. «Старый гений» 58
Глава Третья Лесковская «нумерология» и её семантическая функция в рассказе «Тупейный художник» 72
Глава Четвёртая Факт и его эстетическая интерпретация в «рассказах кстати» («Александрит») 87
Заключение 107
Список литературы
- Художественная модификация очеркового жанра (Воительница)
- «Штопальщик»
- Лесковская «нумерология» и её семантическая функция в рассказе «Тупейный художник»
- Факт и его эстетическая интерпретация в «рассказах кстати» («Александрит»)
Введение к работе
Имя Николая Семёновича Лескова, замечательного русского писателя,
М давно обрело мировую известность, а его творчество до сих пор является объектом пристального внимания отечественных и зарубежных учёных. Однако, несмотря на острый интерес к проблемам поэтики этого замечательного художника и большие достижения в указанной сфере, последнее слово о специфике его эстетического письма не только не сказано, но вряд ли будет произнесено в обозримом будущем.
Одной из проблем, нуждающихся в тщательном рассмотрении из-за
малой изученности и чрезвычайной сложности, является лесковская жанро-логия в её эволюционных и новаторских модификациях. Проблема жанровых традиций, необходимость учитывать их в собственном творчестве воспринималась Лесковым чрезвычайно остро в связи с неизбежным использованием заданных и не слишком естественных готовых форм. В самом начале твор-
*** ческого пути примыкавший к распространённому тогда жанру так называемых обличительных очерков - с той разницей, что в них уже чувствовалась рука будущего беллетриста, писатель превратил его затем «в фельетон, а иногда и в рассказ» (23, с. XI).
В известной статье о Лескове П.П. Громов и Б.М. Эйхенбаум, которым принадлежит процитированное вслед за автором неизданной книги
* «Лесков и его время» А.И. Измайловым мимоходом задевают одну из самых
важных сторон эстетики уникального художника, отмечая, что «вещи Лескова часто ставят читателя в тупик при попытке осмыслить их жанровую природу (здесь и далее выделено мною - Н. А.). Лесков часто стирает грань между газетной публицистической статьёй, очерком, мемуарами и традиционными формами высокой прозы - повестью, рассказом» (Там же, с. XLVIII).
В книге «В поисках идеала (Творчество Н.С. Лескова)» её автор, виднейший исследователь лесковского творчества И.В. Столярова, проницательно указывает на творческую одержимость Н.С. Лескова поисками адекватных
его писаниям жанровых форм, поисками, отличающимися «большой мерой теоретической осознанности» (126, с. 49). Действительно, в письме к Ф.И. Буслаеву (1877) Лесков выражает резкое недовольство «критическим бессмыслием» в понятиях самих писателей о форме их произведений: «Хочу, назову романом, хочу, назову повестью — так и будет. И они думают, что это так и есть, как они назвали. Между тем, конечно, это не так...» (69, т. 10, с. 450).
Размышляя о специфике каждого из прозаических повествовательных жанров, Лесков указывает на трудности их разграничения: «Писатель, который понял бы настоящим образом разницу романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в их трёх последних формах он может быть только рисовальщиком, с известным запасом вкуса, умений и знаний; а, затевая ткань романа, он должен быть ещё и мыслитель...»(там же, с. 451).
Бели обратить внимание на подзаголовки лесковских творений, то становятся очевидными как постоянное стремление автора к жанровой определённости, так и необычность предлагаемых дефиниций вроде «пейзажа и жанра», «рассказа на могиле», «рассказов кстати».
Проблема специфики лесковского рассказа в его сходстве-различиях с
жанровым каноном осложняется для исследователей тем, что в критической
литературе лесковского времени не было достаточно точных типологиче
ских критериев жанра рассказа в его отличиях от новеллы или маленькой по
вести. В 1844-45 годах в проспекте «Учебной книги словесности для русско
го юношества» Гоголь даёт определение повести, которое включает рассказ
как её частную разновидность («мастерски и живо рассказанный картинный
случай»), В отличие от традиции новеллы («необыкновенное происшествие»,
«остроумный поворот»), Гоголь переносит акцент на «случаи, могущие про
изойти со всяким человеком и «замечательные» в психологическом и нраво
описательном отношении (63, с. 190)
В своём петербургском цикле Гоголь ввёл в литературу модификацию короткой психологической повести, получившей продолжение у Ф.М. Дос-
тоевского, Л.Н. Толстого, а в дальнейшем и во многих рассказах («Красный цветок» В.М. Гаршина, «Палата № 6» А.П. Чехова и мн. др.).
При ослаблении фабульного начала, замедления действия, здесь возрастает сила познавательной аналитической мысли. Место необычайного происшествия в русском рассказе веб чаще занимает обыкновенный случай, обыкновенная история, осмысленные в их внутренней значительности (63, с. 191).
С конца 40-х годов XIX века рассказ осознается как особый жанр и по отношению к краткой повести и в сравнении с «физиологическим очерком». Развитие прозы, связанное с именами Д.В. Григоровича, В.И. Даля, А.Ф. Писемского, А.И. Герцена, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, привело к выделению и кристаллизации новых повествовательных форм.
Белинский утверждал в 1848 году: «И потому же теперь самые пределы романа и повести раздвинулись, кроме «рассказа», давно уже существовавшего в литературе, как низший и более лёгкий вид повести, недавно получили в литературе право гражданства так называемые физиологии, характеристические очерки разных сторон общественного быта» (6, с. 316).
В отличие от очерка, где преобладает прямое описание, исследование, проблемно-публицистический или лирический монтаж действительности, рассказ сохраняет композицию замкнутого повествования, структурированного вокруг определённого эпизода, события, человеческой судьбы или характера (63, с. 192).
Развитие русской формы рассказа связывают с «Записками охотника» И.С. Тургенева, объединившими опыт психологической повести и физиологического очерка. Рассказчик почти всегда является свидетелем, слушателем, собеседником героев; реже - участником событий. Художественным принципом становится «случайность», непреднамеренность выбора явлений и фактов, свобода переходов от одного эпизода к другому.
Минимальными художественными средствами создаётся эмоциональная окраска каждого эпизода. Опыт психологической прозы, знакомой с
б «подробностями чувства», широко использован в детализации впечатлений рассказчика.
Свобода и гибкость эскизной формы, натуральность, поэтичность рас-
Ф сказа при внутренней остроте социального содержания - качества жанра русского рассказа, идущего от «Записок охотника». По мнению Г. Вялого, «драматической действительности традиционной новеллы Тургенев противопоставляет лирическую активность авторского повествования, основанного на точных описаниях обстановки, характеров и пейзажа. Тургенев приблизил рассказ к границе лирико-очеркового жанра. Эта тенденция была продолже-
^ на в народных рассказах Л. Толстого, Г.И. Успенского, А.И. Эртеля, В.Г. Короленко» (63, с. 192).
По мнению Б.М. Эйхенбаума, новелла не только строится на основе какого-либо противоречия, несовпадения, ошибки, контраста, но и по самому своему существу новелла, как и анекдот, накопляет весь свой вес к концу, именно поэтому новелла, по формуле Б.М. Эйхенбаума, - «подъём в гору,
*** цель которого - взгляд с высокой точки» (155, с. 292).
Б.В. Томашевский в своей книге «Теория литературы. Поэтика», говоря о прозаическом повествовании, делит его на две категории: малую форму, отождествляя её с новеллой, и большую форму - роман (137, с. 243). Учёный уже указывает на все «узкие» места в теории жанров, отмечая, что «признак размера - основной в классификации повествовательных произведений - да-
^ леко не так маловажен, как это может показаться на первый взгляд. От объёма произведения зависит, как автор распорядится фабульным материалом, как он построит свой сюжет, как введёт в него свою тематику» (там же, с. 243).
Чрезвычайную важность для разработки нашей проблемы обретает типологическая характеристика жанра новеллы, отождествляемой «в русской терминологии с рассказом»: по мнению Б.В. Томашевского, новелла обладает обычно «простотой фабулы, с одной фабульной нитью», развивается не в диалогах, а преимущественно в повествовании, а развитие её фабулы отлича-
ется большей, чем, например, в драме свободой. Кроме того, по точному наблюдению теоретика, «в новелле гораздо большую роль играет сказовый момент» (137, с. 244). Основным признаком бесфабульной новеллы как жанра
Ц Б.В. Томашевский считает «твёрдую концовку»: «Новелла не должна обладать обязательно фабулой, приводимой к устойчивой ситуации, равно — она может и не проходить через цепь неустойчивых ситуаций. Иной раз описания одной ситуации достаточно для тематического заполнения новеллы. В фабульной новелле такой концовкой может быть развязка» (там же, с. 245).
Э. Эннекен говорит о свободной форме в русском искусстве. По его
^ описанию, в русском искусстве - в прозе Тургенева - форма не угнетает предметное содержание, а как бы отпускает его на волю. «Русская форма даёт более богатое, удвоенное переживание — и предмета самого по себе, и его эстетического значения. Русская фраза, русское слово и русское описание просторны, они вмещают также предмет, как он есть до его обработки искусством» (цитируется по книге Н.Я. Берковского «Мир, создаваемый литерату-
Ч* рой», с. 370).
Говоря о специфике художественной формы «Записок охотника», Н.Я. Берковский отмечает, что любой тургеневский рассказ там «строится так, что все эпизоды лирически значительные, возвышенные, трогательные, ходом рассказа относятся несколько в сторону. Сама форма очерков о ружейной охоте помогает этому: рассказ начат и закончен как случай из практики
v охотника по местам Орловской губернии, каков бы ни был этот случай, он
подчиняется этому практическому ходу повествования, становится чем-то побочным ему, и не та или иная поэтическая встреча в центре рассказа, а постоянные интересы охотника» (8, с. 392). Нельзя говорить о всего лишь практическом «обрамлении» рассказов Тургенева, «если дела охотника составля-ют завязку и развязку рассказа, то они составляют также и его смысловой центр, они вторгаются вовнутрь рассказа, а поэтические эпизоды даны в композиции как нечто мимоидущее, смещённое в сторону от постоянного его центра. Всё это лишь указание на постоянные практические интересы жизни,
обозначение для них, одна из форм для них, и эти интересы сильнее в рассказах Тургенева, чем тот или иной прекрасный эпизод» (8, с. 392).
Глубокая художественная реформа короткого рассказа связана с Ги де
Ф Мопассаном на Западе и с Чеховым - в России: «Оба писателя подводят итоги классического реализма 19 века, и их рассказы вобрали в себя опыт порт-ретно-изобразительной и психологической прозы. Чехов необычайно усилил объективность повествования, внешнюю отстранённость автора при абсолютной пластичности художественного изображения. Чем обыкновеннее казались объекты его рассказа, тем неожиданнее, оригинальнее становилось
^ их освещение, авторский подход к ним. Чехов-рассказчик развивает пушкинскую линию русской прозы с её гармоничностью и лаконизмом» (63, с. 193).
В своей монографии «Проблемы поэтики А.П. Чехова» современный исследователь И.П. Сухих пытается определить специфику бытового рассказа: «Включение в рассказ развёрнутых пейзажных и портретных характери-
f* стик, авторского психологического анализа, словом, создание в тексте не только плана действия, но и плана повествования, - таковы признаки ещё одного жанра, который обычно называют бытовым рассказом, новеллой, коротким юмористическим рассказом» (132, с. 180).
Как видим, все эти теоретические выводы мало что проявляют в типологическом плане, поскольку верны лишь применительно к конкретному пи-
^ сательскому почерку. Но до недавнего времени не более ясности существо-
вало и в теоретической науке, призванной дать чёткие дефиниции и разграничительные признаки, так Г.Н. Поспелов, теоретически разграничивая нравоописательный рассказ и новеллу как самостоятельные сущности, определяет рассказ как «малую жанровую эпическую форму художественной лите-
ратуры, небольшое по объёму изображённых явлений жизни, а отсюда и по ні
объёму текста...» (99, с. 73). Новелла, по мнению учёного, изображает «необычное бытовое происшествие, приключение, возбуждающее интерес читателя». В отличие от новеллы «нравоописательный рассказ — это короткое по-
вествование о типических бытовых отношениях и состоянии общественных нравов», рисующее «в коротких сценках повседневную жизнь. В новелле писатель хочет показать необычное в жизни героев, в рассказе он интересуется именно обычным, тем, что возможно и бывает изо дня в день...» (99, с. 74). Кроме того, характерной для новеллы Г.Н. Поспелов считает острую интригу, внезапную развязку, быстроту развития действия, в то время как рассказ «отличают описательность, медлительность действия и статичность героев» (там же, с. 76).
Для Э.А. Шубина же новелла и рассказ — всего лишь разновидности малой формы эпического рода: «при всех возможных разграничениях рассказа и новеллы следует прежде всего учитывать, что производятся они в рамках одного жанра» (153, с. 138).
Л.И. Тимофеев совпадает с Г.Н. Поспеловым в определении рассказа как малой эпической формы, но обращает на себя внимание оговорка учёного-теоретика о том, «что в разные периоды истории литературы малая эпическая форма получала различные наименования. Её называли и рассказом, и повестью, и новеллой, в фольклоре - сказкой» (136, с. 348).
Что же касается собственного толкования жанра рассказа, то Л.И. Тимофеев считает его специфическим признаком сюжетную одноплановость: «Малая эпическая форма говорит об отдельном событии в жизни человека. Характер в силу этого показан как уже сложившийся, определённый; то, что было с ним до начала данного события и что будет после того, как событие завершается, остаётся вне повествования или затрагивается лишь попутно; количество персонажей невелико, поскольку они участвуют лишь в одном событии. Отсюда невелик и объем произведения» (там же, с. 349).
Л.И. Тимофеев отмечает, что «автор рассказа или романа не связан жизненным фактом: он может изменить его при помощи своего творческого воображения (вымысла), соединить несколько фактов в один и т. д. На основе ряда изменённых фактов писатель при помощи вымысла создаёт новый факт — художественный образ» (136, с. 349). Характерно при этом объедине-
ниє у Л.И. Тимофеева признаков рассказа и романа воедино.
В своей монографии В.П. Скобелев, сводя воедино все имеющиеся точки зрения, обращает внимание, что «рассказы с развитой и неразвитой фабулой сближаются между собой в том, что опираются на повышенную активность «факта». Эта новеллистическая активность особенно наглядна в анекдоте, который рассматривается как некое сюжетное целое, ещё, так сказать, недоработанное до новеллы». «Было бы, по-видимому, точнее говорить об анекдоте, - продолжает В.П. Скобелев, - как о стяжённом варианте малой формы, реферативном воплощении её возможностей, связанных с одномо-тивным движением фабулы» (112, с. 53).
В книге Е.М. Мелетинского «Историческая поэтика новеллы», основанной на материале всемирной литературы, не только рассматриваются вопросы происхождения жанровой структуры, формирования классических образцов новеллы, но и даётся классификация последних в историческом освещении и высказывается ряд очень важных соображений по поводу специфики русской новеллы. Для осмысления нашей проблемы чрезвычайно существенны суждения учёного о поэтике чеховских «малых форм», ведь не случайно в последнее время в науке всё чаще говорится о генетическом родстве поэтики Лескова и Чехова. «Восстановив в правах новеллу, Чехов как бы трансформирует её в «антиновеллу», - замечает автор «Исторической поэтики новеллы». - Затушёвыванию новеллистической остроты способствует стремление Чехова к минимальному выделению сюжета из полного случайных, но не отобранных, не кадрированных эпизодов жизненного потока; основное действие часто прерывается случайными эпизодами» (85, с. 242). В связи с этим, новеллистическое событие в чеховской прозе теряет чёткую выделенность и исключительность.
В лесковском рассказе «случайность» кадрирования сюжетных событий, как мы убедимся на примерах разбираемых текстов, тем принципиальнее, что она зависит не от объективной хронологии происходящего с персонажем, а от видения рассказчика, не совпадающего с повествователем и ав-
тором. Столь же значим для Лескова и особый вкус к «микрособытию», отмеченный исследователем у Чехова, как зеркалу, в котором отражается мен-тальность лесковского персонажа. Нам представляется также, что выделен-^ ное Е.М. Мелетинским как чеховское в новеллистике («нарушение рациональной организации повествования и «рационального» поведения героев») можно с полным правом отнести и к лесковским «малым формам».
Современные составители Словаря литературоведческих терминов И.А. Елисеев и Л.Г. Полякова используют типологические характеристики Л.И. Тимофеева, не предлагая ничего взамен. То же самое относится и к та-fV ким справочным изданиям, как Литературная энциклопедия, Краткая литературная энциклопедия, Энциклопедический словарь и т.п.
В трудах современных исследователей теории жанров новелла в её отличиях от рассказа трактуется как замкнутая форма, отличающаяся рядом структурных черт. Содержанием новеллы является «случай, выходящий за рамки повседневного, обыкновенного, даже просто вероятного», «нечто вы-Н ходящее за пределы обычной организации самой действительности» (134, с. 245). При этом «редкое, нетипичное, невероятное становится в новелле знаком обычного, типического» (там же, с. 245). Иными словами, новелла пытается разглядеть за случайным закономерное, за поверхностью существенное.
В связи с этим двуплановость новеллистического события воплощает разные облики мира — трагически-бытийный и обыденно-прозаический и і* противоположное видение реальности. Отсюда и частое совмещение трагического и комического аспектов. А.В. Михайлов особо подчёркивает определяющую функцию новеллистического сюжета и отсутствие здесь описатель-ности и медитативности: «Единственная реальность в новелле - это её фактическая сторона, которая излагается как таковая, как бы по возможности вне посредующих членов, а потому единственная манера и стилизация, естественная для новеллы, - это стилизация под хронику с её объективностью» (134, с. 247).
Ещё одним существенным признаком бытования новеллы является, по
справедливому утверждению исследователя, её латентная связь со стихией, сферой рассказывания, осознаваемой как художественная: «Тогда новелла выступает как вполне естественное оформление процесса рассказывания, как некий простейший структурный элемент этого процесса, вычленяющий в нём осмысленные части» (там же, с. 248).
В другой теоретической работе, обобщающей, в частности, историю возникновения и развития самого понятия «литературный жанр» (135), формулируются основные трудности, с которыми сталкивается в изучении литературы в этом аспекте теоретическая поэтика: установление соотношения между двумя значениями термина «жанр», а «вместе с тем между теоретической моделью жанровой структуры и реальной историей литературы» и определение «причин и следствий смены канонических жанров неканоническими» (135, с. 361). В поисках путей преодоления указанных трудностей авторы учебного пособия по теории литературы привлекают суждение Ю.Н. Тынянова, считавшего нецелесообразным и даже невозможным «изучение изолированных жанров вне знаков той жанровой системы, с которой они соотносятся» (там же, с. 276).
Однако с высоты достижений современной литературоведческой науки авторы первого тома учебного пособия для студентов филологических факультетов высших учебных заведений Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман позицию Ю.Н. Тынянова оценивают как отражение «сомнения либо в том, что неканонические жанры сохраняют собственное тождество, либо в том, что мы обладаем таким научным методом, который мог бы это точно определить» (135, с. 362).
Названным авторам недаром оказался близок сформулированный Г. Мюллером методологический парадокс: «Дилемма каждой истории литературного жанра основана на том, что мы не можем решить, какие произведения к нему относятся, не зная, что является жанровой сущностью, а одновременно не можем даже знать, что составляет эту сущность, не зная, относится ли то или иное произведение к данному жанру» (там же, с. 363).
Для самих исследователей проблемы жанра главный вопрос сводится к тому, «возможна ли универсальная модель жанровой структуры, т.е. такая, которая улавливала бы устойчивый «каркас» в неканонических жанрах и позволяла бы их сравнивать с жанрами каноническими» (135, с. 363). Заметим, что здесь термин «неканонические жанры» относится к формирующимся или выходящим на авансцену литературы со второй половины XVIII - начала XIX века художественным структурам — роману, романтической поэме, новой драме, лирическим формам фрагмента или рассказа в стихах. В нашем же случае интерес представляет прежде всего модификация в лесковском творчестве, принадлежавшем второй половине XIX века, жанра рассказа по сравнению с уже сложившимися к тому времени жанровыми канонами.
И в этом ракурсе, как нам кажется, особого внимания заслуживают те страницы названной работы, где рассматриваются в типологическом освещении структурные особенности новеллы, повести и рассказа Авторы пособия обращают внимание на стилеобразующие черты новеллистического канона как, по определению Гете, «неслучившегося неслыханного происшествия», — «новизна» события, «остроумный поворот», сходство с анекдотом; роль случая в разрешении противоречий как внутри персонажей, так и между их намерениями и обстоятельствами жизни; отсутствие моральной оценки и сочетание традиционности с современностью» (135, с. 388). «Исследования, осуществлённые в русле этой традиции, - говорится в указанном труде, - показали, что комплекс структурных признаков этого жанра так или иначе связан с основной её особенностью - пуантом» (Там же, с. 388).
Термин «пуант», употреблённый авторами, расшифровывается здесь как «финальная перемена точки зрения (героя, читателя) на исходную сюжетную ситуацию, причём этот поворот может быть связан с новым, неожиданным событием, которое явно противоречит логике предшествующего сюжетного развёртывания» (135, с. 389). Говоря о событии рассказывания в повести и новелле, авторы указывают на объект изображения в новелле: это, по их мнению, «определённое стечение обстоятельств, послужившее пово-
дом для рассказывания той или иной истории, и выделяет так или иначе личность рассказчика <...> Новеллистическая история представляет собой или развёрнутую ответную реплику в споре, которая сама, в свою очередь, не ^ бесспорна («После бала» Л. Толстого), или, наоборот, повод для последующего обсуждения, оставляющего вопрос открытым: как история Беликова в «Человеке в футляре» или Чимши-Гималайского в «Крыжовнике»» (135, с. 391).
Учёные-теоретики здесь сближают новеллу с анекдотом, установкой на
«казус» - странный случай текущей современности или удивительный исто-
^fi рический факт (но не переосмысленный преданием, не мифологизированный,
а сохранённый в качестве достоверного благодаря мемуарам или хронике)
(там же, с. 389).
Этим свойством новеллы и определяется создаваемое ею новое видение житейской ситуации, убеждающее в то же время читателя в неполноте и относительности всяких готовых норм и моральных критериев. «Возвыситься ' № над путаницей и странностями жизни рассказчику и слушателю-читателю помогает не какая-либо готовая истина, а юмор - адекватная реакция на парадоксальность существования и на торжество своевольной жизненной стихии над человеческими целями, планами и схемами» (135, с. 392-393).
Таким образом, Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа и С.Н. Бройтман отрица
ют тождественность дефиниций — «новелла» и «рассказ», признавая возмож-
~ ность соотнесения рассказа с жанрами анекдота и притчи, с одной стороны, и
с романом, с другой. Вопрос о структурных различиях рассказа и новеллы
признаётся всё ещё не решённым, хотя и давно поставленным: по мнению
авторов указанного труда, «для уяснения жанровой специфики рассказа не
обходимо, оставаясь в рамках «малой формы», противопоставить его новел-
. ле» (там же, с. 393).
Специальные работы, посвященные жанрологии лесковских «малых форм», появились недавно (кандидатские диссертации Б.А. Леоновой о мемуарных очерках Лескова и П.Г. Жирунова о жанре рассказа в творчестве
H.C. Лескова 80-90-х гг. XIX века. На эти работы и высказывания других лесковедов, намечающих некоторые важнейшие аспекты заявленной проблемы, мы и опираемся.
А Вслед за Б. Эйхенбаумом исследователи обращают внимание на орга-
ничность повествовательной структуры лесковского рассказа для творческой манеры писателя и отличительные черты «малой формы» Лескова от беллетристики его эпохи. По мнению Н.Н. Старыгиной, рассказы писателя вполне соответствовали идейно-художественным тенденциям развития русской литературы начала 1860-х годов только на первый взгляд: «народная тема как '-^i главная в содержании, реалистические принципы построения действительности, исследовательский подход к предмету изображения, малые эпические формы, публицистичность были характерны для социологической прозы русских демократов. Но Лесков задумал <...> не изображение народной жизни «без всяких прикрас», а проникновение во внутренний мир простого человека для того, чтобы понять, на чём основываются его поступки, как он мыс-
' Ч лит, думает, чувствует... » (122, с. 6-7).
Много говорится и о синкретизме лесковских повествовательных форм в их жанровых разновидностях. Так, Е.А. Сухарева, в очередной раз обращая внимание на яркую оригинальность лесковской жанрологии, замечает, что «в своём творчестве писатель обычно выходит за рамки какой-либо одной жанровой традиции, смело контаминирует в композиции своих произведений ха-
^ рактерные структурные приёмы различных жанровых образований. <...> Многие из его произведений так или иначе тяготеют к новелле. <...> С художественной структурой новеллы их сближает и известное пристрастие Н.С. Лескова к анекдоту как основе сюжетного построения произведения... <...> Ярко представленные характеры сообщают эпическую глубину всему рассказу, который поначалу мог показаться всего лишь анекдотически забавной житейской историей» (130, с. 115).
Исследователи (начиная с Л.П. Гроссмана), в том числе В.Ю. Троицкий, обращают внимание на анекдотизм лесковских сюжетов — ярчайшую
16 черту его стилистики и связанные с ним специфические трудности аналитического выявления авторской оценочное.
Вслед за Л.П. Гроссманом о «коварстве» лесковского письма говорит академик Д.С. Лихачёв в известной статье «Ложная» этическая оценка у КС. Лескова»: «Произведения Н.С. Лескова демонстрируют нам (обычно это рассказы, повести, но не его романы) очень интересный феномен маскировки нравственной оценки рассказываемого. Достигается это довольно сложной надстройкой над повествователем ложного автора, над которым возвышается уже совершенно скрытый от читателя автор, так что читателю кажется, что к настоящей оценке происходящего он приходит вполне самостоятельно» (72, с. 177).
Со всей определённостью в своей монографии «Лесков - художник» В.Ю. Троицкий указал на чрезвычайную эстетическую функцию образа рассказчика в лесковской прозе, в том числе и в жанре рассказа (141, с. 148-162).
О.В. Евдокимова, тонкий и точный исследователь лесковского творчества, говоря о воплощении в образах лесковских рассказчиков «разных форм осознания какого-то явления», высказывает чрезвычайно ценную мысль о наличии в рассказах Лескова типичной для этого писателя структуры, наглядно схематизированной в том же самом небольшом рассказе, о котором говорит Д.С. Лихачёв. В «Бесстыднике» «личность каждого из героев выписана Лесковым колоритно, но не выходя за пределы той формы сознания, которую герой представляет. В рассказе действуют яркие личности, но обусловлены они сферой чувств и размышлений о стыде» (46, с. 106-107). И далее: «Любое произведение Лескова заключает в себе этот механизм и может быть названо «натуральный факт в мистическом освещении». Закономерно, что рассказы, повести, «воспоминания» писателя часто смотрятся как бытовые истории или картинки с натуры, а Лесков слыл и слывёт мастером бытового повествования» (Там же, с. 130).
О подобном сложном сплаве социального, бытового, морального и общечеловеческого в апофеозном «праведническом цикле» говорит И.В. Сто-
лярова: «... Лесков решительно отстраняется в своих рассказах о «праведниках»» от подобных (Достоевскому - Н.А.) мировоззренческих проблем. В центре его внимания - «примечательные характеры, описанные им с почти
-ІЛ документальной точностью реальные людские судьбы, события и происшествия. <...> Главные сюжетные коллизии, на которых построены рассказы Лескова, - это, как правило, не противоборство идей, доктрин, теорий, а столкновение добра и зла, «совершенной» альтруистической любви и холодного безучастия, высокой честности и беззастенчивой изворотливости» (126, с. 184).
Т* О. С. Клишина в очередной раз обращает внимание на «речевую пар-
тию» персонажа в рассказах и повестях Лескова, состоящую, по мнению этого исследователя, из трёх элементов: а) общеразговорных, назначение которых - создать эффект достоверности, устного, преимущественно неофициального общения; б) социально-групповых и территориальных (определяющих общественное положение говорящего), которые будучи статусными
^ корнями речевого поведения, не зависят от ролевых норм; в) элементов, создающих неповторимую индивидуальность речевой системы конкретного лица (60, с. 106-107).
Но, пожалуй, чаще и подробнее всего в разного рода научных работах говорится о жанре святочного рассказа в лесковской интерпретации. Е.А. Макарова замечает, что в излюбленном этим писателем жанре рождествен-
^ ского рассказа, «которому он придает свою оригинальную трактовку и доводит до совершенства», Лесков «в литературе второй половины XIX века ... по сути становится своеобразным вариантом русского Диккенса» (82, с. 70).
СИ. Зенкевич аргументированно убеждает в особой значимости для Лескова-художника святочной темы: «исподволь разработанная структура будущего святочного рассказа погружает в таинственную праздничную ат-мосферу и рассказчика, и заинтересованных необъяснимыми происшествиями слушателей». «Осознавая художественную необходимость фигуры рассказчика, чаще всего человека из простонародья, и окуная его в святочную
ситуацию, Лесков именно ему представляет слово о чуде. В словосочетании «святочный рассказ», по мнению исследователя, писателю в равной мере важны оба компонента» - и «рассказ», и «святочный». «...Как бы сформиро-
іДг вав святочный рассказ из произведений крупной формы, он (Лесков - Н.А.) закономерно пришёл к нему, следуя внутренней логике своего творчества», -заключает исследователь (55, с. 105).
Становится очевидным, что проблема жанрологии лесковского рассказа не только назрела, но и уже осознаётся исследователями в её остроте и актуальности. Об этом, в частности, прямо говорит Т.В. Сепик: «Для творчест-
Л* ва Лескова свойственно новаторское, экспериментальное отношение к жанровой практике. Новаторство этого рода само по себе представляет филологическую проблему, так как здесь размыты границы между рассказом и новеллой (конфликтность всех уровней воспринимается нами как показатель качества новеллы, а не обычного рассказа, тем более осложнённого сказовой формой), между повестью и мемуарами (некоторые рассказы делятся на гла-
*f вы, что более соответствует повести), повестью и очерком; между романом и хроникой (например, богатство задействованных персонажей и типов). Кроме того, не изучены и так называемые «новые жары», практикуемые Лесковым. Литературная повествовательная норма как стандарт, определяющий субъективную волю над объектной сферой художественного произведения, преобразуется в новую жанровую форму с неоднозначной характеристикой, с
**т размытыми жанровыми границами» (108, с. 30-31).
При обращении к жанрологии того или иного конкретного художника
исследователю остаётся только один путь познания — непосредственный ана
лиз конкретных текстов, так или иначе соотносимых с традиционным жан
ром-прототипом. По отношению к лесковским «малым формам» работа *"]
обобщающего характера ещё не предпринималась, а художественные тек-
сты, ставшие объектом нашего рассмотрения, изучались в других теоретиче
ских и проблемных ракурсах или не изучались вовсе. .
НОВИЗНА И АКТУАЛЬНОСТЬ нашей работы определяется и теоретическим ракурсом привлекаемых для анализа произведений, и введением в орбиту подробного аналитического освоения новых художественных текстов, не подвергавшихся проблемно-эстетическому разбору (таких, например, как «Старый гений», «Штопальщик», «Александрит») и являющихся наряду с «Воительницей» и «Тупейным художником» объектом нашего исследования. Характеризуемые автором в жанровом отношении по-разному — от «очерка» до «рассказов кстати», они способны ответить на многие возникающие вопросы. Сам отбор небольшого (сравнительно со всем корпусом подобных произведений в творчестве Лескова) круга «представителей» этого жанра и определяется указанной направленностью предпринятого исследования, его целями и задачами.
Для решения проблемы жанрологии «малых форм», на наш взгляд, необходим подробный анализ соответствующего художественного материала, как основы для теоретических обобщений. Эти соображения и явились предпосылкой нашего исследования, ОБЪЕКТОМ которого и стали лесковские рассказы в своеобразии их авторских жанровых определений.
Главной ЦЕЛЬЮ диссертационного сочинения является рассмотрение переходных и уже сложившихся форм лесковского рассказа в творческой эволюции, в эстетических модификациях привычного. Начав с «Воительницы», отнесённой автором к жанру очерка, мы рассматриваем так называемые «святочные рассказы» «Старый гений» и «Штопальщик», из «классических» для лесковской жанрологии - «Тупейный художник», и завершаем своё исследование произведением «Александрит» из цикла «рассказов кстати».
В связи с этим определилась и наша ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЗАДАЧА — пользуясь проблемно-эстетическим анализом, овладеть стилевым содержанием каждого из изучаемых художественных текстов, фиксируя общие черты поэтики лесковского повествования и продвигаясь к типологическому осмыслению жанрологии этого уникального художника.
С постановкой и решением данных исследовательских задач связана АКТУАЛЬНОСТЬ предпринятого нами исследования.
В связи с необходимостью рассмотрения разных эволюционирующих повествовательных форм в рамках лесковского рассказа определился и ряд ЧАСТНЫХ исследовательских ЦЕЛЕЙ, главными из которых являются:
выявление специфической художественной функции повествователя и персонажей как субъектов повествования;
определение эстетической соотносительности «своего» и «чужого» в структуре жанрового образования;
выяснение художественных функций ключевых слов;
рассмотрение значимых элементов художественной формы (роль хронотопа, композиционных структур, эстетической функции числа и т.п);
выявление способов непрямого воплощения авторской оценочности;
типологический анализ каждого из рассматриваемых жанровых образований.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВАМИ исследования являются принципы изучения поэтики художественного текста, изложенные в трудах М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Д.С. Лихачёва, Ю.М Лотмана, Ю.В. Манна, Б.Я. Бухштаба и др. В работе учтены научные достижения в изучении поэтики лесковского творчества современных исследователей: И.В. Столяровой, В.Ю. Троицкого, Б.С. Дыхановой, Е.В. Тюховой, О.В. Евдокимовой, И.П. Видуэцкой, Н.Н. Старыгиной, Е.В. Душечкиной, А.В. Лужановского, С.Ф. Дмитренко, Е.А. Макаровой, Т.В. Сепика, Г.В. Мо-салевой и др.
Проблемно-эстетический анализ введённых в орбиту исследования лесковских художественных текстов опирается на конкретно-исторический, структурный, сравнительно-типологический, этимологический и статистический методы анализа.
Научная новизна настоящей работы определяется не только теоретиче-
ским ракурсом рассмотрения жанрологии изучаемых нами художественных
текстов, но и неким неординарным объединением в контексте произведений,
жанровая принадлежность которых самим автором определялась по-разному.
KV В связи с вышеизложенным на защиту выносятся следующие
ПОЛОЖЕНИЯ диссертационной работы:
поэтика лесковских «малых» жанровых форм складывалась в процессе его творческой практики и с учётом уже имеющихся жанровых образцов;
эстетические открытия Лескова неизбежно приводили к трансформации и модификации традиционных элементов повествовательной формы, а
1^ дальнейшее развитие художественной системы опиралось на уникальность комбинаторики авторских эстетических открытий;
- творческие искания Лескова не замыкались глубоким художествен
ным исследованием наличной реальности; метаязык художника и семантиче
ский объём элементов художественной формы имел тенденцию к возраста
нию эстетической информативности;
^ - жанровые разновидности прозаического повествования у этого писа-
теля были формой воплощения целостной картины социальной жизни в её «микрофрагментах»;
- исследования специфики поэтики «малых форм» неопровержимо
свидетельствуют о целостности пути художника и его творческого мышле
ния.
^ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ диссертационного исследования
в том, что его результаты могут быть учтены в дальнейшем изучении проблемы жанрологии «малых форм», поэтики Лескова, а материалы диссертации могут быть использованы при разработке общих и специальных курсов по истории русской литературы второй половины XIX века
АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные положения диссертант
ции неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры истории русской литературы, теории и методики преподавания литературы Воронежского государственного педагогического университета. Положения и выводы послужи-
ли основой для докладов на Международных конференциях «Эйхенбаумов-ские чтения» (Воронеж, 2002 и 2004), «Художественный текст и культура» (Владимир, 2003), «И.С. Тургенев и Ф.И. Тютчев в контексте мировой культуры» (Орёл, 2003), «Русское литературоведение в новом тысячелетии» (Москва, 2003), «Русская литература и внелитературная реальность» (Санкт-Петербург, 2003).
Работа состоит из введения, четырёх глав и заключения.
Во ВВЕДЕНИИ дается обзор научной литературы по истории и эволюции малых эпических форм, реестр научных точек зрения на идеологическую и эстетическую природу лесковской жанрологии, обосновывается актуальность и научная новизна избранной темы, определяются объект и предмет «исследования», методологические основы работы, формулируются выносимые на защиту теоретические положения диссертации.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ работы излагается в четырёх главах, последовательно отражающих движение исследования к результату.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ искомые результаты обобщаются, демонстрируя сложившиеся в ходе исследования представления о законах эволюции поэтики «малых форм» в прозе Н.С. Лескова.
Список научных работ, используемых автором диссертационного сочинения состоит из 159 наименований.
Художественная модификация очеркового жанра (Воительница)
Уже в одном из ранних произведений Лескова - «Воительнице», его очерковость специально заявлена автором в подзаголовке. Смысловая глубина художественных решений автора проявляется и в специфике пространственно-временной организации «Воительницы», связанной, казалось бы, с типично очерковой идеей довления среды над личностью. Однако «петербургские обстоятельства», один из главных смысловых центров повествования, обретают под пером писателя неожиданный для заявленного жанра смысл и значение в системе художественного целого.
В русской литературе символический образ Петербурга уже сложился в своих основных характерологических чертах в творчестве Пушкина, Гоголя и Достоевского. Всякий раз черты реального «града Петрова» обретают тот или иной ракурс, служа эстетическому выражению авторской художествен Чч ной концепции. Подчиняющие себе столичных жителей, формирующие их характеры и определяющие их поступки «петербургские обстоятельства» в творчестве Лескова впервые становятся объектом художественного исследования именно в «Воительнице», подхватывая уже сложившиеся традиции.
Художественное пространство «Воительницы» неоднородно: подробная топография Петербурга (упомянуто более двадцати улиц, Адмиралтей екая площадь, набережные Невы и «Фонталки» как часть архитектурного об лика Северной Пальмиры, Семионовский мост, храмы Знамения Божьей Матери и Николы Морского, торговые сооружения, например Пассаж) — лишь фон для «личного пространства» героини и других действующих лиц (упоминаются жилища Домны Платоновны, «генеральши Шемельфеник» и повествователя), становясь своеобразным инструментом для раскрытия характе-ров персонажей.
Пространственные оценки повествователя, на наш взгляд, наиболее активно участвуют в выявлении особенностей петербургской ментальности.
Его критическое, резко отрицательное отношение к Петербургу и признание страшной силы «петербургских обстоятельств» прямо проявляется в четвертой главе: «В течение этих пяти лет я уезжал из Петербурга и снова в него возвращался, чтобы слушать его неумолчный грохот, смотреть бледные, озабоченные и задавленные лица, дышать смрадом его испарений и хандрить под угнетающим впечатлением его чахоточных белых ночей».
По мнению повествователя, поучительность истории Домны Плато-новны в том, что читателям дается «случай один лишний раз призадуматься над этой тупой, но страшной силой «петербургских обстоятельств», не только создающих и вырабатывающих Домну Платоновну, но еще передающих в её руки лезущих в воду, не спрося броду, Леканид, для которых здесь Домна Платоновна становится тираном, тогда как во всяком другом месте она сама чувствовала бы себя перед каждою из них парией или много что шутихой...».
Авторское пространство, разумеется, значительно шире, чем простран ство повествователя, ограничивающееся в Петербурге «квартирой у одной полковницы» и «особенной» квартирой в Коломне, которую повествователь уподобляет Мценску, «проживающему инкогнито в Петербурге».
Личное пространство Домны Платоновны равно петербургскому топо су, превосходя пространственные границы повествователя. Ей, в связи с ее" социальной ролью, приходится пересекать Петербург в самых разных на 1 правлениях. В «столице волшебной» она, повинуясь интересам своей про фессии, «осваивает» как центральные, так и окраинные районы: Домна Платоновна упоминает более двадцати петербургских улиц, набережные, храмы, . Адмиралтейскую площадь, дважды в рассказе героини возникает Пассаж. Род деятельности «петербургского фактотума» (кружевницы и сводни) предполагает общение с представителями всех социальных слоев столичного со-циума: «приказчики, графы, князья, камерлакеи, кухмистеры, актеры и купцы именитые, всякого звания и всякой породы были у Домны Платоновны знакомые... ».
Но воспоминания о прошлом, живая связь со «своим местом» помогают выстоять и преодолеть «петербургские обстоятельства», несмотря на то, что доверчивая «мценская баба» сама неустанно подвергается «проискам че-к! ловеческого рода, избравшем её, Домну Платоновну, своей любимой жертвой и каким-то вечным игралищем», она «всегда попрана, оскорблена и обижена за свои же добродетели и попечения о нуждах человеческих» то уличным воришкой, укравшим саквояж, то извозчиком, который везет её короткой дорогой, но «с вывалом», то неблагодарной «Леканидкой», то «Испулат-кой», коварно воспользовавшимся еб «могучим аридовым сном», то гене- ральшей Шемельфеник, то землемером «Кумовеевым ни то Маковеевым» -чревовещателем, расстроившим почти устроенную Домной Платоновной свадьбу.
Именно потому, что героиня много «на свете видела всякого горя», «много обид приняла» и не раз «была бита», она принимает «петербургские обстоятельства» как должное и даже становится их тонким знатоком: «Ну " был ни при чем, стал городничом; знаю уж я эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них нечего». Или: «Я эти петербургские обстоя-тельства-то лучше тебя знаю».
В отличие от повествователя, «воительница» воспринимает «петербургские мистерии» не с рациональной, а с практической, бытовой точки зрения: «Вздыхай, - говорю, - ангел мой, не вздыхай, хоть грудь надсоди, но как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется»; «пятидесяти копеек, - говорю, - не займаешь, а не то что пятидесяти рублей - здесь не таковский город, а столица».
«Штопальщик»
Многочисленные исследователи творчества Н.С. Лескова, указывая на оригинальность создаваемых им жанров, отмечали свободу использования разных жанровых форм. В неизданной книге «Лесков и его время» А.И. Измайлов в своей характеристике лесковской манеры особо отметил сочетание несочетаемого: «Все цвета радуги, все виды трагического, кровавого, комического и лирического, оскорбление всех единств, какие только можно представить, мистика рядом с водевилем - скифский стиль, от которого впал бы в обморок Буало... Художник дерзко пренебрег всеми педантическими условностями беллетристики как искусства» (56, с .2). Такое «оскорбление единств» вполне соответствует художественной задаче Лескова - «стремлению внести исключительность в самую гущу повседневности, слить воедино возвышенное с гротеском» (19, с. 29)
Контаминация характерных приемов различных жанровых образований просматривается и в рассказе «Штопальщик», помещенном Лесковым в его сборник «Святочные рассказы». Синтезирующий узнаваемые элементы святочного жанра, этот рассказ использует и поэтику новеллы «с её очарованностью жизнью, изумлением перед непредсказуемостью поворотов судьбы, остротой ситуаций, необыкновенно большой ролью случая» (19, с.29).
Жанрообразующие законы новеллы - поучительность и обязательность заключительного морального урока у Лескова также вполне отвечают святочной истории. Но его главным смыслообразующим ядром здесь становитс анекдот.
Уничижительные отзывы современников о Н.С. Лескове как о «писателе-анекдотисте» (9, с. 5) объясняются отчасти недооценкой возможностей анекдота как якобы легковесно-занимательного жанра. Лесков же использует анекдот как способ раскрытия «некоего явления, особенности нравов, черт характеров или типа, вскрытия противоречий и указания на типическое» (130, с. 107). Очень точную характеристику структурной роли анекдота у Н.С. Лескова дал Б. Эйхенбаум: «Анекдот (большей частью языковой) есть своего рода атом в природе лесковского творчества» (158, с. 111).
На ведущую роль анекдота в структуре ассоциативного сюжета лес-ковских произведений неоднократно указывали многие современные исследователи его творчества Ефим Курганов в книге «Анекдот. Символ. Миф» указывает, что при недостаточности оперирования непосредственной реальностью «конструируется некая условная ситуация, которая как раз и способствует принятию необычной и даже парадоксальной точки зрения». И далее: «Анекдот энтиматичен, он подключается к коммуникативному акту тогда, когда все остальные средства оказываются уже исчерпанными» (67, с. 22).
Анекдотическая ситуация в момент наивысшего сюжетного напряжения как раз дает возможность разрешить «конфликт» мягко и непринужденно, смещая акценты в сторону «комического». Но парадокс состоит в том, что анекдотичность вовсе не свойственна традиционному жанру святочного рассказа.
В русской периодической печати «святочные повести» появились в середине 1840-х годов и, сразу завоевав любовь читателей, вызвали громадный успех. И хотя некоторые исследователи, например, Е.В. Душечкина, считают, что подавляющее большинство святочных рассказов «не имеют высокой художественной ценности, поскольку «в развитии сюжета они используют давно отработанные приемы, часто поражают своей наивностью и схематизмом изображения жизненных ситуаций, их язык нередко убог и однообразен» (107, с. 211), они, несомненно, обогатили жанровое разнообразие «малых форм».
Анекдотизм положений - основа композиции «Штопальщика», синтезирующей признаки различных жанров - притчи, новеллы и анекдота — и включающей все необходимые атрибуты «рождественского рассказа» (по замечанию СИ. Зенкевича - «в творчестве и в теоретических размышлениях Лескова жанровые определения «святочный рассказ» и «рождественский рассказ» во многом являются синонимами» (55, с. 105)). Впервые опубликованный в 1882 году в «Газете А. Гатцука» под иным, чем окончательное, заглавием «Московский козырь» имел авторский подзаголовок — «маленький жанр» - и эпиграф: Он с лакеем важный барин, С важным барином - лакей.
Как видим, и подзаголовок, и эпиграф намекают скорее на сатириче скую направленность повествования. Но включение «Штопальщика» в сборник «Святочных рассказов» побудило Лескова не только изменить название и снять эпиграф, но и внести существенные коррективы в первую главу: здесь появляется новый акцент — «щекотливость по поводу тождества имен». Переименовав рассказ и дополнив его характерным «святочным» посылом V («Преглупое это пожелание сулить каждому в новом году счастие, а ведь иногда что-то подобное происходит. Позвольте мне рассказать вам на эту тему небольшое событьице, имеющее совсем святочный характер»), автор задает иной угол зрения на «анекдотический случай», и «картинка московских нравов» становится в художественном отношении куда более занимательной и интригующей, чем в первой редакции.
"1 " Типичная, на первый взгляд, «святочная история» с характерной для неё фабулой и конфликтом, разрешающимся к удовольствию «положительной» стороны, для Лескова чрезвычайно важна не сюжетным, а стилистическим содержанием, позволяющим в границах традиционной жанровой формы ставить и решать задачи, не свойственные сложившемуся канону. Уже в самом начале повествования в «Штопальщике» есть те зерна, из которых вы-растет поэтическая система всего рассказа.
Лесковская «нумерология» и её семантическая функция в рассказе «Тупейный художник»
«Тупейный художник» - одно из самых замечательных поздних произведений Лескова, ярчайшее свидетельство значимости «малых форм» в творчестве «волшебника слова». Здесь, как в зеркале, отражается масштабность его художественных открытий в избранном жанре. В многослойности текста, в особой «синкретичности» повествовательных форм, объединяющих множество разнородных элементов, реализуется на авторском уровне глубинный смысл художественного целого. Одним из таких элементов являются числовые коды, интенсивно действующие в подтекстовом слое и обретающие, подчиняясь закону «обратных связей», особую значимость в художественном контексте. Сказовая доминанта повествования здесь интенсифицирует не только «игру слов», но и «игру чисел».
Природа лесковского сказа как «особого повествования с тщательно маскируемой мнимой «безыскусностью» конфликта между прямым и подра-зумеваемым смыслами рассказанного» подразумевает тотальную соотнесенность всех элементов художественной формы. Исследователи обратили внимание на это сравнительно недавно, усмотрев в лесковском сказовом тексте присутствие «Зазеркалья», которое интуитивно ощущается читателем, но обнаруживается лишь в процессе сложного литературного анализа. «Идеи о смыслотворчекой роли языка, чрезвычайно плодотворные для филологических наук, служат мощным стимулом для осмысления и разрешения проблем лесковского творчества, осознания самого феномена сказа. Ведь все, что открылось ученым-филологам в языке, иррационально, интуитивно использовано Лесковым в практике его авторского словоупотребления и трансформировано в художественную истину» (37, с. 21).
Каковы же эти «ирраииональные». «интуитивные», почти мистические в некой таинственной субстанции языковые средства, которые создают отражающееся в глубинах текста «Зазеркалье»?
Одним из таких загадочных и неожиданных принципов смыслообразо-вания в рассказе «Тупейный художник» Лескова и оказывается знаковость числа, которая играла особую роль в мифопонимании древнего человека.
В «Русском мифологическом словаре» его составитель В.В. Шуклин напоминает, что «числа играли важнейшую роль в ритуальных и культовых отправлениях, в фольклоре и древних литературных текстах. Числа и счет были сакрализованными средствами, с помощью которых, при необходимости, репродуцировались структура космоса и правила ориентации в нем человека. Как образ мира числа использовались в качестве магического средства для его периодического (циклического) восстановления и преодоления хаотических начал» (154, с. 389).
Наверное, уже никогда не будет точно определено место и время открытия тайного, оккультного значения чисел, однако у всех народов, в той или иной степени разделяющих это учение, числа представляют свойства солнечной системы и вселенной (Считается, например, что печать Соломона «в действительности не что иное, как семиконечная звезда, содержащая в себе девять чисел, которые в свою очередь являются основой всех наших вычислений и фундаментом системы чисел» (57, с. 260)).
Но показательнее всего мифопоэтическая роль чисел (в явном или неявном виде) выступает в тех культурах, которые «знают тексты с сильным развитием классификационного принципа. Согласно ему, все объекты (особенно сакрально значимые) связаны друг с другом определенной системой иерархических отношений» (139, с. 630). «Подобно словам, числа считались неотъемлемыми качествами всех существ и предметов, они управляют не только физической гармонией и законами жизни, пространства и времени, но и отношения их с богом, который уподобляется Мировому единству, Высшей истине» (83, с. 388).
Числа как элементы особого числового кода, с помощью которого описывается мир, человек и сама система метаописания, безусловно, не могли быть обойдены вниманием художников, в том числе и в литературном твор честве, так как стремление вновь семантизировать число, «вернуть ему ту роль, которую оно играло в мифопоэтическую эпоху, реализуется прежде всего в этих областях человеческой деятельности, в которых, как в заповедном месте, сохраняются достижения архаической эпохи - в поэзии и искусстве» (139, с. 631).
Так, Достоевский, «десакрализуя и дегармонизуя архаичные представ- ления о числе, вместе с тем строит новую символическую систему, вторично семантизируя члены числового ряда (роль четверки и семерки в его произведениях)» (там же, с. 631). И таких примеров можно привести немало.
Никогда не изучавшееся с этой точки зрения творчество Лескова дает все основания для его рассмотрения в указанном ракурсе. Поскольку сама практика словоупотребления «становится у Лескова ключом не только к " «бытовым загадкам» национальной жизни, но и к историческим закономерностям национального бытия» (37, с. 19), то и обращение писателя, сознательно или неосознанно, к магическим свойствам числовых употреблений слова было неизбежным. С этой точки зрения, текст «Тупейного художника» представляет для нас особый интерес.
Это лесковское произведение обычно рассматривают в социологиче 7 ском плане как обличительный рассказ, в котором прежде всего важна кри тика крепостнической системы отношений, но почему-то не принимется во внимание, что эта система утратила злободневность уже в момент отмены крепостного права - 16 февраля 1861 года. Лесковский рассказ написан в 1883 году, т.е. двадцать два года спустя. По-видимому, в 90-е годы писателя волнует не столько прошлое, сколько настоящее: воссоздание ситуации кре постнической неволи в её крайнем выражении (абсолютная власть театрала-деспота над крепостными актерами) соответствует художественным целям автора. И обнаружить эту эстетическую целесообразность помогает особая система лесковских художественных кодов, основанных на частотном употреблении ключевых слов, одновременно служащих эстетической характеристикой тех или иных персонажей.
Факт и его эстетическая интерпретация в «рассказах кстати» («Александрит»)
В «Александрите» же и подзаголовок, где сталкиваются два взаимоисключающих понятия (с одной стороны - «голая» фактографичность, «натуральный факт», а с другой стороны - его «мистическое освещение»), и пространный эпиграф соответствуют основному посылу рассказа («В каждом из нас, окружённом мировыми тайнами, существует склонность к мистицизму...») и в то же время начинают полемику с атеистическими воззрениями, ибо, по словам повествователя, «одни из нас, при известном настроении, находят сокровенные тайны там, где другие, кружась в водовороте жизни, находят веб ясным».
Повествователь, присоединяясь к приведенным в эпиграфе словам известного учёного Николая Пирогова (« ... Каждый листик, каждый кристалл напоминают нам о существовании в нас самих таинственной лаборатории»), иллюстрирует их и тематическим, и образным содержанием своего повествования. Эпиграф, являясь отправной точкой рассказа (что характерно для новеллистического построения), должен быть либо опровергнут, либо подтверждён последующими событиями, обеспечивая вкупе с заключительным выводом характерную для новеллы замкнутость сюжета. С этой задачей вполне согласуется и композиционно-стилевая организация рассказа «Александрит», совмещающая в рамках относительно небольшого текста различные принципы его речевой организации.
Первая глава включает фрагменты научного обобщения (выдержки из книги М.И. Пыляева «Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление»), обширную историческую справку о месторождениях алек сандрита и этимологическое объяснение его наименования. Во второй главе очень подробно говорится об удивительных свойствах этого редкого, а потому причисляемого к разряду драгоценных, природного камня. Третья глава целиком посвящена пластическому изображению памятного кольца с александритом, купленного самими рассказчиком. Таким образом, развитие собственно сюжета, с его экспозицией, кульминацией и развязкой происходит лишь с четвёртой и продолжается по одиннадцатую главу.
Причин дробления и без того небольшого по объёму произведения (чуть более двенадцати страниц) на одиннадцать главок, включающих три сюжетные линии, на наш взгляд, несколько. Первая из них связана с непосредственно заявленной в названии рассказа темой александрита. Как уже говорилось выше, первые три главы призваны сообщить исчерпывающие сведения о редком камне и ювелирных изделиях, в которых его используют: «Перстни с александритом были из самых любимых и притом из самых редких и, может быть, из самых характерных памяток, и кто добыл для себя таковую, тот уже с нею не расставался».
Главная сюжетная линия рассказа сопрягается с одним из фактов биографии самого писателя, приписанным субъекту повествования. Летом 1884 года Лесков совершил путешествие в Дрезден, Прагу и Вену, а вернувшись оттуда, сообщил М.И. Пыляеву, автору уже упоминавшейся книги о камнях, о своём желании «написать суеверно-фантастический рассказ, который бы держался на страсти к драгоценным камням» (69, т. 11, с. 291).
«Я» - повествователь, несомненно, является alter ego автора: «Летом 1884 года мне привелось быть в Чехии», «я там несколько заинтересовался местными ювелирными и гранитными работами», «я позволю себе сделать маленькое сообщение», «Мне досталось кольцо с александритом», «я приобрёл перстень самым простым способом» и т.д. И в этом есть своя логика.
Анализ зачинов всех произведений, включённых в одиннадцатитомное собрание сочинений писателя, свидетельствует, что местоимения «я», «мы», «мой» - непременные составляющие начальных абзацев большинства лесков ских сочинений. «Биографическая» солидаризация с анонимным повествователем придает сообщаемым фактам убедительность и весомость как исходящим от очевидца и подтверждаемых личным опытом. Сливаясь с авторской личностью, повествователь в «Александрите» становится проводником прямой авторской точки зрения. Будучи с очевидностью интеллигентом среднего достатка, он имеет возможность путешествовать. Кругозор его весьма широк: он лингвистически образован, имеет, по собственному признанию, «беспокойную склонность увлекаться разными отраслями искусства». Имущественный достаток позволяют ему приобрести по случаю александритовую «памятку» об усопшем императоре Александре Втором.
Личность рассказчика проявляется не только в том, чтб он рассказывает, но и в языковой стихии его монологических высказываний. На языковом уровне мотивируется причастность повествователя к образованному меньшинству: его речь преимущественно правильна, изобилует цитатами из самых разнонаправленных и известных лишь определённому кругу посвященных людей книг («Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление», «Правила вежливости и приличий» истинного джентльмена, письма патриарха Никона царю Алексею), а также ссылками на различные исторические и географические факты. В то же время повествователь не чужд просторечносуи: «Теперь Венцель уже не ко времени птица и не к масти козырь»; «Словом, чёрт знает что за рацею разведёт, а конец тот, что каретную ось легче выковать, чем огранить камень».
Все подробности, касающиеся личности повествователя и максимально приближающие её к биографическому автору, осложняются тем, что никаких других проявлений индивидуальной характерности рассказ не содержит. Все сведения о повествователе мы можем почерпнуть лишь из косвенных источников, и его анонимность всё-таки ощущается.