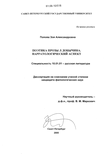Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Цикличность как ведущий принцип организации текстов в творчестве Людмилы Петрушевской 11
1.1. Заглавие в системе цикла 16
1.2. Роль текстовой рамки в пределах цикла и в пределах рассказа 27
1.3. Образная система рассказов Л. Петрушевской 31
1.4. Интертекстуальность как элемент идиостиля Л. Петрушевской 38
1.5. Проза Людмилы Петрушевской в контексте фольклорно-литературных традиций 72
Глава II. Нарративные маски и роли Л. Петрушевской 94
2.1. Стилистические тенденции сказовой новеллы Л. Петрушевской 99
2.2. Герой-рассказчик и его маски 104
2.3. Коммуникативная ситуация «рассказчик» - «слушатель» в прозе Л. Петрушевской 109
2.4. Пространственно-временная организация прозы Л. Петрушевской 115
2.5. Специфика взаимодействия авторских планов в прозе Л. Петрушевской 124
2.6. Речевой стиль Л. Петрушевской 130
Заключение 141
Список использованной литературы 148
Приложения 168
- Роль текстовой рамки в пределах цикла и в пределах рассказа
- Проза Людмилы Петрушевской в контексте фольклорно-литературных традиций
- Герой-рассказчик и его маски
- Специфика взаимодействия авторских планов в прозе Л. Петрушевской
Роль текстовой рамки в пределах цикла и в пределах рассказа
Учитывая последние достижения интегративного развития комплекса филологических наук, индивидуальная система определенного писателя, созданные им произведения могут рассматриваться как некий мета-, или архе-текст, теоретически вероятная текстовая форма, выводимая путем сопоставления реально существующих текстов с единой содержательной основой - авторской концепцией действительности. Отдельные литературные тексты в данном случае выступают как часть этой глобальной системы, будучи связанными глубинными смысловыми отношениями. Эти связи могут быть прослежены на самых разных уровнях - как внешнетекстовых, так и внутритекстовых. Выше мы уже говорили о том, что Л. Петрушевская располагает циклы в определенной последовательности, и проследили как между-, так и внутритекстовую связь заглавий, которые являются сильными позициями текста. К числу других сильных позиций исследователи относят начало и конец текста, или, по определению Ю. Лотмана, рамку текста. «Особая моделирующая роль начала и конца непосредственно связана с наиболее общими культурными моделями. .. . Начало имеет определяющую моделирующую функцию — оно не только свидетельство существования, но и замена всей более поздней категории причинности» [Лотман 1970: 260].
Современные исследователи отмечают, что начало текста - наиболее значительная точка его структуры. Именно здесь происходит определение важного для читателя момента: «кто» или «что», здесь — отправной пункт развертывания текста.
Особенности начала текста наиболее ярко проявляются в структуре такой его композиционной единицы как начальный абзац. Прежде всего, начальный абзац, занимая определенную сильную позицию в тексте, обнаруживает теснейшие ретроспективные связи с заглавием, которое, как мы уже говорили, точно так же представляет сильную текстовую позицию. «Если принять во внимание пять основных пунктов любого сообщения: "Кто?", "Где?", "Когда?", "Что делает?", "Что из этого следует?", - пишет И. Арнольд, - то можно сказать, что самый простой тип связи с содержанием наблюдается у заглавий, отвечающих на первый вопрос» [Арнольд 1978: 26].
В одном из наиболее устойчивых циклов Людмилы Пегрушевской, «Реквиемы», восемь из пятнадцати заглавий репрезентируют именно этот тип («Еврейка Верочка», «Дама с собаками», «Сирота», «Богема», «Медея», «Гость», «Сережа», «Нюра Прекрасная»).
Разновидностью заглавия, отвечающего на вопрос «Кто?», являются заглавия, отвечающие на вопрос «Что?». Здесь также уже в первом абзаце прослеживаются прямые содержательные связи обеих сильных позиций. Заглавие и начальный абзац могут отвечать одновременно на два вопроса, например «Когда?» и «Где?» и т.п. Первый абзац несет ту информацию, которая в дальнейшем предполагается известной и читателю, и автору. Здесь отправитель устанавливает между собой и получателем некоторую сумму общего знания. Зачастую эту функцию выполняет уже первая фраза текста, обладающая, по мнению Е. Орлова, и специфическим сверхзначением, в котором исследователь выделяет две основные взаимомсвязанные особенности, отличающие первую фразу от любой другой: функцию камертона - «первая фраза ритмико-синтаксическими средствами задает определенный интонационно-ритмический настрой для всего произведения»; репрезентативную функцию - «в первой фразе демонстрируется авторский принцип репрезентации мира данного произведения» [Орлов 1971:92].
Рассказ, открывающий цикл «Реквиемы», называется «Я люблю тебя». Заглавие рифмуется с конечной фразой текста: «".. .я люблю тебя" она все-таки успела ему сказать - без слов, уже мертвая, но успела». Первая фраза начального абзаца ретроспективна: «С течением времени все его мечты могли исполниться..., но путь его был долог и ни к чему не привел» (здесь и далее в художественном тексте курсив наш. - И.К.). В последней подводится итог: «все кончилось хорошо». Между этими двумя предложениями - целая жизнь, уложившаяся в пять страниц, жизнь, состоящая из любви и измен, взаимонепонимания и примирений, а главная героиня проходит свой путь - от «молодой, симпатичной, с ямочками, с толстой косой» девушки до «старой старухи сорока с гаком лет», в конце концов «вляпавшейся в эту историю с параличом», закончившуюся ее смертью.
Следующий рассказ цикла - «Еврейка Верочка» - содержит в начальном абзаце ответ на два вопроса - «Кто?» и «Что делает?»: «Нас познакомили на предмет шитья брюк, сказали, что есть великолепная брючница Вера». Героиня умирает, родив страстно желаемого ребенка. Интересно, что последний абзац рифмуется здесь не с начальным, а с последним же предыдущего рассказа: «.. .Верочка глядит теперь с небес на своего ребеночка и беспокоится о нем, они есе там о нас беспокоятся, все, кто нас любил». Кроме того, внимательный читатель, знакомый с творчеством Л. Петрушевской, обнаружит в новелле еще одну, внутреннюю рифму с рассказом, входящим в состав другого цикла: «Я все лелеяла в душе воспоминания о чудесной Верочке, о новом Робинзоне, о благоустроенном острове среди житейских бурь...»- рассказ называется «Новые Робинзоны» и его герои сумели создать свой остров спасения.
«Она уже умерла, и он уже умер, кончился их безобразный роман, и, что интересно, он кончился задолго до их смерти» - так начинается следующий рассказ - «Дама с собаками». В начальной фразе, по сути, уже заключен весь сюжет и, казалось бы, что еще можно добавить, если итог известен. В последнем абзаце мы находим прямую перекличку с начальной фразой: «Никто не знает, как она умерла... Чем-то это все должно же было кончиться, эта безобразная жизнь, . ..слишком шумная и бурная для наших условий», а заключительное предложение звучит так: «...ясно только одно: что собаке пришлось туго после смерти своей Дамы, своей единственной». Таким образом, финал вновь возвращает нас к заглавию.
Точно такой же прием Л. Петрушевская использует и в других произведениях этого цикла, например: рассказ под названием «Смысл жизни» заканчивается фразой: «Вот вам и задача о смысле жизни, как говорится»; новелла «Сирота» завершается двусловным назывным предложением: «Сирота, сирота»; «О, счастье» - «Очень хотелось плакать — от счастья, видимо, от счастья». В ряде рассказов наблюдается обратная связь - между заглавием и начальной фразой, например: «Кто ответит» - «А кто ответит за...»; «Грипп» - «Всему виной, очевидно, все-таки был грипп...»; «Богема» - «Из оперы «Богема» следует, что...» и т.п.
Внутренняя текстовая рамка (мы имеем в виду связь между начальным и конечным абзацами, а также связь заглавия произведения с одним из этих элементов текста) расширяется за счет связи между произведениями, входящими в состав цикла. Так, если первый рассказ заканчивается утешительной фразой: «....все кончилось хорошо...» (потому что, напомним, Она все-таки успела сказать Ему: «Я люблю тебя»), в конце второго эта мысль расширяется: «.. .они все там о нас беспокоятся, все, кто нас любил»; четвертый рассказ цикла, озаглавленный «Мистика», развивает все ту же мысль о жертвенной любви, составляющей - по большому счету - смысл человеческой жизни: «...какая-то ее (матери. - И.К.) тень лежит поперек всей Ритиной горькой судьбы, какая-то защитная тень, тень великой любви»; «...не выдержав этой великой любви», Он от Нее ушел («споткнувшись на крыше, не смог удержаться и соскользнул вниз») - таков финал рассказа «Элегия», но «...Нюра не просто так умерла..., раз ее печальный образ витает над разбежавшейся толпой...» («Нюра Прекрасная»).
Все приведенные выше примеры, на наш взгляд, позволяют говорить о том, что в пределах одного цикла автор использует устойчивые формулы, достаточно традиционную «рамочную» композицию, в которой задействованы различные уровни связей: между заглавием и начальной фразой/абзацем рассказа; между заглавием и конечным абзацем/фразой; между начальным и конечным абзацами произведения, а также между отдельными произведениями, входящими в состав одного цикла.
«Если начало текста в той или иной степени связано с моделированием причины, то конец активизирует признак цели. .. . В связи с разной отмеченностью начала или конца в культурных моделях разного типа вперед выдвигается рождение или смерть как основные моменты бытия...» [Лотман 1970: 262]. В качестве такого «основного момента бытия» в цикле «Реквиемы» (само заглавие которого является выражением определенной авторской интенции) Л. Петрушевская выдвигает на первый план именно тему смерти.
Анализ функционирования первого и последнего абзацев, а также фраз рассказов, которые составляют этот цикл, позволяет сделать вывод, что их совокупность образует систему, выполняющую как репрезентативную, так и интонационно-ритмическую функцию («функцию камертона») для всего цикла, а следовательно, может рассматриваться в качестве одной из циклообразующих связей.
Проза Людмилы Петрушевской в контексте фольклорно-литературных традиций
Опубликованный впервые в 1980 году в журнале «Новый мир», цикл «Песни восточных славян» имел подзаголовок «Московские случаи» и своего рода авторскую аннотацию, «расшифровку» термина «случаи» как «особенного жанра городского фольклора». Позднее, войдя во второй том Собрания сочинений (1996), цикл утратил и то, и другое; несколько изменился и его состав: были добавлены два рассказа и произведена небольшая перегруппировка произведений внутри цикла (см. Приложение 3).
Поскольку вопросу о восприятии этого цикла в литературной критике посвящена довольно обстоятельная статья Б. Тесмер (2001), мы во избежание повторения воспроизведем ее основные положения. Автор статьи отмечает, что оценки ранних рецензий на цикл «Песни восточных славян» колеблются между однозначным признанием и жесткими опровержениями. Так, Е. Гессен и Н. Иванова подчеркивают инновативный аспект текстов Л. Петрушевской, «ее поиск продуктивных путей в современной, отмеченной эклектизмом, культуре». В то же время Е. Шкловский утверждает нечто противоположное: «Непритязательные рассказики о разные невероятных историях, где роль повествователя... кажется сведенной к минимуму, но зато вовсю бушует стихия «черного юмора» с натуралистической жутью описаний» [Шкловский 1992: 4]. Авторы более объемных и более глубоких статей, как справедливо указывает Б. Тесмер, обращают внимание главным образом на связь произведений Л. Петрушевской с фольклором, на жанровую структуру, повествовательные инстанции и стилистические особенности рассказов. В частности, Н. Колесникова, соотнося «Песни...» с традиционным жанром русского фольклора, считает, что истории, собранные в цикл, функционируют как современный эквивалент быличек. Тематическую эквивалентность эта исследовательница видит «.. .в проникновении сверхъестественных явлений в современный мир..., структурное сходство - в употреблении установленных вступительных выражений». Некоторые исследователи (М. Липовецкий, А. Куралех) считают, что пражанр «Песен...» Л. Петрушевской - детские страшилки (один из видов детского фольклора). Однако если Марк Липовецкий использует этот термин нейтрально, то А. Куралех считает, что, прибегая к этому приему, писательница тем самым вредит эстетической ценности произведений. По мнению Б. Тесмера, наиболее интересный и продуктивный метод анализа цикла предложен Карлой Гильвер, которая, опираясь на характерную манеру повествования Л. Петрушевской, зародившуюся на основе будничной устной коммуникации, выводит связь дискурса писательницы с мифом и фольклором вообще. «В цикле наблюдается, справедливо замечает К. Гильвер, захватывающее и напряженное взаимодействие будничной тематики и мифа. Новый жанр... горо декого фольклора все больше открывает повествованию путь к мифологическим структурам, не несущим определенного отпечатка времени. Сжатость в «Песнях восточных славян» устраняет все следы пересказа, так что остается только «случай» [цит. по Тесмер 2001: 133]. Б. Тесмер относит данный цикл к «интенционально строго скомпонованным текстам, требующим высокой читательской компетенции». Мы также полагаем, что авторская заданность структуры и постоянство расположения цикла в составе книг (всегда после цикла «В садах других возможностей») свидетельствуют об определенной писательской интенции.
Поскольку анализ заглавия цикла «Песни восточных славян» был представлен ранее, в соответствующем параграфе нашей работы, следует рассмотреть внутреннюю структуру данного произведения.
Г. Писаревская в своей диссертационной работе обращает внимание на тематические переклички между циклом А.С. Пушкина «Песни западных славян» и циклом Л. Петрушевской: «Они рассказывают о непонятном, таинственном, мистическом... (у А. Пушкина - «Марко Якубович», у Л. Петрушевской -«Материнский привет», «В маленьком доме», «Жена»), о вещих снах («Видение короля» у А. Пушкина - «Рука» у Л. Петрушевской), о заблуждениях и их последствиях («Феодор и Елена», «Вурдалак» у А. Пушкина - «Месть», «Материнский привет» у Л. Петрушевской)» [Писаревская 1995: 124-125].
Обратим внимание на то, что, с нашей точки зрения, речь может идти только о весьма отдаленных перекличках, поскольку они свидетельствуют, на наш взгляд, не столько об отталкивании Л. Петрушевской от пушкинских «Песен...» и даже не о «полемичности и пародийности заглавия и одновременно жанрового определения у Л. Петрушевской по сравнению с пушкинским», как считает Г. Писаревская, сколько об устойчивости народно-поэтических представлений и образов, к анализу которых мы обратимся позднее.
Г. Писаревская справедливо указывает на присутствие в обоих циклах образа рассказчика, что, с ее точки зрения, служит еще одним основанием для сопоставления этих произведений. Однако исследовательница не учитывает типологическое различие этих образов.
Пушкинский Иакинф Магланович, гузлар, которому приписывается не только исполнительство, но и авторство песен, имеет творческую биографию. Это талантливый поэт, выдвинутый самим народом, и, хотя Магланович вполне мог быть образом собирательным, обобщенным, А. Пушкин считает нужным своим авторитетом утвердить мысль о реальности его существования. Неслучайно он включает в состав своего цикла «жизнеописание поэта-славянина», где мы находим мастерски нарисованный портрет Маглановича, преображающегося а минуты вдохновения.
Образ рассказчицы «случаев» у Л. Петрушевской принципиально иной, поскольку здесь мы имеем подчеркнуто бытовую форму подачи материала. По точному наблюдению Н. Ивановой, «это жительница московской окраины... не коренная москвичка, судя по языку, приехавшая в Москву, видимо, в 30-е годы, поднаторевшая в столичной жизни, но навсегда оставшаяся провинциалкой; внерелигиозная, но заместившая веру истинную — верой в чудеса и тайны, отчаянно жадная до слухов, ... упорно отстаивающая идею справедливого возмездия» [Иванова 1991: 220].
Весьма отличается и общий пафос циклов А. Пушкина и Л. Петрушевской.
«Песни западных славян» рассказывают о жизни сербского народа, его самоотверженной борьбе за свободу. По мнению Г. Макагоненко, это «оригинальный, внутренне единый и цельный цикл песен, раскрывающий дух народа, его самосознание, его высокий уровень духовной культуры. ... А. Пушкин видел, что с максимальной полнотой народная жизнь, народное миросозерцание, народный дух и народные идеалы проявляются в годы борьбы за свободу. ... Оттого в центре цикла - песни о воюющем народе, о жизни народа в годы борьбы за свободу » [Макогоненко 1982: 280-285].
В цикле Л. Петрушевской героическая тема полностью отсутствует, хотя действие многих «случаев» происходит в годы Великой Отечественной войны. На наш взгляд, это весьма показательно.
Определение «песни», включенное Л. Петрушевской в заглавие цикла, коннотируя со словосочетанием «восточных славян», содержит эксплицитную отсылку к почти одноименному пушкинскому циклу. Нам представляется, что это сделано автором с вполне определенной целью: вызвать у читателя ассоциации, отражающие соответствующие культурные представления и традиции, и тем самым мистифицировать его, ввести в заблуждение.
В случае с циклом А.С. Пушкина мы имеем дело действительно с песнями в традиционном понимании этого слова, поскольку налицо все основные признаки песни как лиро-эпического жанра: обязательная строфичность, точная рифма (в ряде случаев), сочетание повествовательного и эмоционального начала, музыкальный ритм (поскольку песня - одна из форм словесно-музыкального искусства) и т.д.
В «Песнях восточных славян» Л. Петрушевской нет ни одной из перечисленных жанровых особенностей. Более тогр, определение жанровой природы текстов, составляющих цикл, как «песни», дополняется еще одним, данным писательницей в подзаголовке: «случаи». По этому поводу критик Н. Иванова остроумно (и, на наш взгляд, небездоказательно) отмечает: «..."песня", скрещенная со "случаем" - современная эманация жанра "жестокого романса"», для которого, по ее мнению, характерны контрастные сочетания высокого и низкого социального статуса героев, авантюрный сюжет (преступление), высокая моральность (наказание), присутствие фантастических сил (тайна) и вульгарно-городское просторечие.
Все это вместе взятое приводит к выводу, что между циклами А.С. Пушкина «Песни западных славян» и Л.С. Петрушевской «Песни восточных славян» гораздо больше различий, нежели сходства.
Герой-рассказчик и его маски
Искусством перевоплощения Л. Петрушевская владеет в совершенстве. В связи с этим необходимо отметить беспредельную «болтливость» ее рассказчиков (точнее, рассказчиц), о чем говорят многочисленные ситуации случайных разговоров с незнакомыми людьми в транспорте («Медея», «Рассказчица»), в больницах («Скрипка», «Бедное сердце Пани»), неожиданных откровений и сверх меры интимных исповедей чужим, попутчикам («Рассказчица»), соседям по дому или по даче («Богема», «Мистика»), знакомым («Гость»), родственникам (та же «Мистика»), собственному сыну («Случай Богородицы»).
Мир видится сразу и поочередно множеством глаз, с множества позиций, и потому предстает как бы в разбросанном, «небрежном» состоянии. Характерный тип героя у Л. Петрушевской - герой чрезмерно болтливый. Его типологическая формула, по точному замечанию А. Мигрофановой, задается в первой фразе новеллы «Рассказчица»: «Ее можно заставить рассказать о себе все, что угодно, если только кто захочет этого». И далее: «Она совершенно не дорожит тем, что другие скрывают или, наоборот, рассказывают с горечью, с жалостью к себе, со сдержанной печалью. Она даже, кажется, не понимает, зачем это может ей понадобиться и почему такие вещи можно рассказывать только близким людям да к тому же потом жалеть об этом» (I, 73).
Почти ту же ситуацию мы видим в рассказе «Мистика»: «Ничего не удерживалось в этой бедной семье, в среде сестры, брата и их юных мужа и жены, все вываливалось и запросто обсуждалось, даже мелкие неприятности в виде повышенной сексуальности маленькой Лизы. Обсуждалось все и обесценивалось, лишенное тайны». Л. Петрушевская, на наш взгляд, «примеряет» и такую маску рассказчика.
В подобной маске нашли свое отражение такие герои, как Толя, который «заводит речь издалека, говорит своим нежным голосом какую-то чушь, хотя он одарен необыкновенно тонким вкусом и все ощущает так, как надо. Но все это он говорит так долго, нудно, пережевывает все одну и ту же мысль, что он потерян, что потерял нить жизни, что его ничто не волнует, никакие вещи, что он иногда сам для себя решает что-нибудь совершить, испытать, кидается в крайности, но остается все таким же равнодушным» (I, 50); как Кларисса, которая «можно сказать, беспрерывно продолжала свой спор с мужем, продолжала доказывать свою правоту и свою точку зрения даже тогда, когда находилась далеко от него, на службе, в гостях у подруг, в самых неподходящих обстоятельствах. Она вела свой монолог на одной и той же ноте протеста, с горящими щеками, с позывами к плачу» (I, 106); как Клавдия, которая «потом многим рассказала, что у нее должен был родиться мальчик - через столько-то месяцев, потом столько-то месяцев назад, она считала свои сроки как настоящая мать, хотя и прибавляла при этом, что это все было делом случая и она раньше ни о чем не подозревала. Но все воспринимали ее расчеты и рассказы с каким-то странным чувством, и все дружно молчали в ответ, словно бы не зная, что с этим фактом поделать. Поэтому и Клавдия со временем умолкла...» (II, 39-40).
Зачастую для рассказчика Л. Петрушевской нет никаких запретных тем, все лишается тайны, все предельно открыто; одним из наиболее ярких подтверждений, на наш взгляд, служит рассказ «Случай Богородицы», героиня которого мучает своего сына чрезмерно интимными откровениями о том, «что она легла на родильный стол девственницей, но врач не стал вмешиваться хирургическим путем и женщиной ее сделал сын. ...Он лежал, глядя в потолок и стиснув зубы от ужаса. .. .Но мать не щадила его...» (I, 22).
Думается, именно эта беспощадность рассказчика, маску которого использует писательница, и дает возможность критикам упрекать в безжалостности саму Л. Петрушевскую.
Исследуя новеллистику М. Зощенко, Н. Попова пишет: «Принято считать, что театр требует от актера полного перевоплощения. Некоторые критики настаивают на том, что, подобно режиссеру, который должен умереть в актере, актер в свою очередь должен полностью растворить свое "я" в создаваемом характере персонажа. Другими словами, зритель должен забыть об исполнителе и видеть только изображаемого героя. Б. Брехт, однако, полагал, что "с актера надо снять бремя полного перевоплощения в изображаемый персонаж. В игру актера нужно было как-то ввести некоторую отдаленность от изображаемого им персонажа. Актер должен получить возможность критиковать его"» [Попова 1989:21].
Примерно по тем же законам, вслед за М. Зощенко, строит авторские отношения с повествователем и Людмила Петрушевская. Она не возвышается над героями, не использует, по существу, принцип прямой авторской оценки, а предпочитает надеть на себя маску обывателя. Как представитель обывательского мира, он(она) привносит в описываемое событие соответствующее видение действительности, своеобразное понимание жизни. Следует отметить, что рассказчик Петрушевскои тонко все чувствует, замечает, он довольно проницателен и умен, где-то даже беспощадно остер на язык, поэтому временами возникает иллюзия некоторой сопричастности автора линии отдельных рассуждений рассказчика. Л. Петрушевская применяет такие приемы автокоммуникации (модель «автор-автор»), как метаязыковые вставки (одно-два уточняющих слова), например: «...двинулась не по привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице...», или: «.. .ушедшая в свое тело как в раковину, именно ушедшая решительно и самостоятельно...» («По дороге бога Эроса»); используются также вставки комментирующего, факультативного или оценочного характера: «Люди быстро объединяются на почве общего негодования, забыв все свои взаимные чувства, и ничего хорошего из этого, как правило, не возникает...» (там же), или: «...есть такие люди с определенной мимикой, они всегда улыбаются и в этом их обаяние, но улыбка эта не означает ровным счетом ничего, и многие люди ошибаются, приняв ее на свой счет...» (там же). Прибавим к этому прием моделирования ситуации автополемики, выстраивание вопросительных цепочек типа: «А кто ответит за невинные слезы Веры Петровны, за ее невинные, бессильные старческие слезы на больничной койке перед тем, как Вера Петровна умерла? Кто отомстит за кровь Веры Петровны - не буквально за кровь, кровь не была пролита и застыла в жилах, - но так говорится: кто отомстит за кровь и за то, что к концу жизни Вера Петровна от различных препаратов стала безумицей...» (II, 31) и т.п.
Повествовательная норма требует единства точки зрения: в пределах одного повествования один и тот же персонаж должен обозначаться единообразно - либо всегда первым, либо всегда третьим лицом, поскольку «точка зрения определяется выбором одного из субъектов на роль говорящего, и ясно, что говорящий не может меняться на протяжении своей речи» [Падучева 1996: 336]. Однако как и многие другие повествовательные нормы, эта может быть нарушена или быть предметом намеренного обыгрывания (например, «Дар» В. Набокова или рассказ «Общение» Беккета).
Примером такого рода нарушения нормы может служить рассказ Л. Петрушевской «Бал последнего человека». Здесь есть рассказчица, образ которой практически не поддается определению, поскольку у нее нет ни имени, ни биографии, ни поступков, что заставляет отнести его к экзегетическому, не-персонифицированному типу повествователя. Однако она является одним из персонажей текста, что подтверждают ее высказывания типа: «Ты мне говори, говори побольше о том, что он конченый человек, он алкоголик, и этим почти все сказано, но еще не все» (отметим, кстати, что эта реплика - начальная фраза рассказа; таким образом создается ощущение, что разговор начат если и не давно, то, во всяком случае, не сию минуту); «Я думаю, как должна любить его старуха мать, как она его должна любить, просто уму непостижимо».
Здесь есть голос героини: «А ты сидишь на своей тахте, подобрав ноги, и счастливо смеешься: "Я вижу все в четвертом измерении, это прекрасно. Это прекрасно"». Однако наряду с употреблением прямой речи совмещена и несобственно-прямая; правда, следует отметить ее эксплицитную мотивацию: «Ты можешь еще наговорить такого, что когда-то ты все думала, что, может, родить от него ребенка, но потом поняла, что это ничему не поможет...» и т.п.
Специфика взаимодействия авторских планов в прозе Л. Петрушевской
Для прозы Л.С. Петрушевской, отличающейся сказовой формой повествования, характерно несовпадение точек зрения в плане фразеологии и в плане идеологии. Это несовпадение - своего рода средство выражения иронии. Ирония, пародия всегда рассчитана на диссонанс - по крайней мере первичный -между тем, что сообщается, и тем, как сообщается. Но это нарушенное соответствие восстанавливается пониманием истинного содержания сообщения, которое в результате оказывается противоположным непосредственному содержанию (т.е. говорится не то, что думается) и тем самым адекватным форме, стилю.
В произведениях Л. Петрушевской повествование ведется, как мы уже указывали, с фразеологической точки зрения рассказчика, но композиционной задачей является оценка этого персонажа с другой точки зрения. Таким образом, в плане фразеологии данное лицо выступает как носитель авторской точки зрения, а в плане идеологии - как объект авторской оценки. Как мы убедились, рассказчик - часть той среды, о которой нам повествует автор; иными словами, автор прячется под маской рассказчика, играя с читателем/слушателем на несовпадении позиции описывающего и позиции воспринимающего (слушателя/читателя). Вот два примера подобного рода авторской иронии, основанной на нарочитом противопоставлении (диалогизации) точек зрения автора и читателя: «Наш муж принял муки ада, любовь и долг прогрызали его насквозь, он занял твердую и неуступчивую позицию в адрес своей подруги, хотя и иногда облегченно плакал у нее на плече, если удавалось» («Я люблю тебя» II, 10); «...а ее муж вообще частенько застывает в позе статуи Свободы, как бы тщась достать до потолка и с измученным лицом, и за это получил вторую группу по шизофрении, ибо и в больнице ничего не выдал, как партизан, ничего и никого, кому он там протягивал вверх руку» («Мистика» II, 22). Ирония тут предстает как особый случай авторского «притворства», своеобразного юродства. Этот диссонанс имеет идеологическое оправдание. Дело в том, что, как отмечают некоторые исследователи, «истинной», «единственно правильной» эмоциональной реакции на происходящее зачастую просто не может быть.
В речи рассказчика у Л. Петрушевской также часто слышна ирония; так, почти гротескно рисуется образ «хахаля» (рассказ «Темная судьба»): «...он был известен на работе как любитель пирожных, вина, еды, хороших сигарет, на всех банкетах он жрал и жрал, а виной всему был его диабет и непреходящая жажда еды и жидкости, все то, что мешало и помешало ему в карьере. Неопрятный внешний вид, и все. Расстегнутая куртка, расстегнутый воротник, бледная безволосая грудь. Перхоть на плечах, плешь. Очки с толстыми стеклами» (I, 222). Но после этого безжалостно-насмешливого взгляда на Него мы слышим горькую иронию, иронию-сострадание по отношению к Ней: «Вот какое сокровище вела к себе в однокомнатную квартиру эта женщина, решившая раз и навсегда покончить с одиночеством и со всем этим делом, но не деловито, а с черным отчаянием в душе, внешне проявлявшимся как большая человеческая любовь, то есть претензиями, упреками, уговорами сказать, что любит, на что он говорил: "Да, да, я согласен"» (там же). Отношение героини к своему «суженому» двуедино: «слезы счастья» и «позор» («Все было понятно в его случае, суженый был прозрачен, глуп, не тонок, а ее впереди ждала темная судьба, а на глазах стояли слезы счастья» - так звучит финальная фраза рассказа).
Точки зрения, как мы убедились, комбинируются. Мы имеем дело с авторскими масками, но, как нам кажется, и герои Л. Петрушевской тоже в масках. Это общеобязательные маски жизни: обязательно нужно иметь соответствующее положение на службе, в обществе, для женщины обязательно наличие «хахаля» (см. уже упоминавшийся рассказ «Темная судьба», для героини которого «...вечером начиналась опять га, настоящая жизнь, и неожиданно для себя эта женщина вдруг заявила своей сослуживице: "Ну как, ты нашла уже себе хахаля?" - "Нет",- ответила эта сослуживица стесненно, поскольку ее недавно бросил муж и она переживала свой позор в одиночку... "Нет, а ты?" — спросила сослуживица. "Я - да", - ответила она со слезами счастья...» (I, 223). Особенно ярким примером того, что нередко герои Л. Петрушевской прячут свое истинное «я» под маской, может служить рассказ «Свой круг». Вот как характеризует сама себя рассказчица: «Л человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных, румяных губах, всегда ко всем с насмешкой». Ее основная роль — «резать правду-матку» всем окружающим прямо в глаза. Центр «круга» - Мариша, «наше божество», «...все как с цепи сорвались еще на первом курсе института по поводу Мариши, и эта игра все длились до сих пор...». Муж Мариши, Серж - непризнанный гений; маска Жоры - «бонвиван» и «распутник», хотя «все...знали, что тут игра, что Жора всегда играет со студенческих лет..., а на самом деле он ночами пишет кандидатскую диссертацию для своей жены и встает к своим трем детям, и только по пятницам он набрасывает львиную шкуру...» (I, 51). Подобные маски скрывают истинное лицо каждого из персонажей рассказа. Можно говорить и об общей, объединяющей всех членов «своего круга» роли чадолюбивых родителей, «поскольку без детей как-то нелепо жить, не принято было жить, самый-то эффект заключается в том, чтобы жить с детьми, возиться с кашами, детскими садами, а в ночь на субботу почувствовать себя людьми и загулять на полную мощность...» (I, 50).
Л. Петрушевская убедительно доказывает, что «двойная игра» - основа нашего существования, так как у каждого есть своя маска (а может быть, и не одна).
Следует отметить, что в рассказах писательницы встречается довольно много иронических высказываний в адрес персонажей типа: «...если он попадался им на своем целеустремленном пути, а вид у него был действительно целеустремленный, такой же, как у Пульхерии, когда она торопилась домой...»; «Пульхерия не стеснялась ни своего старого легкого пальтеца с висящими кое-где нитками, ни своей шапки, бывшей меховой, еще со времен молодости» («по дороге бога Эроса»); «Шила себе платья сама по единому незатейливому фасону, длинные и мешковатые, чтобы скрыть полноту и драные чулки, на которые вечно не хватало денег. На языке многочисленных гостей и родни это называлось "одеваться скромно и со вкусом"» («Я люблю тебя») и т.п. Этой же цели служат и многочисленные метафоры, охотно и уместно используемые писательницей. Среди них есть и привычные, несколько даже уже затертые: «поплыла по житейскому морю», «червь отчаяния начал глодать ее уже ночью», «Пульхерия...оттолкнулась от житейского берега и взмахнула веслами, чтобы уже никогда больше не возвращаться в прежнюю жизнь»; есть и очень меткие, самостоятельные находки: «ее гений послал сияющий луч доброты в адрес соседа справа», «въехала сюда на плечах мужа», «однажды вечером долго не уходила с работы, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице», «и мужики, почуяв, что она "ослабла на передок", по выражению коллег, проторили в ее комнату тропу» и т.п.
Созданию атмосферы, пронизанной иронией, способствует и употребление слов в непривычном значении: «...жили, пока наконец брат не женился на красавице из города Хабаровска, юной, стройной как хлыст» (эффект обманутого ожидания); «От нее буквально шарахались живые люди» (нарушение сочетаемости слов); «...а энцефалитные бродили как тени и заходили к живому трупу» (реминисценция); «Бывают же такие женщины, думал, разметавшись по постели, одинокий муж (нарушение семантической сочетаемости), а за стеной приплакивали и всхлипывали его дети...и храпела его жена-сердечница».
Л. Петрушевская постоянно экспериментирует с языком, как бы играет со словами, придавая им ироничное значение, сталкивая переносное и прямое значение слов: «Жила она и зарабатывала честно и блестяще, но больше я никогда ее и не увидела, дела мои шли, в свою очередь, далеко не блестяще, было не до брюк» («Еврейка Верочка»); «А он вон он - выучился, вот тебе и раз, оказывается, в институте и далеко пошел, стал редактором и так далее, но не ушел далеко» («Сирота»); «...скроив и сметав на живую нитку такой-то размер, она надевала этот полуфабрикат на живую клиентку» («Еврейка Верочка») и т.д.
Писательница использует игровой прием лексико-синтаксической несочетаемости, например: «Но что-то с этими брюками вышло плохо, их надо было в результате прикрывать свитером, и в следующий раз, через два года и перед отпуском, я и набрела через знакомых на Верочку (синтаксическая несочетаемость, так как набрести можно на что-то, то есть на неодушевленный предмет) - рассказ «Еврейка Верочка»; «...уже упомянутая англичанка плюс почему-то учительница рисования где-то у черта на рогах, в Черемушках» - «Мистика»; «...свято верила в свою долю счастья и в свою пластичность по Алексеевой» (там же); «...но каждый раз, не поняв ничего, насильственно набираю ваш номер и веду какие-то насильственные, не освященные никакой целью разговоры...» - «Гость»; «...и пошел себе со своим толстым животом, детским разумом и запахом чистого, ухоженного чужого тела...» (синтаксическая несочетаемость) - рассказ «Темная судьба».