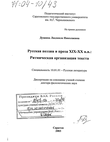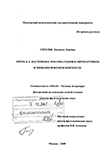Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Космогонический миф в прозе Л. Улицкой 26
1.1. Функция семейного мифа в произведениях Л. Улицкой 27
1.2. Вещный мир прозы Л. Улицкой в контексте концепции «хаосмоса» 40
1.3. Неототемизм как способ типологизации героев 48
1.4. Моделирование хронотопа как механизм инволюционной стратегии автора 52
1.5. Роль ритуала в индивидуальной мифологии Л. Улицкой 61
1.5.1. Сюжет инициации в авторской космогонии 62
1.5.2. Авторский миф о напрасной жертве 67
1.5.3. Мотив поминовения в контексте мифа о воскрешении 73
Глава 2. Близнечный миф в прозе Л. Улицкой 78
2.1. Типология героев-близнецов 80
2.1.1. Миф о близнецах-союзниках 81
2.1.2. Миф о близнецах-соперниках 84
2.2. Близнечный миф как механизм текстопорождения 90
Глава 3. Индивидуальная мифология Л. Улицкой 109
3.1. Миф об Амуре и Психее в контексте архаической мифологии и классической литературы 113
3.2. Л. Улицкая в диалоге с А. С. Пушкиным: миф о пиковой даме 126
3.3. Трансформация чеховского мифа в рассказе Л. Улицкой «Большая дама с маленькой собачкой» 132
Заключение 142
Библиографический список использованной литературы 149
- Функция семейного мифа в произведениях Л. Улицкой
- Моделирование хронотопа как механизм инволюционной стратегии автора
- Близнечный миф как механизм текстопорождения
- Трансформация чеховского мифа в рассказе Л. Улицкой «Большая дама с маленькой собачкой»
Введение к работе
Творчество Людмилы Улицкой в последние годы стало объектом пристального изучения критиков и литературоведов. Возросший интерес можно объяснить рядом причин, среди которых интерес отечественных и зарубежных читателей, литературные премии и награды различного уровня. Несмотря на активность литературоведов и критиков, творческий метод писателя до сих пор не нашёл однозначного определения. Звучат противоречивые оценки творчества Л. Улицкой: «женская проза» (Т. Казарина), «дамская литература», «средняя проза», «примитивизм наивного искусства» (О. Рыжова), постмодернизм (О. Дарк), мейнстрим (Д. Шаманский, О. Рыжова, Л. Данилкин), реализм (Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий), неосентиментализм (В. Юзбашев, М. Золотопосов). Интересен феномен прозы Л. Улицкой и потому, что возникает в современном литературном процессе в период «угасания» постмодернизма, возвращая культурные ценности и стилистику неосентиментальной и реалистической традиции XIX века. Диалог с классикой, который выстраивает Л. Улицкая, базируется на механизмах неомифологизма, что позволяет рассматривать ее прозу как феномен индивидуального мифотворчества.
Актуальность диссертационного исследования обусловлена недостаточной изученностью творчества Л. Улицкой при высоком уровне его востребованности современным читателем, издателем и критиком. Реактушшзация мифа в современной культуре открывает широкие перспективы исследования текстов Л. Улицкой с точки зрения их глубинной связи с архетипами. Мифопоэтический подход даёт возможность исследовать специфику авторского неомифологизма, механизмы текстопорождения и позволяет уточнить место прозы Л. Улицкой в литературно-культурном контексте нашей эпохи.
В литературоведении на данный момент исследуются различные аспекты поэтики Л, Улицкой: интертекстуальность, автопародия, особенности моделирования хронотопа, образная система романов,- стилистические метаморфозы, жанровые особенности, мотивика.
В последние несколько лет интерес к творчеству Л. Улицкой в отечественной критике возрос, однако аналитических работ появилось немного. Идея «положительного» героя проходит через все рецензии. Критики усматривают глубокую интертекстуальность и мифологичность её произведений. А. Кузичева сопоставляет «Сонечку» с пре-текстами: Чеховым, Достоевским, Трифоновым. Т. А. Ровенская исследует параллели в романе Л. Улицкой «Медея и её дети» и повести Л. Петрушевской «Маленькая Грозная». И. Савкина анализирует жанровые особенности семейных хроник В. Аксёнова и Л. Улицкой. Характерными чертами поэтики Л. Улицкой исследователи называют «сказочность», цикличность, реалистичность. Наряду с положительными звучат крайне ^негативные отзывы (О. Славникова, И. Кириллов, Г. Ермошина, М. Галина). Л. Улицкую упрекают в отсутствии глубины, расписашгости сюжетных ходов, искусственности, happy end-e. В аналитических работах приоритетной стала проблема авторского мифотворчества Л. Улицкой (Т. Казарина, Т. А. Ровенская, М. А. Болотова, Р. Джаквинт'а, С. Тимина, Н. Л. Лейдерман, М. Н. Липовецкий, Н. А Резяпкина). Последний аспект, по нашему мнению, заслуживает системного изучения. Людмила Улицкая не только активно обыгрывает инвариантные сюжеты традиционной мифологии в своих текстах, но и воспроизводит глубинные механизмы мифологического мышления на уровне авторской стратегии.
Цель диссертации - выявление специфики и особенностей моделирования авторской мифологии Л. Улицкой.
Поставленная цель предполагает решить следующие задачи:
рассмотреть способы моделирования космогонического мифа Л. Улицкой;
определить своеобразие архетипов демиурга и трикстера в анализируемых текстах, а также характерные черты образа автора-демиурга в маске трикстера;
- раскрыть на различных уровнях текста функциональную значимость
близнечного мифа;
- проанализировать трансформацию мифологем русской классической
литературы в произведениях Л. Улицкой.
Объект исследования - проза Л. Улицкой.
Предмет - мифопоэтика прозы Л. Улицкой.
Гипотезу диссертационного исследования можно определить следующим образом: неомифологизм Л. Улицкой базируется на космогоническом, близнечном мифах, а также на классических литературных мифах XIX века; мифологизируется образ автора, роль которого может быть соотнесена с демиургом в маске трикстера.
Теоретико-методологическую основу исследования составили труды литературоведов и философов, работавших в русле мифологического подхода («Аспекты мифа» М. Элиаде, «Первобытное мышление» Л. Леви-Брюля, «Структурная антропология» К. Леви-Строса, «Поэтика мифа» Е. М. Мелетинского,' «Миф. Ритуал. Символ. Образ» В. Н. Топорова, «Философия. Мифология. Культура» А. Ф. Лосева, «Поэтика сюжета и жанра» О. М. Фрейденберг, «Исторические корни волшебной сказки» В. Я. Проппа, «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» М. М. Бахтина, «Космогония и ритуал» М. Евзлина).
Цели и задачи исследования продиктовали также необходимость использования ряда других подходов и методов: структурно-семиотического метода (Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, Б. А. Успенский), постструктуралистского (Р. Барт, А. К. Жолковский, Б. М. Гаспаров), аналитической психологии (К.-Г. Юнг, М. Франц, Дж. Л. Хендерсон).
Научная новизна исследования определяется, прежде всего, тем, что на материале прозы современного писателя реконструирована мифопоэтическая система, включающая космогонический, близнечный мифы и вторичную мифологию классической русской литературы. В рамках мифологического подхода, выбранного в качестве доминирующего в исследовании, осуществлена попытка не только проанализировать индивидуальную мифологию писателя, но и смоделированный на основе мифологических архетипов образ автора.
Теоретическая значимость. В работе уточняются понятия из области мифопоэтики (демиург, трикстер, близнечный миф, неомифологизм), что позволяет применять полученные результаты в теоретических исследованиях по проблемам мифопоэтики. Изучение поэтики современного писателя позволяет дополнить и скорректировать картину литературного процесса конца XX века.
Практическая ценность. Материалы исследования могут быть использованы в вузовской практике, в курсах по истории русской литературы XX века, в спецкурсах и спецсеминарах по новейшей литературе, а также в рамках школьного образовательного процесса.
Апробация работы. Материалы диссертации излагались на методологических семинарах филологического факультета, заседаниях кафедры теории и русской литературы XX века БГПУ (АлтГПА). Основные положения исследования были представлены на конференциях: Международной конференции «Культура и текст» (Барнаул, сентябрь 2005 г.),
городской научно-практической конференции молодых учёных «Молодёжь -Барнаулу» (Барнаул, ноябрь 2005 г.), Международной научной Интернет-конференции «Художественная литература и религиозные формы сознания» (Астрахань, апрель 2006 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Художественный текст: варианты интерпретации» (Бийск, май 2006 г.), городской научно-практической конференции молодых учёных «Молодёжь -Барнаулу» (Барнаул, ноябрь 2006 г.), Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, декабрь 2006 г.), Международной научно-практической конференция «Воспитание читателя: теоретический и методологический аспекты» (Барнаул, март 2007 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Художественный текст: варианты интерпретации» (Бийск, май 2007 г.). По теме диссертации опубликовано одиннадцать работ. В том числе опубликована одна статья в издании, рекомендованном ВАК.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, включающего 208 наименований.
На защиту выносятся следующие положения:
Космогонический и близнечный мифы составляют основу авторской мифологии в прозе Л. Улицкой.
Архетипы демиурга и трикстера в творчестве Л. Улицкой частично переосмыслены, их антитетичность становится относительной в силу оборачиваемости их функций. Вследствие этого роль второго близнеца оказывается более значимой.
Мифотворчество Л. Улицкой базируется не только на архаической мифологии, но и на мифах классической русской литературы.
Образ автора вопреки традиционному биографическому мифу
писателя - от подражателя к творцу - строится по обратной модели:
автор-демиург надевает маску автора-трикстера.
Функция семейного мифа в произведениях Л. Улицкой
История создания мира у Л. Улицкой - это история семьи. Как бы широко ни разветвлялось повествование в пространстве и времени, это всё-таки история семейного древа. В романах «Медея и её дети», «Казус Кукоцкого», «Искренне ваш Шурик» повествование охватывает почти половину XX века. Исток многих сюжетов Улицкой - Великая Отечественная война 1941-1945 гг. либо послевоенное время («Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Искренне ваш Шурик», «Детство сорок девять»). Это одновременно время рождения и детства самой писательницы (1943 г.). В одном из интервью Л. Улицкая говорит: «Первые мои рассказы, написанные довольно поздно, поскольку прозу я начала писать поздно, в большой степени связаны с детством, с потребностью вернуться туда, прожить и заново расставить точки... Это было чрезвычайно для меня полезно. Я — человек, у которого страхов в жизни делается все меньше и меньше. Я и по натуре не очень боязлива, и есть у меня сознательное отношение к страхам как к вещам, которые должны преодолеваться, изживаться... Поэтому второе, умозрительное «проживание» детства имело, наверное, для меня еще и терапевтическое значение. Меня туда и до сих пор очень часто «приглашают» - заглянуть, что-то найти...» [Улицкая 2003]. Подобная заострённость писательского внимания на периоде своего детства - это ещё и шаг, возможно, сознательного / бессознательного мифотворчества. Речь не столько о том, что произведения Улицкой автобиографичны; писательница вводит себя в свой созданный мир на правах героя. Например, героя-рассказчика, как в повести «Медея и её дети», где в финале выясняется, что повествователь сам является частью семьи Медеи Синопли. Или в виде сквозной героини Жени в книге «Люди нашего царя», в цикле «Сквозная линия», в романе «Казус Кукоцкого». В цикле «Дорожный ангел» повествование ведётся от первого лица; жанр путевых заметок предусматривает автобиографичность, однако рассказы в большей степени напоминают мемуары, при этом сохраняя художественную форму. Тот факт, что Л. Улицкая помещает свою биографию в цикл, соседствующий с циклами, где описаны жизни вымышленных персонажей, ещё раз наводит на мысль о сознательном мифотворчестве, размывающем границы между реальностью писателя и художественной.
Фабула романов заканчивается всегда современностью - 90-2000-е годы. И все полвека — это жизнь семьи. Однако само понятие семьи в произведениях получает новый смысл. Эпиграф к книге «Люди нашего царя», взятый из Н. С. Лескова: «Каких только людей нет у нашего царя», — расширяет значение понятия. Семья - это мир, где творец - отец и «царь» всем. Об этом же пишет С. Тимина, называя у Л. Улицкой семьёй «общность людей» [Тимина 2003, с. 538]. В романе «Даниэль Штайн, переводчик» синонимом семьи становится община.
Опишем принципы, по которым строится семья в текстах писательницы. Критики неоднократно отмечали, что романы Л. Улицкой -это семейные саги (И. Савкина, С. Тимина), повествующие о клане, семейное древо которого подробно выписано. Например, в романе «Медея и её дети»: «На этом месте, выписывая крупными идеальными буквами родные имена, она всегда переживала одно и то же состояние: как будто плывёт она по реке, а впереди неё, разлетающимся треугольником, её братья и сестры, их молодые и маленькие дети, а позади, таким же веером, но гораздо более длинным, исчезающим в лёгкой ряби воды, её умершие родители, деды -словом, все предки, имена которых она знала, и те, чьи имена рассеялись в ушедшем времени. И ей нисколько не трудно было держать в себе всю эту тьму народа, живого и мёртвого, и каждое имя она писала со вниманием, вызывая в памяти лицо, облик, если так можно выразиться, вкус этого человека» [Улицкая 2001а, с. 181]. Как пишет О. Славникова, «крымская гречанка Медея Мендес становится буквально центром расширения мира и, как Атлант, держит этот мир своей личной целостностью, спасая от разрыва на куски» [Славникова 1999, с. 52]. Это так, однако семейное древо имеет своего родоначальника. Первое поколение, Харлампий и две его жены (поли-гамность первых божественных браков), отмечено долгим бесплодием (шестикратным рождением мертвых младенцев и бессчетными выкидышами у обеих его жен), что в иудейском семейном мифе, отсылки к которому в творчестве Л. Улицкой многократны, аналогично бездетности Сарры и Авраама. Единственный поздний ребенок («авраамов» сын) Георгий носит имя культурного героя — змееборца, что отсылает к мотиву смены и борьбы поколений (например, титаны и олимпийцы). Жена его, Матильда (МАТ-ильда), напротив, отличается многоплодием: «Рожала с космически непостижимой точностью» и выпустила на свет тринадцать детей. Разросшийся до седьмого колена пантеон по всему миру распространил потомков (старец на Афоне, светило американской науки): «Я очень рада, что через мужа оказалась приобщена к этой семье и что мои дети несут в себе немного греческой крови, Медеиной крови. До сих пор в Посёлок приезжают Медеины потомки - русские, литовские, грузинские, корейские. Мой муж мечтает, что в будущем году, если будут деньги, мы привезём сюда нашу маленькую внучку, родившуюся от нашей старшей невестки, чёрной американки родом с Гаити» [Улицкая 2001а, с. 246]. Таким образом, уже в раннем произведении звучит мысль о безграничности семьи. Род стремится расшириться, как можно больше, преодолеть национальные, этнические границы, вобрав в себя разную «кровь». Однако разрастание семьи происходит не только путём рождения, но и путём породнения.
Другой особенностью моделирования семьи становится случай, а именно «родство по выбору». Вот как об этом пишет И. Савкина: «Семья Медеи - это не семья в строгом, «словарном» значении слова, так как связи в ней создаются часто не по кровному родству, а по выбору. Клан создаётся путём множественных актов породнения: выбора матери, выбора отца, выбора детей (усыновления и удочерения), выбора сестёр и братьев (братания). Например, бездетная Медея испытывает материнское чувство по отношению к своему племяннику — сыну младшей сестры Сандры: «В этот первый месяц жизни Серёжи она со всей полнотой пережила своё несостоявшееся материнство. Иногда ей казалось, что грудь её наливается молоком» (с. 93). А Ника, родившаяся от связи мужа Медеи и её сестры Сандры (судьба «того, мужнего, ей предназначенного ребёнка вложила в сестрино лёгкое, весёлое тело», с. 191), «признавалась матери, что, видимо, потратила весь первый материнский пыл на племянницу» (с. 149). В свою очередь, Анеля, старшая сестра Медеи, становится матерью детям брата мужа, который вместе со своей женой «исчез» в 1937 году. История Бутонова, общего любовника Маши и Ники, рассказывается как история поиска отсутствующего отца. Наконец, Маша — внучатая племянница Медеи - в своем муже Алике видит, скорее, брата, чем супруга: «Для их особого родства Маша нашла и особое немецкое слово, разыскала его в каком-то учебнике языкознания - Geschwister. Ни в одном из известных языков такого слова не было, оно обозначало «брат и сестра», но в немецкой соединённости таился какой-то дополнительный смысл» (с. 229)» [Савкина 2004, с. 171-172].
Наблюдение весьма точное, поскольку именно по такому принципу строятся семьи и в других произведениях Л. Улицкой. Удочеряет Таню Павел Алексеевич Кукоцкий, что не мешает затем видеть в девочке свои черты. Шурик («Искренне ваш Шурик»), женившись на Лене, становится отцом Марии. Этой же теме посвящен цикл «Тайна крови» из сборника «Люди нашего царя». Лёня, герой рассказ «Установление отцовства», оказавшись перед выбором между своей верной женой, кровной дочерью и чужой семьёй, отдаёт предпочтение влюбчивой, непостоянной Инге, матери четырёх, чужих ему по крови, детей, которых он считает всё-таки родными и любит больше: «Толстоватая девочка, в жену Катю, была мучнистая, скучненькая, совсем не похожая на тех детей, ингиных, - от них дом ходил ходуном, было ярко и весело. Как от Инги...» [Улицкая 2005в, с. 118].
Моделирование хронотопа как механизм инволюционной стратегии автора
В мифологическом сознании хаос и космос — два взаимодополняющих элемента, на соотношении которых существует мироздание. Деструкция -окончательное разрушение, уничтожение, которое «отпочковалось» от хаоса и подменило его собой под действием не-мифологического типа сознания, а именно исторического. При историческом типе сознания время начинает восприниматься линеарно, а целое по частям. Возникающие оппозиции перестают нейтрализоваться, а наоборот максимально поляризуются (я / ты, мужское / женское, душа / тело, жизнь / смерть), что приводит к страху перед смертью, до того не существовавшему, так как в сознании бытовала идея смерти-воскресения.
Деструкция возникает в не-мифологическом сознании героев Л. Улицкой. Нина («Зверь»), Лиля («Ветряная оспа»), Зинаида («Народ избранный»), Медея («Медея и её дети») испытывают страхи перед смертью, болезнью, трагически воспринимают катастрофу, несчастье, измену, ревность, так как они лишены возможности целостного восприятия мира. Таким образом, главная деструкция в мире связана с историческим сознанием. Герои проходят ритуал изменения сознания и становятся способными воспринимать мир по-иному.
В мире же авторского сознания любая деструкция оборачивается реконструкцией. В повести «Медея и её дети» выселение татар оборачивается их возвращением, ссора сестёр — примирением, бесплодие Медеи компенсируется многочисленными племянниками, разводы предвещают новые браки, смерть Медеи становится залогом основания нового дома Синопли. Появление кота в рассказе «Зверь» есть амбивалентный знак. С одной стороны, он вносит страх, кошмары, беспорядок в жизнь героини, вредит и оскверняет её дом, подобно хтоническому существу, змею. С другой стороны, своими действиями он провоцирует героиню к демиургическои, ритуальной деятельности и выходу за пределы сознания через ритуал.
Время и пространство космогонии (ритуала) - время и пространство первотворения, первопредков. Цель ритуала - устранение исторического времени и установление символического центра мира. Космогония, повторяя архетип, совершается в особое (нулевое) время и в пространстве, имитирующем «центр» мира, как то храм, церковь, дом и вообще любой вертикальный топос [Элиаде 1998, с. 25].
Во многих произведениях заданная в начале ситуация связана с истощением исторического времени, в результате чего возникает ахрония, сбиваются темпы жизни в семье, разрушаются отношения. В рассказе «Подкидыш» Серго, муж Маргариты, заподозрив её в измене, отказывается от своих детей, в результате чего Маргарита впадает на многие годы в состояние скорбной отстранённости, близкой к аутизму: «Они упирались друг в друга глазами, не совпадая во времени на десятилетие, и продолжали свой дикий диалог» [Улицкая 1999, с. 283]. Собственно время и сыграло с ними злую шутку, так как именно в результате неправильного его подсчёта Серго усомнился в возможности отцовства. «Разница в возрасте Мур и Анны Фёдоровны составляла стремительно уменьшающуюся величину. Неизвестно почему - то ли колесики в мировом часовом механизме поистёрлись, то ли зубчики съелись, только время стало катиться ускоренно, то и дело впадая в мерцательную аритмию, и так получилось, что по ходу движения этого ущербного времени, тридцать лет - если поместить их между шестьюдесятью и девяноста - уже почти ничего не значили» [Улицкая 1999, с. 402]. «Они были так долго старыми, что даже их шестидесятилетние дочери, Анастасия и Александра, почти не помнили их молодыми. За всю длинную жизнь они успели потерять всех родственников, друзей, соседей, целыми домами, улицами и даже городами, что не удивительно, поскольку они пережили две революции, три войны, без счёту горестей и лишений. Но они, в отличие от тех, кто умер, с годами становились только крепче» [Улицкая 2005в, с. 161]. В рассказе «Они жили долго ...» время жизни супругов Николая Афанасьевича и Веры Александровны растянулось, словно украв их у смерти физической. Но «бесконечная» жизнь превратила их в «окостеневшие» мумии, смысл жизни которых свёлся к принятию завтрака, обеда, ужина: «Николай Афанасьевич и Вера Александровна, каждый по-своему, шли к вечной жизни: муж приобретал прочность и узловатость дерева и очертания птицы-ворона, носатого, неподвижного в шее. Мужское полнокровное мясо высыхало, сам он покрывался всё более гречневыми пятнами, сначала на руках, а потом по всему телу, и из бывшего блондина превратился в темнолицего, картонного цвета большого старика с коричневой зернистой лысиной. Жена старела в направлении благородного мрамора: желтоватый оттенок, имитация тепла и жизни в холодном лице, угрожающая монументальность» [Улицкая 2005в, с. 161]. В рассказе «Зверь» Нина, похоронив в один год и мать, и мужа, не может принять их уход и, по сути, отказывается от своей жизни, продолжая жить только воспоминаниями: «Жизнь, как будто, свернулась кольцом и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглотило и пустынное настоящее, и лишённое какого бы то ни было смысла будущее» [Улицкая 1999, с. 386].
Вслед за этим в исследуемых текстах отмечается тенденция избавления от времени. Подобное стремление, по-видимому, обусловлено представлением о том, что с возникновением времени появляется идея смерти. В зависимости от модели времени, линеарной или циклической, смерть воспринимается соответственно как конечная или как смерть-возрождение.
Таким образом, средство преодоления смерти - обращение к мифическому времени. Время в прозе Улицкой в силу насыщенности мифическими действами, ритуалами, праздниками перестаёт быть профанными и сакрализуется: новый год («Ветряная оспа», «Орловы-Соколовы», «Бедная счастливая Колыванова», «Пиковая дама», «Искренне ваш Шурик»), Рождество («Путь осла», «Приставная лестница»), 8 марта («Бедная счастливая Колыванова»), именины («Гуля»), Пасха («Генеле-сумочница»), день поминовения («Народ избранный», «Зверь», «Счастливые»), «атмосфера вечного праздника» («Лялин лом»). Идея праздника, повторяющего первовремя, связана с календарным временем, т. е. цикличным.
Мотив цикличности времени проходит практически через все тексты: «каждое воскресенье» («Счастливые»), «21 числа каждого месяца» («Бедные родственники»), «сезон», «график визитов» («Генеле-сумочница», «Медея и её дети»), встречи нового года в романе «Искренне ваш Шурик».
Обращение к первовремени осуществляется не только путём сакрализации, но и путём устранения исторического времени: «... и украдена жестоко вместе со временем, растянувшимся как ослабшая резинка и утратившим начало и конец», «обычное время рассыпалось и куда-то делось, а новое движется вместе с ней по тошнотворному обратному кругу» («Подкидыш»), «стало катиться ускоренно» («Пиковая дама»), «может, повернётся ещё вспять» («Медея и её дети»). Время обращается вспять к первоначалу либо устремляется к своему апокалипсическому концу. Однако попрание смерти этим не заканчивается. Вектор избавления от времени направлен в безвременье: «И само время, дрогнув, отступило» («Ветряная оспа»). «Время отсутствовало» («Медея и её дети»). Разрешение времени в безвременье связано с условиями космизации. Время, по сути, один из первых ритмообразующих элементов космоса, исчезает под действием хаоса, затем возрождается, устраняет существовавшую ахронию либо становится вечностью «золотого века». Умирают «вечные» Николай Афанасьевич и Вера Александровна, дав возможность для жизни своим дочерям; приходит в себя Маргарита; встречаются во сне или полусне со своими усопшими близкими Нина («Зверь») и Зинаида («Народ избранный»), враги примиряются: «Мама жестом родственной приязни поправила на Серёже загнувшийся борт пиджака... Но этого было мало: откуда-то сбоку, взявшись под руку, шли ей навстречу две её подруги - Томочка и Сусанна Борисовна. И у них были такие прекрасные лица, что Нина, смеясь, поняла: прежде-то они обе были ужасные идиотки, но это было только временно» [Улицкая 1999, с. 401].
Близнечный миф как механизм текстопорождения
Природа пародии в мифологическом смысле восходит к близнечному мифу, в частности, к фигуре трикстера, одной из основных функций которого и было пародирование деятельности демиурга. Автопародия - пародия на самого себя - суть диалог с собой, спор с собой, раздвоение себя, определение себя не только как творца, но и как его альтер эго. На автопародийное начало творчества Л. Улицкой уже указывала М. Болотова в статье «Рождение лирики из духа пародии. Л. Улицкая «Весёлые похороны» VS «Медея и её дети», «Сонечка» & «Казус Кукоцкого»». Однако не только эти произведения вступают в «близнечные отношения». Многие рассказы писательницы строятся по принципу варьирования, оборачивания мотивов и сюжетов. Особенно актуально это становится для неё в сборнике «Люди нашего царя», насыщенном рассказами-близнецами, многие из которых отсылают, в том числе, и к ранним произведениям писательницы. Сборник состоит из четырёх циклов рассказов и цикла притч-афоризмов (сложно точнее определить жанр), который является своего рода прологом к роману «Даниэль Штайн, переводчик». Каждый из четырёх первых циклов посвящен одной теме. Первый цикл, «Люди нашего царя», посвящен, прежде всего, коммунальной жизни, жизни и смерти «людей нашего царя», следовательно, жизни и смерти вообще. Цикл «Тайна крови» - о тайне рождения и родства. Цикл «Они жили долго...» - исследование тайны смерти. Четвёртый, «Дорожный ангел», посвящен жизни самой писательницы. Таким образом, в основе циклизации можно увидеть близнечную структуру: жизнь и смерть людей - рождение - смерть - личная жизнь писателя.
Если говорить о принципах построения циклов и книги «Люди нашего царя» в целом, обращает на себя внимание джазовая импровизация как основа циклизации. Сближение литературного произведения с музыкальным, наверное, можно рассматривать как авторскую попытку сблизить текст и миф. Намёк на подобную композицию появляется уже в первом рассказе «Путь осла»: в «импровизированное» Рождество гости Иветт исполняют спиричуэлз. Спиричуэлз - традиционное джазовое направление для протестантской церкви, поэтому и поют его герои рассказа «Путь осла», отмечая «канун Рождества». В рассказе «О, Манон!» джазовая музыка разлетается по всему Новому Орлеану: «Они так наяривали, что наши белые ленивые души подпрыгивали и отрывались, и взлетали, и приплясывали, и Сам Господь Бог радовался и, может, тоже приплясывал на небесах» [Улицкая 2005в, с. 335]. Во вступлении разнообразие мира уподоблено какофонии. Джаз как род музыки сложился на рубеже XIX и XX вв. в результате синтеза элементов двух музыкальных культур - европейской и африканской. Из африканских элементов можно отметить полиритмичность, многократную повторяемость основного мотива, вокальную экспрессивность, импровизационность, которые проникли в джаз вместе с распространёнными формами негритянского музыкального фольклора -обрядовыми плясками, рабочими песнями, спиричуэлз и блюзами. Кроме того, джаз отличается синкопированностью (выделение слабых долей и неожиданные акценты) и особым драйвом. Колыбелью джаза был американский Юг и прежде всего Новый Орлеан. Именно импровизационность, повторяемость основного мотива организуют структуру сборника. Мотивы смерти, болезни, тела, чуда, рождения, измены, жертвы пронизывают тексты, варьируясь от произведения к произведению. В каждом из рассказов автор расставляет новые акценты в обозначенной проблеме.
Итак, каждый рассказ вводится в ткань сборника по джазовому (близнечному) принципу, развивая или разворачивая / переворачивая какой-либо мотив предыдущего рассказа. Сюжетным стержнем первого рассказа сборника «Путь осла» становится мотив чуда, характерный для поэтики Л. Улицкой. Для ранних произведений писательницы чудо - это синоним счастливой судьбы, это её внутренний механизм, на работе которого построен космос. Именно благодаря его работе возможно победить зло, преодолеть боль, страдания, болезнь. Не иначе как чудом можно назвать счастливый брак Милочки, заключённый в те шестнадцать лет, прожить которые, по прогнозам врачей, она не могла («Дочь Бухары»). Чудесным было выздоровление Гаяне и её матери Маргариты, просидевшей безучастно в кресле много лет («Подкидыш»). Чудом стало то, что старые девы Медея и Сонечка вышли замуж, совершенно не веря в возможность такого счастья для себя. Всегда чудо у Улицкой - это рождение позднего, долгожданного ребёнка. Мистические события в рассказах «Зверь», «Народ избранный» тоже сродни чуду. В рассказе «Путь осла» этот мотив впервые начинает звучать с интонацией сомнения.
В следующем рассказе цикла «Приставная лестница», в финале которого тоже отмечают Рождество, меняется звучание мотива, авторская интонация: чудо из ранга исключительного, невозможного, даже мистического переходит в сферу бытового обыденного. «Безногого Василия ещё не замело, и старухи заметили тёмный ворох на земле около лестницы. Он не разбился. И даже не проснулся от падения. И замёрзнуть тоже не успел. Старухи оттёрли его, отпоили. И никто не умер. Оправилась от воспаления лёгких Граня, выходила еле живого маленького Ваську. И через год родила ещё одного, Сашку. И комнату успели получить незадолго до смерти безногого Василия. Он вскоре после того, как комнату дали, сам и повесился. Нинка горько плакала на похоронах отца. Ей было его страсть как жалко. А что она его с лестницы бросала, она и не помнила. А в ту Рождественскую ночь всё так хорошо обошлось» [Улицкая 2005в, с. 31]. Чудо в том, что все живы, что «обошлось». В последующих произведениях сборника не звучит мотив чуда, напротив, набирает силу мотив смерти, причём смерти мучительной, страшной, насильственной, роковой.
Болезнь матери, попытка убийства отца - эти мотивы продолжают развиваться в следующем рассказе «Коридорная система». Главная героиня, Женя, становится заложницей «коридорной системы»: в первый раз она бежит по больничному коридору в палату умирающей матери и не застаёт её живой; во второй раз она стоит в коридоре, мечется, слушает крики, боясь заходить в комнату умирающего отца. Если в предыдущем рассказе попытка убийства дочерью отца забыта героиней и таким образом прощена самой себе, то здесь напротив. Коридор становится образом, который преследует героиню во сне: на первый взгляд, это объективация чувства вины за то, что не успела к постели умирающей матери, за то, что не вошла к умирающему отцу. Однако рассказ глубоко психологичен, и к его психоаналитическому прочтению подталкивает сам автор, упоминая в тексте «великого шамана», чьё знаменитое произведение о сновидениях не пролило света на сон о коридоре (очевидно, что речь идёт о труде 3. Фрейда «Толкование сновидений»). Рассказ назван «Коридорная система», не «Коридор», что, в свою очередь, вызывает ассоциации с образом лабиринта. Благодаря множеству толкований символа, рассказ имеет несколько вариантов прочтения.
Трансформация чеховского мифа в рассказе Л. Улицкой «Большая дама с маленькой собачкой»
Пьеса «Русское варенье», написанная Л. Улицкой по мотивам нескольких чеховских пьес, по признанию самой писательницы стала для неё плодом долгого осмысления драматургии писателя: «Рассказы Чехова всегда любила, от самой «Капітанки». Я вообще рассказы как жанр очень люблю. Еще до Чехова полюбила О Генри. А пьесы чеховские всегда были мне скучны. Я недоумевала, почему их сто лет ставят во всем мире. Но, не очень себе доверяя, перечитывала раз в сколько-то там лет. Все-таки ожидала: вдруг откроется чеховская тайна? И она открылась несколько лет тому назад. И просто - как под дождь, как под ливень: сразу поняла. Или показалось, что поняла. Великий театр абсурда. Все — тончайшими штрихами. Диалог только притворяется диалогом, на самом деле система монологов почти всегда. Каждый - о своем, почти не слышит другого. А когда открылось, сразу же и ответила на это открытие, как смогла» [Улицкая 2008]. Однако разговор с А. П. Чеховым начался у Л. Улицкой именно с рассказов. В частности, об этом говорит заголовок рассказа «Большая дама с маленькой собачкой».
Мифологема «женщина с собакой» восходит к античной традиции, где собаки были спутниками Артемиды, богини охоты, и Гекаты, богини смерти. Эти богини часто отождествлялись, их функции так или иначе связаны со сферами природы, плодородия и смерти. «Губительные функции богини связаны с её архаическим прошлым — владычицы зверей на Крите» [Мифологический словарь 1992, с. 61]. Классическая Артемида девственница и защитница целомудрия. Артемида - близнец Аполлона, на культе которого можно проследить ту же динамику образа божества, что обозначена выше: от хтонического бога природы, губящего и исцеляющего, до бога-олимпийца, покровительствующего искусствам, строительству, мудрости. По-видимому, появление рядом с женщиной собаки вызвано динамикой космогонии: от природы (хаоса) к культуре (космосу). Таким образом, собака рядом с женщиной — это рудимент природы, а женщина — отделяющаяся от природы культура. В словаре символов собака — символ преданности, защиты, бдительности, страж границ и проводник в загробный мир [Тресиддер 2001, с. 344]. Именно о границах и противостоянии пойдёт ниже речь.
Название чеховского рассказа, по-видимому, умаляет природное по отношению к культурному в этой оппозиции: «женщина» стала «дамой», «собака» - «собачкой». У Л. Улицкой разрыв усилен антонимами «большая» и «маленькая». Собачка в рассказах выступает в роли медиатора, который помогает людям сблизиться. У Чехова собачка — атрибут дамы, через который Гуров стремиться добиться расположения и удовлетворить свои привычные потребности. Так о «даме с собачкой» пишет Т. Толстая: «Нечто безымянное, родовое, часть природы, с маленькой отличительной деталью, с украшением. Прекрасная дама как часть той самой природы, в которой «всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве»» [Толстая 2002, с. 22]. Именно в тот момент, когда Гуров любуется морем, сближается с природой, начинает звучать мотив бытия. Но бытийный смысл жизни придаёт любовь. Для Гурова становится вдруг очевидной суета, обыденность его московской жизни: «Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и, в конце концов, остаётся какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах\» [Чехов 1977, с. 244]. Мир перевернулся: явная жизнь — «обман», «оболочка»; истинная, полная любви - тайна. Теперь Гуров размышляет: «Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна» [Чехов 1977, с. 249]. Прежний Гуров мог с лёгкостью обсуждать свои прежние романы, теперь же это невозможно, любовь нельзя выразить, нельзя понять. Однако эти «две жизни», быт и бытие, для Гурова неразделимы. Анна Сергеевна — его любимая — одна из провинциальной толпы, «ничем не замечательная», «с вульгарной лорнеткой». Он по-прежнему пьёт чай, когда она плачет. Сделав шаг от влечения к настоящему чувству, к бытию, они сохранили и свою природную сущность: «И точно это были две перелётные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках» [Чехов 1977, с. 251]. Сближение природного и культурного раскрывается и через образ животного. «Собака больше не часть равнодушной природы, в которой «всё прекрасно», она почти человек» [Толстая 2002, с. 25]. Таким образом, видимо, Чехов возвращает мир к мифологическому единству природного и культурного, снимая эту оппозицию.
В тексте Л. Улицкой происходит трансформация чеховского мифа. Во первых, героиня распадается на два образа: Татьяна Сергеевна и Веточка.
Приём для Л. Улицкой достаточно традиционный, героини представляют собой пару близнецов-соперников. Первый близнец, Татьяна Сергеевна, на первый взгляд, живёт полной жизнью, что позволяет соотносить её с демиургом: красивая, яркая «светская дама», талантливый организатор, её любят или ненавидят, а чаще боятся. Веточка по началу - только её тень: курьер, «не то воспитанница, не то прислуга», даже имени лишена и названа самой Татьяной Сергеевной, типичный трикстер. В имени одной акцентирована культурная сущность (Татьяна - «повелеваю»), в имени другой - природная (Вет-очка). Мифологическая Артемида - «владычица», «медвежья богиня». Главные антитезы соперниц: гордость, эстетство, властолюбие Татьяны Сергеевны и смирение, простота, преданность Веточки. Однако образы начинают пульсировать, оборачиваться. Веточка в большей степени соотносима с Анной Сергеевной (В-еточка - Н-еточка (Анна)), а Татьяна Сергеевна - с Гуровым, который ещё не полюбил. Последние отказались от искусства в пользу административных ролей; жизнь обоих - бытовая суета: рестораны, юбилеи, премьеры, следование моде и т.д. Внешняя жизнь Татьяны Сергеевны также футлярна, как и у Гурова: «арестантские роты», «сумасшедший дом», «оболочка». Татьяна Сергеевна несколько лет живёт безвыездно, любимое место в квартире — «чуланчик»; подобно другому чеховскому герою - Беликову, она умирает, как только выходит из своего футляра, обретая другой - гроб. Героиня не переживает того же перерождения, что и герой Чехова - Гуров. Более того, она умирает на одесском побережье. Начнём с того, что в героине присутствуют оба начала: и природное, и культурное.
Природность её подчеркнута рядом сравнений с животными: лошадь, львица. А также автореминисценцией: Татьяна Сергеевна соотносится с другой светской львицей Улицкой из «Пиковой дамы». Мур точно так же культивировала автобиографические мифы, вела богемный образ жизни, заводила романы. Имя героини подчёркнуто кошачье, что нисколько не противоречит её натуре: постоянный сексуальный голод, поиск партнёра, флирт даже в инвалидном кресле. Татьяна Сергеевна завела любовника, вышла замуж, но любовь не имела к этому никакого отношения. Любопытно, что в «Пиковой даме» героиня не умирает в финале, напротив, умирает её дочь - близнец-соперник. Истоки «живучести» Мур были нами усмотрены именно в её природной, животной силе. Подобное оборачивание финальных ситуаций можно рассматривать, скорее, не как возвращение к пушкинскому сюжету (смерть графини), а по-прежнему следование своему замыслу в чеховском духе, либо как элемент автопародийной игры, уже отмеченный как характерный для писательницы.