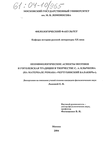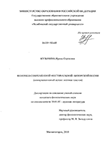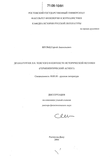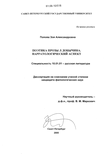Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Творчество П. П. Ершова в контексте русского литературного романтизма 14
1.1. Литературный процесс 30-40-х годов и творчество П. П. Ершова 14
1.2. Лирика П. П. Ершова как явление русского романтизма 30-40-х годов XIX века
1.2.1. Жанрово-стилевые особенности поэзии П. П. Ершова 24
1.2.2. Романтические мотивы в лирике П. П. Ершова
1.3. «Сибирский казак» П. П. Ершова: литературная традиция и оригинальный характер 70
1.4. «Сибирское предание» «Сузге» как романтическая поэма 77
Глава 2. Романтические лирический и эпический циклы в творчестве П. П. Ершова 96
2.1. Лирический цикл «Моя поездка»: система мотивов 96
2.3. Своеобразие романтического цикла «Осенние вечера» 108
Глава 3. Поэтика комического в творчестве Ершова-романтика 142
3.1. Своеобразие комизма в сказке «Конёк-Горбунок» 142
3.2. Народно-смеховые традиции в драматическом анекдоте П. П. Ершова «Суворов и станционный смотритель» 154
3.3. Особенности комизма «драматической сцены» «Кузнец Базим, или Изворотливость бедняка» 164
3.4. Своеобразие юмора в эпиграммах П. П. Ершова 169
Заключение 179
Список литературы
- Лирика П. П. Ершова как явление русского романтизма 30-40-х годов XIX века
- «Сибирский казак» П. П. Ершова: литературная традиция и оригинальный характер
- Своеобразие романтического цикла «Осенние вечера»
- Народно-смеховые традиции в драматическом анекдоте П. П. Ершова «Суворов и станционный смотритель»
Лирика П. П. Ершова как явление русского романтизма 30-40-х годов XIX века
В своем развитии русский романтизм, по мнению большинства исследователей, имеет два этапа: первая волна связана с Отечественной войной 1812 года и последующими событиями, вторая - следует после восстания декабристов в 1825 году. Данные события порождают различные типы поэтического творчества, формируют особенности в отражении мира, организуют метод и стиль.
Романтическое направление никогда не представляло собой целостного, однородного явления с общими идейными и теоретическими установками. На разных этапах своего развития романтизм включал в себя отдельные течения и школы, характеризующиеся особенностями романтических жанров, конфликтов, типов героя, стилей и т. д. Это относится как к крупным представителям романтической литературы, так и писателям «второго ряда», без которых невозможно представить целостную картину развития романтизма в русской литературе.
Следует учитывать, что именно литературная деятельность поэтов «второго эшелона» сформировала особый стиль русского романтизма 30-х годов XIX века. По мнению ряда исследователей, стихотворная беллетристика, представленная в 30-е годы именами Бенедиктова, Тимофеева, Кукольника, Е. Бернета, Ершова и др., становится «очень значительным явлением» [84, с. 136]. Различные романтические школы не были изолированы друг от друга, они активно взаимодействовали, обогащали друг друга и продолжали традиции, нередко отдельные литераторы на протяжении творческого пути примыкали к различным школам.
В традициях романтизма Ершовым решается тема предназначения поэзии и сущности поэтического творчества. Ершов продолжает традицию рассматривать поэта как пророка, наделенного способностью к творчеству Всевышним, подобным образом данная тема решается в программных стихотворениях «Вопрос» (1837), «Музыка» (1837), «Две музы» (1838), «Призыв» (1848).
Для выявления особенностей поэтической индивидуальности П. П. Ершова следует проследить развитие стилистических тенденций в романтизме 20-х - 30-х годов XIX века.
Л. Я. Гинзбург в развитии русской романтической поэзии 1810 - 1820-х годов выделяет две основные линии: «гражданская и интимная, элегическая, поскольку элегия была ведущим жанром интимной лирики» [53, с. 21]. Развитие гражданской линии связано с работой в драматических и лиро-эпических жанрах, а в собственно лирической поэзии в 20-е годы главенствующим становится элегическое направление. В истории литературы оно получило название школа «гармонической точности». Крупными представителями этого направления принято считать Жуковского, Батюшкова, Пушкина в ранний период творчества, Вяземского, Дельвига, Баратынского. Каждый из представленных поэтов являл собой несомненную индивидуальность, однако в стилевом отношении их поэзия имела общие установки и тенденции.
«Гармоническая точность», в первую очередь, предполагала постоянную работу над языком произведения, эстетически не обработанное бытовое слово не могло оказаться в произведении. Л. Гинзбург в отношении элегической школы говорит об особой «поэтике узнавания», предполагавшей, что в основе элегического стиля «лежали и всевозможные трансформации "вечных" поэтических символов, и образная система французской "легкой" поэзии и элегической лирики XVIII века» [53, с. 29]. Всё это обеспечивало возможность полноценного понимания произведений в широкой среде. Не менее важной считалась работа над образной системой и системой тропов, которая также должна была обеспечить логическую ясность в восприятии текста. Р. В. Иезуитова отмечает такие характерные черты школы, как «культ точного, предельно насыщенного содержанием слова, лаконизм в использовании средств образности, соразмерность всех элементов стиля, тщательность в отделке стиха» [76, с. 71]. Все элементы стиля школы «гармонической точности» были подчинены «одной цели - они должны выразить прекрасный мир тонко чувствующей души» [53, с. 29].
К концу 20-х годов для ряда поэтов (например, Пушкина) границы элегизма оказались тесны, формальные составляющие поэзии «гармонической точности» были усвоены романтиками-подражателями, и литература искала новые выходы для адекватного отражения веяний времени. Так на авансцену русской романтической литературы вышла «поэзия мысли».
Данную поэтическую школу составили литераторы, входившие в Общество любомудрия и примыкавшие к ним поэты: Д. Веневитинов, В. Одоевский, И. Киреевский, А. Кошелев, С. Шевырев, В. Титов, А. Хомяков, Ф. Тютчев и др. Практически каждый из данных поэтов идею «поэзии мысли» понимал своеобразно, однако единодушны они были «в отрицании элегической школы 1810 - 1820-х годов как "школы безмыслия"» [54, с. 35]. В современном литературоведении нет однозначного названия для представителей данного философского направления: так Л. Гинзбург обозначает их как «поэты мысли», В. Кожинов объединяет в группу поэтов «тютчевской плеяды» [85, с. 7].
Поэты философского направления выступили за обновление как тематического состава поэзии, так и ее формальных и стилевых составляющих. Осуществление данного принципа происходило различными способами. Так Веневитинова привлекают темы природы, любви и смерти, дружбы, поэта и поэзии, понятые в духе шеллингианской эстетики. Однако подобные размышления Веневитинова опирались на стиль школы «гармонической точности», что прослеживается в использовании поэтом традиционной поэтической фразеологии. Следует отметить, что не только Веневитинов, но и значительная часть «поэтов мысли» на начальном этапе своего творческого пути была связана с элегической школой (например, это относится к Хомякову, Шевыреву, Тютчеву).
Характерной чертой данной школы, существенно отличающей ее от поэзии «гармонической точности», по мнению В. Кожинова, явилась «дисгармоничность». Данная черта относится в равной степени к содержанию и форме, сюда включаются «стилевые диссонансы, чрезмерная метафоричность и «темнота», жесткость и «неточность» [84, с. 143]. Многие произведения поэтов данной школы представляют собой стихотворные изложения определенной мысли: философской, эстетической, религиозной и т.д.
Как отмечает ряд исследователей [125; 54; 84], русская массовая поэзия 1830-х - начала 1840-х годов пошла именно по пути философского романтизма данной школы. К значительным поэтам второго ряда следует отнести В. Бенедиктова, Л. Якубовича, Тимофеева, Бернета, П. Ершова и ряд других. Данные литераторы были связаны с журналами «Библиотека для чтения» и «Северная пчела». В. Г. Белинский в статье «Литературные мечтания» (1835) выстраивает периодизацию русской литературы: «Итак, я насчитал четыре периода нашей словесности: ломоносовский, карамзинский, пушкинский и прозаическо-народный; остается упомянуть еще о пятом... этот период словесности непременно должно назвать смирдинским, ибо А. Ф. Смирдин является главою и распорядителем сего периода» [42, с. 111].
«Сибирский казак» П. П. Ершова: литературная традиция и оригинальный характер
Важным образом, позволяющим глубже раскрыть мотив смерти в творчестве поэта, выступает образ «живого мертвеца», который вынужден находиться в мире живых людей. Он появляется в стихотворном послании «Друзьям» (июнь 1839):
О, горько собственной рукою Свое созданье истребить И, охладев как лед душою, Бездушным трупом в мире жить [5, с. 298]. В данном произведении с образом мертвеца связан мотив предательства в любви, именно это является толчком, служащим причиной отрыва лирического героя от окружающей жизни. Мертвец у Ершова лишен всяческих чувств, он бесстрастен. Если лирический герой ощущает себя мертвецом из-за того, что его предали, то лирическая героиня не способна на высокие чувства:
Не жар в груди у ней - могила, Где жизнь души схоронена [5, с. 299]. Как мы видим, мотивы смерти и любви часто являются неотделимыми друг от друга в творчестве поэта.
Свое продолжение образ «живого мертвеца» находит в стихотворении 1845 года «Воспоминание». В данном произведении лирический герой соотносит себя с мертвецом, тем самым пытаясь приблизиться к тем, кого уже нет среди живых: Живой мертвец между живыми, Я отдыхал лишь на гробах. Красноречив мне был их прах,
И я сроднился сердцем с ними [5, 329]. На всем пространстве стихотворного текста периодически возникает «кладбищенская» лексика: «мрак могил», «глыбы гробовой земли», «труп милый» и т.д. Лирический герой может найти счастье, только пойдя на обман, сознательно превратив себя в «живого мертвеца».
Мотив смерти в ряде произведений Ершова может принимать героический характер. В начале 1830-х годов поэтом было написано несколько стихотворений на исторические темы («Смерть Ермака», «Смерть Святослава» и др.). Ершова привлекают судьбы героических личностей, он пытается осмыслить их смерть. Гибель Святослава происходит из-за его ослушания, князем овладела гордыня, и как расплата за нее следует смерть. В стихотворении «Дуб» (1833) показана величественная гибель дерева-исполина, которое умирает, чтобы возродиться для новой жизни и борьбы. Тем самым, в данном стихотворении утверждается мысль о «бессмертии природы» [203, с.56]. Мотив гибели дерева найдет свое продолжение в стихотворении «Гроза» из лирического цикла «Моя поездка» (1840).
Героическая гибель является одним из мотивов послания П. П. Ершова «Тимковскому. На отъезд его в Америку» (1835). В данном произведении нашли отражение общественно-политические взгляды поэта. Поэт пытается проецировать судьбу «витязей свободы» на свое возможное будущее: Не охладим святого рвенья; Пойдем с надеждою вперед. И если ... пусть! Но шум паденья Мильоны робких потрясет [5, с. 259]. В художественном мире поэта смерть не выступает средоточием пустоты, небытия. Поэзия Ершова освещена верой, и даже такие трагические моменты как смерть, попадая в «поле зрения» автора, приобретают светлый характер. Неслучайно потусторонний мир в поэзии Ершова передается образными выражениями «родимый край отчизны», «берег родины», «тихая пристань» и др. Мотив смерти неизменно присутствует в произведениях, посвященных родине поэта - Сибири. Например, в стихотворении «Послание к другу» (1836) переданы детские впечатления поэта:
Везде я видел мрак и тени В моих младенческих мечтах: Внутри - несвязный рой видений, Снаружи - гробы на гробах [5, с. 266].
Такие впечатления и чувства вполне обоснованы, так как Сибирь всегда выступала местом ссылки и тюремного заключения. А суровость сибирской природы, с ее «дряхлой зимой» и «воем бурана», неизменно рождает ощущение гибельности, неизбежного приближения смерти.
Вообще, рассматривая в географическом отношении Россию, можно выделить ряд топонимов, которые являются образованиями повышенной культурной значимости. Сюда следует отнести Петербург - город, которому присуща особая мифология, Москву - «третий Рим», символ святой патриархальной Руси, Новгород - город, олицетворяющий демократическое правление и являющийся символом вольности, Кавказ с его волнующей экзотикой.
Среди подобных культурных топонимов особое место занимает Сибирь, которая к началу XIX века «в национальном сознании мифологизировалась, стала общепонятным хронотопическим образом определенного способа присутствия человека в мире» [127, с. 254]. Благодаря суровым климатическим условиям (морозная зима, короткое лето), географическому положению (Сибирь - это огромные площади необжитых земель) и политико-административным функциям (место ссылки неблагонадежных личностей) Сибирь стала восприниматься как край, олицетворяющий смерть или «лиминальную полусмерть» [127, с. 256]. Приметы подобной полусмерти характерны для многих произведений, тема которых соприкасается с изображением Сибири. В. И. Тюпа утверждает, что у истоков подобного отношения к Сибири стоит текст «Жития протопопа Аввакума», в котором присутствуют основные мотивы и образы подобной мифологизации Сибири: необъятные пространства, зимние пейзажи, холод, ночь, снег, образы гробов и могил, мотивы похоронного обряда.
С новой силой подобное отношение к Сибири стало складываться после ссылки туда декабристов, что нашло отражение во многих произведения как самих участников восстания на Сенатской площади, так и ряда других литераторов, достаточно вспомнить послание в Сибирь А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...» (1827), в котором тема смерти и последующего воскрешения (то есть своеобразной инициации) занимает значительное место.
Рассмотрим поэзию Петра Павловича Ершова с точки зрения вхождения ее в особый сибирский интертекст русской культуры. Ершов родился в Сибири, прожил здесь большую часть жизни, Сибирь сблизила Ершова со многими участниками декабристского восстания, все это не могло не отразиться на поэтическом восприятии Сибири данным автором. Понимание Сибири как своеобразного культурно-исторического топоса находит отражение в стихотворении «Прощание с Петербургом» (1835). Центральным в стихотворении является образ Петербурга, но в тексте реализует себя и образ Сибири. С особой четкостью контраст данных топосов проявляется при сравнении образов зари (солнца) в пейзажах Петербурга и «страны далекой». Если петербургская заря характеризуется эпитетами «волшебный блеск», «живительный огонь», «святая невская заря», несущими положительную семантику, то размышления о Сибири совершенно иного плана:
Своеобразие романтического цикла «Осенние вечера»
Ершов являлся глубоко верующим человеком, и поэтому образ сраженного кедра в стихотворении «Гроза» вполне может быть рассмотрен в библейской традиции, где с ним «устойчиво связывается символика смерти и ее преодоления как начала вечной жизни» [278, т. 2, с. 164]. Данное положение находит свое подтверждение и в других стихотворениях лирического цикла. Смерть не воспринимается лирическим героем как небытие, пустота, для верующего человека смерть служит своеобразным переходом в вечный прекрасный мир, то есть жизнь повторяется заново, но в лучшем мире. Подтверждением тому служит образ старца из заключительного стихотворения «Вечер». Данное название содержит несколько семантических пластов: во-первых, вечер представляет собой определенный временной промежуток суточного цикла; во-вторых, с данным образом связано представление о приближении смерти, это «вечерняя заря» жизни. Однако «старец сгорбленный» воспринимает происходящее как закономерное явление: Он смотрел на запад дальний, Одевающийся в тень, И улыбкою прощальной
Провожал угасший день [5, с. 317]. Согласно христианским представлениям мировая история представляет собой однонаправленный и конечный процесс, Страшный суд невозможно предотвратить, но само «уничтожение все же мыслится возвращением в вечность, так что отдаленно идея цикла сказывается и здесь» [278, т. 2, с. 621]. Данный принцип может быть распространен и на жизненный путь отдельного человека.
Как отмечает М. Н. Дарвин, образность лирического цикла создается за счет сопоставления и контраста «частного и общего, подвижного и устойчивого, субъективного и объективного» [62, с. 73]. Именно это наблюдается в лирическом цикле Ершова, где судьба лирического героя вплетается в общую, универсальную судьбу мира.
На своеобразную повторяемость, круговорот космических явлений указывают мотивы и образы, связанные с аспектом непосредственной жизни лирического героя. Так в стихотворении «Скорая езда» движение повозки уподобляется бегу жизни: Что за роскошь, что за нега... Беззаботно с вышины Низвергаться в глубь оврага Всем наклоном крутизны! И опять, гремя телегой По зыбучему мосту, Всею силою разбега Вылетать на высоту!.. [5, с. 309]. Жизненный путь трактуется лирическим героем, как смена постоянно повторяющихся (не случайно употреблено наречие опять ) взлетов и падений, то есть снова возникает мотив цикличности. Такая же ситуация характерна для стихотворения «Сердце», в котором с образом сердца связано повторение и смена противоположных желаний:
Беспрерывно вихрь стремленья Вьет живой водоворот: В грусти ищет наслажденья, В наслажденьи грусть зовет [5, с. 311]. К близким явлениям лирической «путевой» циклизации следует отнести известный цикл Ф. Н. Глинки «Картины» (1825), в котором также намечаются две линии развития: героя и времени, а категория цикличности охватывает всю образную систему произведения.
Одним из центральных в цикле является мотив жажды свободы, заявляющий о себе в первом стихотворении цикла - «Выезд».
На уровне композиции стихотворение четко делится на две части. С одной стороны поэт изображает жизнь провинциального Тобольска:
Город бедный! Город скушный! Проза жизни и души! Как томительно, как душно В этой мертвенной глуши! [5, с. 306]. Нетрудно заметить, что данные строки представляют собой реминисценцию из известного пушкинского стихотворения («Город пышный, город бедный...» (1828)), но если Пушкин говорит о Петербурге как о городе контрастов, то для сибирского поэта Тобольск является воплощением скуки, а его жители ценят
Трагизм лирического героя заключён в том, что он вынужден находиться в окружающем его мире, таково вечное столкновение «поэта» и «толпы». Употребив «слово Пушкина», автор расширил семантику своего стихотворного текста, наделил его дополнительным смыслом.
Вторая часть посвящена мечтам лирического героя о свободе. Роль своеобразной границы, отделяющей суетный город от «мира мечты», выполняет шлагбаум. Так, в цикле возникает тема двоемирия. Мир, в который стремится лирический герой, наделен рядом существенных черт: его основу составляет любовь ко всему живому, одушевление природы, свобода в жизни и творчестве.
Важным образом, дополняющим мотив свободы, является образ птицы: Распахну в широком поле Грудь стесненную мою И, как птичка, я на воле Песню громкую спою [5, с. 306-307]. Заявивший о себе в первом стихотворении цикла как желанная мечта, он возникает вновь в стихотворении «Поле за заставой» и станет центральным в третьей части - «Песня птички». Сравнивая пение птицы с поэтическим творчеством, автор приходит к выводу, что основной чертой, сближающей данные образы, является стремление к полной свободе и независимости от чьих-либо мнений.
Семантика образа птицы может быть конкретизирована посредством соотнесения его с образом сердца. Во многих культурных традициях сердце рассматривается в качестве вместилища, того места, где сосредоточена душа человека. В то же время, в русской традиции известны представления «о душе человека в облике птицы» [280," с. 253]. В мифопоэтической картине мира птица занимает верхний, небесный, ярус в вертикальной структуре мирового пространства, она служит своеобразным звеном, связывающим мир человека с потусторонним пространством.
Так, в цикле возникает мотив смерти, скоротечности земной жизни. Яркое воплощение данный мотив находит в стихотворении «Скорая езда». Образы и мотивы этого стихотворения сосредоточены на изображении жизни как бурной скачки, в которой взлеты сменяются падениями. Восклицательная интонация предстает основной в стихотворении, лирический герой испытывает различные эмоции (восторг, трепет, страх).
В христианской антропологии человек понимается как существо, обладающее двойственной природой, подобная антиномичность его существования подчеркивается многими поэтами; характерным примером, подтверждающим данное положение, выступает ода Г. Р. Державина «Бог» (1784): Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь - я раб - я червь - я Бог! [31, с. 134] Следовательно, все земное существование человека есть попытка обретения первоначальной гармонии, путь к которой указал Христос. Двойственность человеческой природы, невозможность самостоятельно оторваться от своей греховности (праха, пыли) обозначена и в стихотворении Ершова:
Народно-смеховые традиции в драматическом анекдоте П. П. Ершова «Суворов и станционный смотритель»
Добры кони златогривы! [6, с. 63-64]. Фразы, составляющие рамочную конструкцию, ориентированы на высокий стиль, а центральная часть монолога состоит из проклятий и ругательств. Столкновение различных в стилистическом плане слов позволяет создать необходимый комический эффект.
Как отмечает В. Н. Евсеев, все герои сказки Ершова «кричат, вскрикивают, восклицают, "воют", шумно бранятся, "горланят" песни» [154, с. 101]. Повышенный голос, выкрики являются характерным признаком площадных представлений, влияние которых присутствует в «Коньке-Горбунке».
Следует упомянуть и такую черту, характерную для сказки, как особый статус рассказчика, который во многом определяется авторской манерой создания произведения с опорой на народно-площадную традицию. Как отмечает Л. А. Фролова, многие исследователи отмечали особую манеру ершовского рассказчика, однако «вернее точка зрения тех исследователей, которые оценили манеру сказывания в "Коньке..." как балагурную» [266, с. 151].
Более подробно на характере рассказывания останавливается В. Н. Евсеев, отмечая: «Ершов использует несколько творческих "личин". Две из них - личина "бахаря" сказки и личина "петрушечника", "раешника" -артиста народно-театральной площади, "режиссера", герои которого выступают не только сказочными персонажами, но и "актерами" народно-площадного театра, "куклами" ярмарочного балагана» [154, с. 104].
Специфика комизма в творчестве Ершова обусловила тот факт, что при экранизации «Конька-Горбунка», была утеряна «тотальная» ирония Ершова, народно-площадная культура оказалась отодвинута на задний план. Экранизация была осуществлена Александром Роу в 1941 году. Уже в титрах заявлено, что фильм поставлен по мотивам сказки Ершова и русских народных сказок, то есть постановщик не дословно переводит литературное произведение на язык кино - он отбирает ключевые эпизоды, составляющие основу сказки, ее костяк. Режиссер во многих эпизодах отказался от карнавально-смеховой традиции, заложенной в сказке Ершова, и поэтому кинопроизведение утратило живую, народную стихию.
Как положительный момент, следует отметить музыкальное решение фильма; музыкальные лейтмотивы выполняют функцию ритмической организации событий и являются средством создания единого зрительно-слухового образа. Характерен в данном отношении эпизод, изображающий торговую площадь: на ней разместились и торговые ряды, и карусели, слышны прибаутки балаганных зазывал. Массовый характер ярмарочного действа подчеркивается особыми техническими приемами киносъемки, для этого эпизода характерно использование общих и длинных планов, панорамной съемки. Стихия народного праздника сопровождается жизнеутверждающей, мажорной музыкой, но вот появляется царь, и музыкальная тема изменяется: появляются маршевые мотивы, становятся отчетливо слышны духовые и ударные инструменты. Данный эпизод оказался наиболее удачным в плане следования традиции ершовской сказки.
В 1947 году режиссер-мультипликатор И. П. Иванова-Вано поставил мультфильм «Конёк-Горбунок», который стал этапным для отечественной анимации: это был первый советский полнометражный рисованный мультфильм. Создатели фильма шли от народного искусства, стилистический ключ фильма был найден в народной игрушке, лубке. В мультфильме одной из основных стала стихия народного смеха, который распространяется и на Ивана, и на Царя, который здесь изображен не сатирически, а комически, достаточно вспомнить сцену в бане или проезд Царя на санях. Именно поэтому мультипликационная экранизация «Конька-Горбунка» оказалась более удачной. В не присутствовало не только совпадение с фабульной стороной книги, но и внутреннее родство с литературной основой.
Таким образом, мы видим, что в литературной сказке «Конёк-Горбунок» характер комизма основывается на следовании традициям народно-смеховой культуры.
Ярмарочная стихия задают общий игровой характер произведения, проявляющийся в следовании построения сюжета, хронотопа, образов с опорой на традиции народных балаганных представлений, раек, лубочную культуру.
В произведении находят отражение различные типы комизма: комизм положения, комизм характеров, речевой комизм. Причем автор усложняет образы героев в сравнении с фольклорной традицией.
Язык произведения определяется ситуацией базарной площади, на которой уместны громкие выкрики, повышение тона, смешение различных стилевых пластов в пределах одной фразы. Ершов принципиально выдвигает рассказчика-балагура на передний план с тем, чтобы создать характер непринужденной болтовни, присущей народным театральным действиям.
И в последующих произведениях Ершова характер комизма будет во многом определятся следованию народно-площадным традициям, однако поэтика комического будет трансформироваться, большее внимание будет уделено литературным приемам, создающим комический эффект.
В той же степени, что и в «Коньке-Горбунке», смеховое начало, свойственное народной эстетике, присутствует в «драматическом анекдоте» Ершова «Суворов и станционный смотритель» (1835). Настрой на комическое восприятие задается фигурой центрального персонажа произведения - великого полководца Александра Васильевича Суворова, который показан не с точки зрения официальной историографии, а дан в восприятии простых людей, в глазах которых «он не маскируется под простолюдина, он является им по духу» [214, с. 54].
Автор дает своему произведению жанровое определение «драматический анекдот». В. Э. Вацуро отмечает, что появление данного типа драматического повествования было вызвано общими закономерностями развития драматургии: «Они явились в ответ на требование национального репертуара» [79, с. 365].
В соответствии с требованием романтической эстетики национальная тема предполагала изображения «духа народа» через быт и нравы. Ершов неоднократно обращался в драматургии к национальной тематике (либретто оперы «Страшный меч», отрывок из драматической повести «Фома-кузнец»), но именно в пьесах с юмористическим содержанием он наиболее полно проявил себя как драматург.
К драматическим анекдотам обращались многие авторы 30-х - 40-х годов XIX века, их произведения могли рассказывать как об известных происшествиях, так и просто использовали известную историческую личность для создания определенной обстановки. Анекдоты чаще всего воспроизводили серьезные события, например «Дедушка русского флота» (1838) и «Иголкин - купец новгородский» (1838) Н. Полевого, «Иван Рябов -рыбак архангелогородский» (1839) Н. Кукольника. Однако в это же время получают развитие анекдоты, в центре которых комический сюжет, опирающийся на любовную интригу, таковы «Шкуна Нюкарлеби» (1841) Ф. Булгарина и «Сардамский корабельный мастер, или Нет имени ему!» (1841) Р. Зотова. В драматическом анекдоте «Суворов и станционный смотритель» Ершов следует именно данной традиции, Суворов здесь комическая фигура, подчеркивающая определенные черты национального характера: смекалку, остроумие, чувство юмора.
Анекдот в литературе XIX века представлял собой жанр небольшого рассказа о «незначительном, но характерном происшествии, преимущественно из жизни исторического лица» [277, с. 28]. Именно такая ситуация и такой герой показаны в пьесе Ершова. Суворов представляет собой тип простака, фольклорного дурачка, который в определенный момент оказывается умнее всех; данный образ идеален для воспроизведения ситуации смешения «высокого» и «низкого».