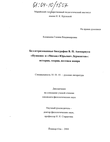Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Лирический жанр Тютчева: история вопроса 10-53
Глава 2. Лирический жанр: исторические и теоретические аспекты.. 54-88
Глава 3. Принципы поэтического синтаксиса 89-140
3.1. Параллелизм 89-96
3.2. Инверсия 96-103
3.3. Риторические формы 104-121
3.3.1. Обращение 105-113
33.2. Вопрос 113-120
3.4. Афористические формы 120-127
3.5. Индивидуальные принципы 128-133
Глава 4. Композиционные принципы 141-222
4.1. Экспозиция 145-173
4.2. Конклюзия 173-185
4.3. Связь композиционных и строфических форм 185-194
4.4. Циклообразование 195-213
Глава 5. Лирический жанр Тютчева 223-287
5.1. Риторика: «Как сердцу высказать себя?» 232-245
5.2. Живопись: «Покров, накинутый над бездной» 245-259
5.3. Музыка: «в узах заключенный дух» 259-265
5.4. Романтизм и тютчевский жанр ; 265-283
Глава 6. Политическая лирика: поэтика символа 288-340
6.1. Символ предания 303-315
6.2. Символ пространства и света 315-325
6.3. Апология и инвектива 325-330
6.4. Программная и «другая» лирика: отношение 330-337
Заключение 341-353
Литература 354-370
Введение к работе
Поэтика лирического жанра - одна из наиболее сложных проблем современного литературоведения. При ясном ощущении специфики лирического рода v и накопленном к сегодняшнему дню солидном репертуаре дефиниций - сущность лирического всякий раз в очередной исторической реализации предстает как трудноуловимая субстанция. Поэтому вопрос о той или иной исторической разновидности лирики так или иначе затрагивает вопрос о ее родовых основах, у Особенно актуальным такое соединение вопросов оказывается в случае с романтической литературой. Во-первых, для романтиков лирика была естественной манифестацией индивидуального духа и в этом качестве наиболее «романтическим» родом искусства. «Лиризации» подвергаются практически все литературные (и не только литературные) жанры романтической эпохи. Во-вторых, романтики обосновывали - в программном противоречии с рациональной поэтикой предшествующих эпох - концепцию «чистой поэзии», которая должна проявлять вою сущность непосредственно, минуя (на деле - модифицируя и деформируя) обусловленные традицией формы. Лирический жанр, как связь внелитературной ситуации и литературного «поведения», должен был в конечном счете выражать одну ситуацию: ситуацию «непосредственной единичности» [58: т. 3, 323], в которой проявляет себя свободная индивидуальная воля.
В русской поэзии романтической эпохи мы обнаруживаем ряд более или менее последовательных реализаций этой программы (речь идет, разумеется, не о следовании пунктам какой-то программы, а о следовании тенденциям). Среди них поэзия Тютчева, по единодушному признанию исследователей, является едва ли не самым сложным случаем. В ней резкие признаки лирической новизны (фрагментарность, неожиданность ассоциаций и т.д.) сочетаются с хорошо ощущаемыми элементами традиции, что позволяло исследователям подчас говорить о «соединении несоединимого» [183: 57]. Необычность тютчевской поэтики на фоне существовавших направлений (неоклассицизм, элегическая школа, «школа гармонической точности», «поэзия мысли») заставляла ставить вопрос об истоках этой поэтики и о принципах жанрового мышления, выразившего себя в лирике Тютчева (в частности, о том, единые это принципы или нет). И это отнюдь жанра имеют непосредственное отношение к романтической революции в мироотношении и в художественной форме.
Первые проницательные замечания о поэтике Тютчева были сделаны уже его современниками (Шевыревым, Тургеневым, Фетом, братьями Аксаковыми и другими), затем, с начала XX века, возникает научная традиция (Ю.Н.Тынянов, Д.Д.Благой, Л.В.Пумпянский, Л.Я.Гинзбург, В.В.Гиппиус, Б.Я.Бухштаб, К.В.Пигарев, НЛ.Берковский, Ю.М.Лотман, В.Н.Касаткина, Л.П.Новинская и др.). (Очерк истории критических оценок и литературоведческих подходов дан в первой главе настоящей работы.) За прошедшее столетие накоплены в высшей степени ценные наблюдения над отдельными сторонами тютчевской поэтики, обоснованы принципиальные подходы. Проблема же продолжает оставаться в том, что многие литературоведческие темы в отношении поэтики Тютчева, так сказать, заявлены, но разработаны лишь при первом приближении, в виде очерков, обозначающих перспективные подходы. Это, как ясно определил в названии одной из своих статей о Тютчеве Ю.М.Лотман, «заметки по поэтике» [140: 553]. При всех плюсах такого эвристического «пробрасывания» идей неизбежно возникает эффект мозаичности (в чем-то, возможно, спровоцированный самим характером поэтического наследия: биографии Тютчева всегда получались более / законченными, чем литературоведческие штудии). С другой стороны, ему сопутствует эффект эскизности, чрезмерной обобщенности, когда, пользуясь опять же словами Лотмана, рассматриваются «лишь общие черты художественного мира Тютчева» [140: 593]. При таком эскизном подходе возникает опасность произвольной выборки наиболее резких поэтических черт и построения на ее (выборки) основе самых широких выводов. (Так, например, наблюдение о внимательности поэта к «минуте» приводит Н.Я.Берковского к выводу о том, что «стихотворения Тютчева по внутренней форме своей - впечатления минуты» [25: 187]. Совершенно очевидно, что это суждение, определяя в самом деле существенную особенность поэзии Тютчева, тем не менее, слишком общо и не соответствует поэтике таких текстов, как «Последний катаклизм», «Silentium!», «Два голоса», «Певучесть есть в морских волнах...» и других, где сжатость формы выражает не «минутность» впечатления, а, напротив, афористическую весомость, призванную выразить «вечные вопросы».)
На наш взгляд, именно постановка вопроса о тютчевском лирическом жанре (в первую очередь о ситуации, которую он выражает) позволяет перейти к систематическому анализу особенностей поэтики. Этот вопрос находится в неразрывной связи с вопросом о концепции лирического жанра - в том виде, в каком она складывалась у романтиков и их предшественников. Речь при этом идет не только об исторических истоках той или иной стилистической особенности, но, главным образом, о так называемых жанровых «конвенциях», которые определяли задачи лирики. Например, наблюдения над элементами живописности у Тютчева делались давно, устанавливался исторический генезис этих элементов (барочный «маринизм» и т.д.), но при этом не возникал разговор о живописной конвенции (ut pictura poesis) в лирике эпохи и о ее своеобразном преломлении у Тютчева. То же касается риторической и музыкальной конвенций. Но ведь именно изменившееся представление о том, что есть лирика/поэзия, формирует ее новые исторические разновидности, новые «идеи стиля», если воспользоваться выражением Г.А.Гуковского [71: 29]. Понятие «внежанровый фрагмент» (Тынянов, Гинзбург), которое привлекалось к определению тютчевского жанра, не вполне проясняет дело, так как в нем есть акцент на композиционном приеме, но не предполагается обсуждение ситуации, оформляемой фрагментом: срезанная композиция оформляет «случай», но какого рода «случай»? Проблематика общезначимых философских тем у Тютчева явно противоречит ситуации «случайного», и, значит, речь должна идти о каком-то специфическом соединении «случайного» и «неслучай- к/ ного», индивидуального и объективного. Это соединение заявлялось (Тынянов, Новинская), но не описывалось.
Вопрос о жанре не есть только вопрос о композиционных формах или частотных мотивах (пусть и сгруппированных, представленных в виде «инвариантной структуры», как у Лотмана [140: 568]). Это в первую очередь вопрос об уникальной ситуации, в которой ощущает себя лирический субъект и которую он стремится выразить в том числе с помощью обновленных жанровых конвенций. При этом для нас жанр - не только выражение ситуации и модус литературного «поведения», но и врата сообщения. Взгляд на жанр как на момент, где форма стремится выразить себя как содержание, далеко не нов, но в отношении лирики Тютчева чаще всего практиковалась альтернатива: анализ формальных моментов или «сообщений». Попытки связать между собой эти подходы неоднократно декларировались, но, в конечном счете, акцент ставился на чем-то одном (показателен в этом отношении опыт Л.П.Новинской). Любые признаки незаконченности или, напротив, законченности, фрагментарности или цельности свидетельствуют об определенной мировоззренческой установке автора и являются имплицитно выражающей себя идеей. (Так, по наблюдению Тынянова, натурфилософия выражает себя у Тютчева не только в «содержании», но и в таких формальных моментах, как строфика [236: 188].) Наша работа вызвана к жизни назревшей необходимостью системного осмысления накопленных к сегодняшнему ( дню наблюдений и последовательного обсуждения основных моментов поэтики Тютчева в связи с судьбами лирического жанра в романтическую эпоху. В этом нам видится ее актуальность.
Осмысление тютчевского жанра чаще всего начинали с констатации разложения традиционной жанровой системы. Его рассматривали как один из результатов «деканонизации» традиционных жанров. Мы полагаем, что можно и нужно также взглянуть на него, как на явление, возникшее в результате рождения фе- номена «лирика» («чистая лирика») в том значении, которое ему дали романтики. Лирика как романтический жанр выражает экзистенциальную ситуацию в ее основе, как «факт осознания себя в бытии» [19: 126], и ее «пейзажные», «любовные» и прочие мотивы представляют собой символизацию этого факта.
Разрыв обязательных связей между темой и стилем (характерных для традиционных жанров) не означает упразднения жанра, но означает 1) ббльшую свободу этих связей и 2) смещение жанрового критерия в сферу «личности», обнаруживающей в лирике средство для манифестации своих глубинных интенций. «Личность» превращается в генеральную тему, которая может запросить любые стилевые варианты и которая в своих основаниях таит негативность: принципиальную невозможность выражения/исчерпания темы. Эта негативность оказывает влияние практически на все элементы поэтической системы. Отсюда «фраг ментарность», поэтика символического «намека» (Грехнев), содержательная трансформация поэтической риторики, «живописности» и «музыкальности» как критериев лиризма. Речь в этом случае идет не о личности как о психолого- j биографическом единстве, а о моменте самосознания и о способах его символи- 1 зации (эти моменты, разумеется, можно post factum связать в психолого-биографическое единство, но это будет совершенно другая задача).
Вопрос о жанровой конвенции оказывается особенно важным для эпохи, когда утрачивается ощущение жесткой связи между темой и поэтическим языком (что называют процессом «деканонизащш» поэтических жанров). Так, на смену размышлениям о том, какой из традиционных жанров наиболее лиричен, приходит представление о лирике как таковой. Это представление, в свою очередь, реализуется в отборе средств и в осознании их как «поэтических» или «непоэтических». Возникает новая иерархия: на место системы специализированных (под тематические задачи) жанров заступает система ключевых критериев - живописность выразительнее, чем риторика, а музыка выразительнее, чем пластический образ. Эта система предпочтений была вызвана к жизни необходимостью выразить индивидуальную ситуацию - основную для романтиков. Такой взгляд на проблему определяет нашу основную цель: анализ поэтики Тютчева с точки зрения менявшихся в его эпоху представлений о природе лирического. С этой точки зрения мы рассматриваем поэтический синтаксис, композицию и, наконец, жанр ц как реализацию основных конвенций. Этот подход заставил нас прибавить к числу названных задач анализ программной поэзии Тютчева (той ее части, которую обычно называют «политической лирикой»), так как сопоставление «интуитивного» и «программного» творчества также является моментом жанровой рефлексии, характерной для эпохи. В структурном отношении работа построена на принципе восхождения от частных и более формальных моментов жанровой характеристики к более общим и содержательно-тематическим: синтаксис, компо- \ зиция (в том числе композиция цикла), жанр как соблюдение/нарушение существующих конвенций, политическая лирика (как пример программного творчества, образующего в границах единой поэтической системы момент противоположного признака).
В работе мы используем выражение «тютчевский человек», которое, на наш взгляд, не является полным аналогом понятию «лирический субъект/герой». ЛЛ.Гинзбург указывала на отсутствие в поэзии Тютчева «единого авторского образа»: «Личность - ни биографическая, ни условно лирическая - так никогда и не стала средоточием поэзии Тютчева» [62: 89, 91]. Тем не менее единство поэтического мира Тютчева хорошо ощущается (даже при сопоставлении двух различных периодов творчества). Это единство, по нашему мнению, обеспечивается внутренне сложной позицией сознания, способного к субъектно-объектным манифестациям. Тютчевское лирическое «я» проявляет себя не только как особый тип зрения и интонации, но и как тип сознания, то есть как специфическая антропология. (Акцент на «антропологических взглядах Тютчева», насколько можно судить, до сих пор был ясно поставлен лишь В.Н.Касаткиной, указавшей на выделенность «концепции личности» в лирике поэта. См.: 105,79.)
Между лирическим «я» и обобщенным «человеком/смертным» не только нет границы, но есть принципиальное тождество (подчас мучительно переживаемое, но это другой вопрос). Отсюда выражение «тютчевский человек», которое знаменует такое тождество. (Например, мы можем говорить о том, что «тютчевский человек» в метафизическом плане способен быть как надситуативным «зрителем», так и героем вселенского зрелища - и речь при этом заведомо идет не только о реализованных в том или ином тексте мотивах, но и о позиции самого лирического субъекта.) Кроме того, выражение «человек» вбирает в себя определенную дидактическую установку, которая весьма ощутима в лирике Тютчева. Это система императивов, предъявляемых к «человеку» и определяющих истинные и неистинные модусы его бытия. И третий принципиальный момент, обосновывающий это рабочее выражение: резкая интенциональность («Душа хотела б быть звездой...», «О, Небо, если бы хоть раз...», «Как всё удушливо-земное // Она хотела б оттолкнуть!» и т.п.). Безусловно, любой художественный мир содержит антропологический аспект, но в поэзии Тютчева ясно ощущается сознательное представление того, что Шелер назвал «единой идеей человека» [270:133]. Переживание времени и пространства как первофеноменов - наиболее обобщенная тютчевская проблематика и точка отсчета любой антропологии.
«Природа человека» - это проблематика, непосредственно извлекаемая и из тютчевских тем, и из тютчевской поэтики. В определенном отношении за словами «поэтика тютчевского лирического жанра» в нашей работе стоит выражение «особенность тютчевского человека».
Основной тезис нашей работы в обобщенном виде можно выразить так: специфика Тютчева-лирика в том, что, будучи ярким выразителем индивидуальной/ экзистенциальной ситуации, он одновременно удерживает позицию внеси- v/ туативного наблюдателя, т.е. объективную ситуацию, «удел смертного». Дело, на наш взгляд, не в своеобразии философских мыслей Тютчева (самый глубокомыс- ленный поэт - мыслитель-дилетант), а в соединении лирики экзистенциального ( импульса и поэзии созерцания. При этом лирически выраженная экзистенция получает достоинство интеллектуального акта, а созерцание - такое качество экзистенции, как спонтанность (лирическая «искренность»). В этом мы обнаруживаем причину соприсутствия «классического» и «романтического» в поэзии Тютчева.
Использованная литература далее (за исключением последнего, заключительного раздела) приводится в примечаниях, сопровождающих каждый из разделов работы, а также в пронумерованном списке литературы.
Параллелизм
Параллелизм может рассматриваться как частный случай поэтического синтаксиса и как универсальный принцип организации лирической стихотворной формы, генетически восходящий к ее первоистокам1. Лирическое стихотворение, как правило, изобилует параллелизмами различного порядка -внутрифразовыми, межфразовыми (которые нередко совпадают с метрической единицей - строкой), межстрофными (рефрены) и т.п. Исторически синтаксический параллелизм мог выполнять самые различные функции: от простого подчеркивания ритма (например, в архаических песнях-речитативах) до решения сложных риторических задач, связанных с логикой убеждения, с достижением максимальной выразительности речи. Бывший еще на рубеже XVIII - XIX веков общим для поэзии и красноречия риторическим приемом , параллелизм в романтической лирике приобретает - в соответствии с духом этой лирики - характер сугубой музыкальности: идентичность или взаимоот-раженность синтаксических конструкций удерживает основной тон, делая возможной на этом фоне сложную игру ускользающих от прояснения модуляций. В риторической практике параллелизм весьма часто представляет собой некое сопоставление, comparatio, которое, будучи по своей основной задаче амплификацией, должно разрешиться в итоговое (данное или подразумеваемое) суждение. Ср.:
А вот пример элегической амплификации, которая по форме подобна риторической (завершается итоговым «все», в котором должны слиться члены параллели), но которая модулирует оттенки основного элегического тона и в этом качестве превращается в самостоятельную и до конца не интерпретируемую музыкальную фразу:
Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей, Сей факел гаснущий и долу обращенный, Все здесь свидетель нам, сколь блага наших дней, Сколь все величия мгновенны.
(В.А.Жуковский, «Славянка») Элегическая эмфаза, выраженная параллелизмом (того или иного рода), имплицирует «невыразимое» настроение, не сводимое ни к какому суждению и передаваемое как особого рода эмоциональная и семантическая вибрация:
Как слит с прохладою растений фимиам! Как сладко в тишине у брега струй плесканье! Как тихо веянье зефира по водам И гибкой ивы трепетанье! (В.А.Жуковский, «Вечер»)
Синтаксический повтор - достаточно жесткая конструкция, чтобы любое варьирование, тормозящее инерцию повторяющихся элементов, придавало словесным формулам суггестивную значительность. Ср. знаменитое начало «Fare thee well» Байрона:
Fare thee well! and if for ever, Still for ever, fare thee well...
Здесь синтаксическая инверсия первой строки во второй - обратно симметричный (инверсный) параллелизм, род хиазма, - придает словам «fare thee well» и «for ever» смысл абсолютного, судебного императива с оттенком романтической мизантропии.
Для малой лирической формы синтаксический параллелизм - необходимое среднее звено между метрикой и строфикой, едва ли не универсальный композиционный принцип, позволяющий замкнуть текст в выразительное целое. Уже при первом взгляде на это явление становятся очевидными две его функции: функция выражения «волновой» природы лирической эмоции и функция афористического оформления темы. Лирика Гейне, экспериментировавшего с оформления темы. Лирика Гейне, экспериментировавшего с малой формой в 20-е годы (и часто исходящего в этих экспериментах из романтической презумпции образцовой «ясности» фольклорных лирических форм, насквозь параллелистич-ных8), содержит показательные примеры такого оформления (возможно, имевшие для Тютчева в тот период значение урока). См.:
Es liegt der heifte Sommer Auf deinen Wangelein; Es liegt der Winter, der kalte, In deinem Herzchen klein. Das wird sich bei dir andern, Du Vielgeliebte rnetn! Der Winter wird auf den Wangen, Der Sommer im Herzen sein.
У Тютчева весьма часто параллелизмы играют роль ведущего композиционного приема. Руководящее значение в этом случае имеет известное замечание Ю.Н.Тынянова: «натурфилософский параллелизм, «двоичность» не осталась у него только материалом и стилем, но и повлекла всю организацию стихового материала. Самое построение у него стало параллелистическим или антитетическим, в зависимости от материала»10. Говоря о «натурфилософском параллелизме», исследователь, конечно, имел в виду романтическую тему таинственной, символической и мистической связи между внутренней и внешней природой11, как она выразилась в стихотворениях «Поток сгустился и тускнеет...», «Тени сизые смесились...», «Еще земли печален вид...» и т.п. Таким образом, частный случай риторической практики превращается - в полном соответствии с духом чистой лирики, пробуждающей первичные лирические формы, - в универсальный и самодостаточный принцип. Но это утверждение слишком общо: наблюдения над конкретным использованием приема позволяют увидеть важные нюансы.
Экспозиция
И.П.Смирнов в высшей степени удачно, на наш взгляд, определил лирический зачин как «дебютную позицию»21. С шахматным дебютом лирическое начало роднит наличие двух типов развития, открытого и закрытого. Открытое начало предполагает «инициативное» развитие темы: она формулируется с первых строк либо как сентенциозное высказывание (дефинитивная экспозиция), либо как событийная мотивировка (ситуативная экспозиция), либо как форма их соединения. Ср.: Певучесть есть в морских волнах... Так здесь-то суждено нам было Сказать последнее прости... С горы скатившись, камень лег в долине. Как он упал? Никто не знает ныне...
Наиболее характерный пример закрытого начала - пейзажная экспозиция. В такой экспозиции тема может быть едва намечена, и ее дальнейшая разработка представляет ряд экспликаций, последняя из которых может оказаться весомым семантическим контрапунктом по отношению к началу. Так в стихотворении «Как сладко дремлет сад темно-зеленый...» (ПСС, 124—125) вполне идиллический зачин («нега ночи голубой») получает контрапункт в последней строфе -«непостижимый гул» бестелесного мира и «ночной хаос». Единственное, что те матически связывает экспозицию и конклюзию, - атмосфера ночи, «дремоты» и «сна». Но и в этой внешней мотивной близости кроется реальная оппозиция: дремлющий сад и спящий град скорее противопоставлены как образ природного гармонизма, с одной стороны, и, с другой, как образ смертной юдоли (которой свойственно «изнемогать» и засыпать от труда), находящейся в двусмысленных, непроясненных, подвопросных отношениях с миром бестелесных сущностей, с «хаосом ночным» - величиной неизвестной и пугающей (это выражено также сменой акустических характеристик события ночи: момент абсолютной, музыкальной внятности далекого и близкого - «Музыки дальней слышны восклицанья, // Соседний ключ слышнее говорит...» - сменяется нерасчлененным, какофоническим моментом «непостижимого гула»). Подспудно введена схема контрастных метафизических характеристик: мир первых двух строф - мир до гре-хопаденья (в нем событие ночи происходит «как в первый день созданья»), тогда как мир последующих двух строф — мир дотварный (мир хаоса) и мир падший (труда, изнеможенья и смерти). Контраст экспозиции и финала подчеркнут интонационно: эмфатические восклицания первой строфы контрастны по отношению к интонации вопроса, интонации смутных метафизических предположений в последней. Таким образом, тема раскрывается как многообразное антитетическое напряжение между основными частями композиции. «Закрытость» экспозиции в этом случае выражается в том, что в ней самой не содержится ничего, что провоцировало бы такое развитие темы.
Подобного рода тематические неожиданности составляют одну из резких особенностей лирических композиций у Тютчева и обуславливают необычность многих композиционных решений. Тематическая контрастность финала по отношению к зачину составляет своеобразие таких известных стихотворений, как «Итальянская villa», «И гроб опущен уж в могилу...», «И чувства нет в твоих очах...», «Сияет солнце, воды блещут...», «Утихла биза... Легче дышит...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...» и некоторых других. При этом третья часть композиции, синтетическая, оказывается «нулевой», так как то, что в ней могло бы быть сформулировано, никакому формулированию не поддается, вполне непостижимо и несказуемо: смысловой сдвиг происходит в области неотчетливых смысловых предвосхищений. Это silentium compositionis - «молчание», ставшее композиционным принципом. В стихотворении «И гроб опущен уж в могилу...» тема формулируется как противопоставление юдольного, тесного, душного мира людей и блаженно-свободного мира природы: И гроб опущен уж в могилу, И все столпилося вокруг... А небо так нетленно-чисто, Так беспредельно над землей... (ПСС, 123)
Композиционный «оксюморон» здесь выражен как противительным синтаксисом («а небо»), так и демонстративной контрастностью семантических комплексов, выражающих мир людей и мир природы: тлетворный/бренный - нетленно-чистый, могила/толчея/спертость - беспредельное небо/голубая бездна. Кроме того, в границах первой части композиции неявно разрабатывается еще один комплекс сопоставлений: иронический контраст между «погребальной ре-чью»/«пристойной речью» участников похоронного ритуала и отталкивающей сутью самого явления смерти. Так в движение темы вовлекается мотив человеческого лицемерия, которому в виде подразумеваемого антагониста противостоит абсолютная естественность природных проявлений: человек и затверженно-лицемерные формы его существования почти непристойны и грязны в сравнении с жизнью природы. Даже слова пастора (в собрании стихотворений 1854 года — «пастыря») о «человечьей бренности», будучи истинными по существу и уместными по отношению к ситуации, являются разновидностью все той же «пристойной речи» и, следовательно, ложью.
Риторика: «Как сердцу высказать себя?»
Распространенное мнение о том, что своеобразие Тютчева-лирика не в последнюю очередь связано с использованием несколько архаичной для его времени риторической техники, не нуждается, как будто, в доказательствах. В третьей главе мы уже обращали внимание на специфичное использование некоторых риторических форм в стихотворениях Тютчева. Но помимо специфики, связанной с элементами поэтической речи и проявляющейся через них, существует специфика самой риторической позиции в лирике, за которой возникают ясные контуры жанра.
Риторика всегда предполагает определенность адресата, его, скажем так, бытийную суверенность, даже если этот адресат представляет собой персонификацию какого-либо отвлеченного свойства. Риторическое слово драматургично, то есть оно обращено к слушателю и ответчику, находящемуся на одной площадке с говорящим, пусть даже в некоторых случаях (предельного обобщения) этой площадкой оказывается мироздание. Риторическое обращение к самому себе может быть лишь заведомо ироническим или условным (как в различных формах soliloquia). Отсюда ясно, что в чистой лирике, где адресатом выступает идеальный слушатель, подчас с трудом отделяемый от субъекта речи, риторика не может быть последовательной, не может быть до конца самою собой: она начинает переживать существенные трансформации. Уже поэтикой риторической эпохи ясно осознавалось противоречие между законным требованием «витийст-венных украшений» и нежелательностью «холодных рассуждений».
Программное требование предромантической и романтической поэзии - поиск суггестивного поэтического слова, в котором определенность риторической адресации если бы и не исчезла совсем, то, по крайней мере, отошла на второй план по отношению к неопределенности «тончайших вибраций» (Г.А.Гуковский)18, возникающих между лирическим «я» и его конфидентами -многочисленными отражениями вовне, идеальными слушателями и резонаторами. Это требование обусловило чистую лирику в той же степени, в какой требование максимально психологизированной выразительности в передаче световоз-душной среды обусловило чистый пейзаж в романтической живописи первой половины XIX века (Констэбл, Тернер, Коро). Прежние педагогические задачи воздействия на слушателя/читателя, - похвала, порицание, призыв, совет, пример и т.п., - чье решение было невозможно без использования риторической техники, осознаются как устаревшие. В.А.Жуковский: «... это действие (поэзии-П.Т.) не есть ни умственное, ни нравственное - оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою рассудка отразить не можем. Поэзия, действуя на душу, не дает ей ничего определенного...». Презентация чувства уступает место тактике вовлечения в сложные эмоциональные резонансы, - вовлечение, которое не гарантирует никаких смысловых итогов.
Противоречие между поэтикой молчания и поэтикой риторической эмфазы, действительно, характерно для тютчевской лирики 20-30-х годов. Вряд ли можно отнестись к этому противоречию лишь как к стилистической особенности. Нам представляется, что тютчевский жанр в этом случае формулирует особую -на фоне романтической поэзии - мировоззренческую позицию. И в то же время это противоречие выражает то, что можно вслед за В.И.Коровиным назвать доведением «до предела проблематики русской романтической философской лирики»20. Жалобы на отсутствие сочувственного понимания являются выражением модельной для романтиков ситуации, и современный Тютчеву романтизм обнаруживал компенсацию в самом акте творчества. Ср. у Батюшкова: «Где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами - и мы прибегаем к искусству выражать мысли свои...»21. У Тютчева идеальный слушатель вполне идеален, и его творческое кредо мы можем лишь эксплицировать из самой поэтико-риторической формы (так в «Silentium!»).
Два риторичных по форме (развивающих тему в логике убеждения) стихотворения конца 20-х годов, «Цицерон» и «Silentium!», кажутся антагонистами по взятым темам. Если в «Цицероне» утверждается блаженство зрителя грандиозной исторической драмы, мужа рока, то в «Silentium!» утверждается неприкосновенность внутреннего мира и полная сосредоточенность на нем. Созерцатель истории должен быть всецело захвачен внешним по отношению к нему зрелищем, тогда как герой-солипсист призван столь же всецело уйти во внутреннее пространство «чувства», «мечты» и «дум». Это противоречие двух ультраромантических идей возникает на основе очень похожих мотивов. Во-первых, обращает на себя внимание определенная общность характеристик, сопровождающих образ пространства.
Историческая ночь и внутренняя ночь оказываются условием для постигающего зрения, тогда как гражданские «бури» и «тревога» соответствуют «наружному шуму», мешающему сосредоточится на истинно важном. И в том, и в другом пространстве одной из наиболее значительных метафор оказывается жизнь звезды с периодами восхождения и заката. Внешний антагонизм Капитолийской высоты/высоких зрелищ и «душевной глубины» не должен смущать: контекст тютчевской поэзии рубежа 20 - 30-х годов позволяет установить, что восхождение на «выси творенья» («Сон на море», перевод монолога дона Карло-са из «Эрнани» и Фауста из первой части трагедии22) возможно лишь во внутреннем пространстве; в этом убеждает и парадоксальная логика «Цицерона»: если в традиции (например, у Шиллера в «Богах Греции») мир олимпийцев знаменует блаженную отрешенность от земли и ее дел, то здесь «сей мир» и Олимп оказываются, в сущности, одним и тем же пространством (об особом интересе поэта в конце 20-х годов к парадоксу, заключенному в совмещении ситуаций, свидетельствует также стихотворение «Странник»: «Домашних очагов изгнанник, // Он гостем стал благих богов», ПСС, 87). Таким образом, блаженство созерцателя в «Цицероне» возможно лишь как смена точки зрения, как установление внутренней дистанции по отношению к «наружному шуму» истории23.
Символ предания
Под символом предания мы разумеем мотивы, которые имеют своим источником легендарные тексты, мифологию и которые в ближней литературной традиции восходят, с одной стороны, к торжественной парафрастической поэзии XVIII века (например, к переложениям псалмов), а с другой - к антологической поэзии неоклассиков и романтиков. Использование политической одой (и XVIII, и XIX вв.) этих мотивов составляло неизменный признак последней. И «похвальные», и гражданские темы, в сущности, не могли быть реализованы без непосредственно привлеченного или подразумеваемого мифолого-легендарного контекста. В «Видении»/«Олеговом щите», как и в стихотворении начала 30-х годов о польских событиях, Тютчев использует разнородную по происхождению символику: античную, ориентальную, христианскую, историко-легендарную. Такая разнородность позже уступит место большей цельности символического ряда, вызванной не в последнюю очередь тем, что поэт сам активно участвовал в достройке историко-политического мифа панславизма. В стихотворениях 40-х - 60-х годов основными средствами такой достройки стали эсхатологические образы.
Один из таких ключевых образов - образ волны. Волнующаяся стихия -образ иррациональной, недоступной человеческому уразумению и в то же время упорядоченно-космической силы в натурфилософской лирике Тютчева («Сны», «Сон на море», «Волна и дума»). «Смерть и Рождение, Воля и Рок, // Волны в боренье, // Стихии во пренье, // Жизнь в измененье — // Вечный, единый поток!..» («Из «Фауста» Гете»; ПСС, 114). В лирике второго периода очевидно четкое разграничение «волны» как вечного космического ритма и «волны» - образа стихийного исторического мятежа, который обречен на успокоение перед лицом Божественной воли и ее агентов. В этом втором случае он явно восходит к Библии: Бог укрощает «шум морей, шум волн их и мятеж народов» (Пс. 64: 8). Еще один источник образа - монархическая концепция старших романтиков: «Море - стихия свободы и равенства» (Новалис) . Эсхатологический смысл образа - победа Божьего плана истории над хаотическими силами исторического процесса. В хрестоматийном для политического раздела стихотворении-апологе «Море и утес» (ПСС, 151-152) этому образу приданы практически все возможные негативные коннотации: волна «до звезд допрянуть хочет, // До незыблемых высот» (аналог Вавилонской башни), она подобна геенскому огню, в ней иносказательно проявляет себя слепой и безрассудный «мятеж народов» (хорошо угадываемый контекст европейских событий конца 40-х годов). Пластика этого образа - волнующееся море и неподвижный утес - восходит также к эмблеме «Каменной горы, морем окруженной» (чей девиз - «Неподвижно смотрю на свирепеющие волны»)35. Спокойствие, неподвижность, неизменность гранитного утеса знаменуют Божественные провидение и силу, что не отменяет необходимости своего рода политического совета в последней строфе: «Стой же ты, утес могучий! // Обожди лишь час-другой...»36. Универсальный символ не исключает связи с реальным политическим контекстом, напротив - контекст обнаруживает в себе предпосылки для развертывания универсального символа. Приступ волн -«роковой», и, значит, дело того, кто является мужем рока - соответствовать своему призванию. Призыв к этому - внутренний нерв политической лирики Тютчева.
Стихотворение «Море и утес» интересно своей подчеркнуто архаической поэтикой: для него характерны живописность, расточительность, избыточность предикатов37. «И бунтует, и клокочет, // Хлещет, свищет и ревет... С ревом, свистом, визгом, воем... Но, спокойный и надменный, // Дурью волн не обуян, // Неподвижный, неизменный, // Мирозданью современный...» и т.п. Это энергичная поэтика «огненной кисти», «витийственного распространения» темы, характерная для торжественной поэзии XVIII века и в таком концентрированном виде проявлявшаяся у Тютчева только в очень ранних текстах38. Нестандартная девятистишная строфа парной рифмовкой седьмой и восьмой строк явственно напоминает классическую схему одической строфы. Четырехстопный хорей - отнюдь не самый распространенный в эпоху создания текста размер - нехарактерен для похвальной оды, но он со времен Ломоносова был возможен в духовной оде. (О перекличках с духовной поэзией свидетельствует, в частности, образ моря - «клокочущего котла», восходящий к книге Иова и к ломоносовской «Оде, выбранной из Иова», строфа 12.)
Контраст волн и утеса выражен четкими антитезами во второй и третьей строфах, где пятая строка открывается синтаксисом противопоставления: так возникает ощущение «моторности», присущей большой оде. Наконец, кроме явственного ощущения стилистической близости, здесь есть прямые переклички с шедевром Державина «На взятие Измаила»: они проявляются в подборе глаголов (ср.: «С ревом, свистом, визгом, воем» - «Дохнула с свистом, воем, ревом»), а также в самом образе «неподвижного великана», который является парафразой державинского «несокрушаемого колосса»39. Одический гиперболизм, как правило, имеет в своей основе реальный политический контекст, и стихотворение Тютчева также при всех своих гиперболах откровенно публицистично.