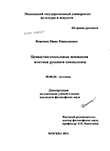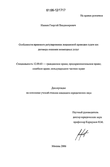Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Постсимволизм и символизм в русской литературе начала XX века
1.1. Взаимосвязь русского символизма с постсимволистскими течениями: акмеизмом и футуризмом 15
1.1.1. Культурная ситуация рубежа веков как основа, объединившая все направления модернизма 15
1.1.2. Внутренняя неоднородность русского символизма рубежа веков 18
1.1.3. Проблема постсимволизма как совокупности направлений, возникших на основе русского символизма 33
1.2. Место Г. Иванова среди литературных школ и направлений XX века 44
1.3. Символизм и символисты в прозе Г. Иванова 51
Глава 2. Романтизм и символизм в творческом восприятии Г. Иванова
2.1. Романтизм и романтизация в творчестве Г. Иванова 67
2.2. Деромантизация в эмигрантский период творчества Г. Иванова 113
2.3. Категория музыки как основа экзистенциальной картины мира Г. Иванова 130
Глава 3. Отражение поэтики русского символизма в творчестве Г. Иванова (интертекстуальный аспект)
3.1. Георгий Иванов и Иннокентий Анненский 160
3.2. Образ родины и мотив пути в лирике Г. Иванова и традиция А. Блока 200
Заключение 239
Список использованных источников и литературы 246
- Культурная ситуация рубежа веков как основа, объединившая все направления модернизма
- Проблема постсимволизма как совокупности направлений, возникших на основе русского символизма
- Романтизм и романтизация в творчестве Г. Иванова
- Георгий Иванов и Иннокентий Анненский
Введение к работе
Георгий Иванов (1894-1958) является одним из тех авторов, которых трудно соотнести с определенным литературным направлением. Большинство исследователей видят в нем поэта, «преодолевшего символизм», и находят гораздо больше оснований связывать Г. Иванова с акмеизмом. Однако анализ творчества поэта показывает, насколько глубоко были усвоены им уроки русского символизма. Г. Иванов воспринял и сохранил не только символистское мироощущение, но и многое из символистской поэтики, при том, что исторически и по сути своего поэтического творчества принадлежал к новой, постсимволистской эпохе.
Г. Иванов вошел в литературную жизнь в 1911 году, опубликовав в издательстве «Ego» свой первый сборник «Отплытье на о. Цитеру», и с тех пор до самой эмиграции в 1922 году играл значительную роль в культурной среде Петербурга, о чем свидетельствуют воспоминания современников и высказывания критиков. Отзывы и рецензии на сборники ранних стихов Г. Иванова - «Отплытье на о. Цитеру», «Горница» (1914), «Памятник славы» (1915), «Вереск» (1916), «Сады» (1921), «Лампада» (1922) - оставили В. Брюсов, А. Блок, Н. Гумилев, И. Северянин, М. Кузмин, С. Городецкий, А. Тиняков, Вл. Ходасевич, М. Лозинский, С. Парнок, Л. Лунц и др. Заслугой молодого автора считали умение «выдержать стиль» , «безусловный вкус», «большую сосредоточенность художественного наблюдения» . При этом самые первые его сборники упрекали в подражательности: «... он находится под явным влиянием своих предшественников (особенно М. Куз мина)» ; «небольшой мир, раскрываемый в книге, только спутник старшей планеты - поэзии Кузмина». В то же время М. Лозинский видел перспективы дальнейшего самостоятельного развития поэта: «... своеобразный голос, которым ведется рассказ об этом мире, убеждает нас, что творчество Георгия Иванова сумеет выйти на самостоятельный путь и двигаться по нему уверенно»2. Однако впоследствии многие рецензенты приходили к выводу, что именно сильные стороны поэзии Г. Иванова заостряют самый главный ее недостаток - отсутствие глубокого содержания и чувства. Л. Лунц писал: «В общем, стихи Г. Иванова Образцовы. И весь ужас в том, что они Образцовы» . Одним из первых почувствовал эту особенность произведений своего друга и ученика Н. Гумилев: «Он не мыслит образами, я очень боюсь, что он вообще никак не мыслит. Но ему хочется говорить о том, что он видит» . Ключевое значение для понимания ранней поэзии Г. Иванова обнаруживают отзывы Блока и Ходасевича. Сборник «Горница» Блок считал «памятником нашей страшной эпохи», «книгой человека, зарезанного цивилизацией», поскольку эти «страшные стихи не обделены ничем - ни талантом, ни умом, ни вкусом, и вместе с тем - как будто нет этих стихов, они обделены всем, и ничего с этим сделать нельзя»5. Вл. Ходасевич называл стихи Г. Иванова «одной из отраслей русского прикладного искусства начала XX века». Вывод же рецензии Ходасевича в контексте всего жизненного пути Г. Иванова звучит пророчески: «Г. Иванов умеет писать стихи. Но поэтом он станет вряд ли. Разве только случится с ним какая-нибудь большая житейская катастрофа, добрая встряска, вроде большого и настоящего горя. Собственно, только этого и надо ему пожелать» .
Негативные статьи, отзывы, упоминания о Г. Иванове в советской печати (И. Оксенова, С. Боброва, Б. Гусмана, Г. Горбачева, К. Зелинского, В. Орлова) имели две причины: во-первых, отторжение советскими литературоведами литературы русского зарубежья, а во-вторых, критическое отношение к поэзии Г. Иванова, преобладающее среди представителей культуры Серебряного века. Так, И. Оксенов характеризовал Г. Иванова как «одного из "стаи славной" былых петербургских поэтов-снобов»1, а Б. Гусман почти дословно повторяет дореволюционные рецензии на творчество Г. Иванова: «Душа Г. Иванова наблюдает жизнь лишь издали ... Его душа вся только в грезах о прошлом ... Очарованная этими "воздушными мирами", его душа слепа для бьющейся вокруг нас в муках и радостях жизни»2. С начала 60-х годов в советском литературоведении утвердилось противопоставление творчества М. Цветаевой как лучшего поэта русского зарубежья и Георгия Иванова. В. Орлов в предисловии к первому советскому «Избранному» Цветаевой писал: «Эмиграция выдвигала в качестве "своего" поэта лощеного сноба и ничтожного эпигона Георгия Иванова, который в ностальгических стишках томно стенал о "бессмысленности" существования или предавался пустопорожним «размышлениям...»3.
В критике русского зарубежья оценка творчества Г. Иванова тоже неоднозначна. Некоторые критики, например, А. Бем, считали, что творчество Г. Иванова в эмиграции «мало изменилось»: «Он как бы освобождается от лишнего балласта слов и образов ... , но это внешнее освобождение и упрощение не сопровождается внутренним прояснением, и остается впе чатление все той же нарочитости и манерности» . Напротив, В. Марков называет Г. Иванова «поэтом русской эмиграции», потому что «в эмиграции, и благодаря ей, он стал поэтом единственным и неповторимым»2. Ему вторит К. Мочульский, который после выхода сборника «Розы» (1930) заметил: «...до "Роз" Г. Иванов был тонким мастером, писавшим "прелестные", "очаровательные" стихи. В "Розах" он стал поэтом» . Р. Гуль считал, что Г. Иванов заслужил «грустное и бедное и в то же время почетное и возвышенное место первого поэта российской эмиграции», обладающего «от Бога данным голосом и глазом поэта, странно и необычно озирающим мир»4. Именно за рубежом впервые началось серьезное изучение творчества Г. Иванова сначала в работе И. Агуши5, а потом в монографии В. Крейда6.
В 80-е годы поэзия Г. Иванова начинает вызывать интерес и на родине. С 1987 года в отечественных периодических изданиях печатаются его стихотворения. В 1989 году московское издательство «Книга» выпускает сборник избранных произведений автора «Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени». В 1992 году московское издательство «Прогресс» и парижско-нью-йоркское «Третья волна» печатают книгу прозы «Мемуары и рассказы». До недавнего времени самым полным собранием сочинений Г. Иванова считался трехтомник прозы и поэзии, изданный в 1994 году к столетию со дня рождения поэта московским издательством «Согласие». Однако в 2005 году в петербургском издательстве «Академический проект» вышел самый полный сборник стихотворений Г. Иванова из серии «Новая библиотека поэта», в который включены все выявленные к настоящему времени поэтические произведения автора.
Наряду с этими публикациями появляются и литературоведческие статьи, посвященные как обзору творчества поэта в целом (В. Смирнов, М. Шаповалов, Т. Хмельницкая, Е. Витковский), так и отдельным вопросам его мировоззрения (А. Арьев, А. Аксенова, А. Зверев и др.) и поэтики (С. Кормилов, А. Чагин и др.). Анализу интертекстуального начала творчества Г. Иванова посвящена монография ТВ. Данилович «Культурный компонент поэтического творчества Георгия Иванова: функции, семантика, способы воплощения».
В 90-е годы появляются диссертационные исследования творчества Г. Иванова. В работе Е.А. Алековой «Поэзия Георгия Иванова периода эмиграции (проблемы творческой эволюции)» (1994) изучается эволюция художественной системы поэзии Г. Иванова эмигрантского периода с точки зрения «аскезы» как движения к «непоэтичности», сознательного отказа Г. Иванова от «формо-стихо-слово-творчества». Диссертация И.Н. Ивановой посвящена роли иронии в художественном мире Г. Иванова.
Результатом осознания значимости фигуры Г. Иванова для литературы XX века стало включение материала о нем в пособия для школьников1 и вузовские учебники, где на первый план выступает проблема, к какому направлению литературы начала века относится наследие Г. Иванова. В учебнике А.Г. Соколова его творчество напрямую связано с акмеизмом: «Программные установки акмеистической школы выразились, может быть, с наибольшей отчетливостью и подчеркнутой устремленностью к «вещной изобразительности» в дооктябрьском творчестве Г. Иванова» . Т.П. Бусла-кова даже эмигрантское творчество Г. Иванова представляет как продолжение деятельности «Цеха поэтов», только на иной почве, и включает мате-риал о Г. Иванове в параграф «Цех поэтов» в эмиграции» . Н.А. Богомолов относит Г. Иванова к поэтам вне течений. Среди таких поэтов исследователь выделяет несколько групп и считает, что Г. Иванов входит во вторую из них, которую составляют «поэты, так или иначе с акмеизмом свое творчество соотносившие, но оставшиеся вне его в точном смысле слова»3.
Итак, в представлении места Г. Иванова среди литературных течений начала века исследователи расходятся, неоспоримым является только включение Г. Иванова в пространство направлений постсимволизма. В связи с этим возникает проблема соотношения как постсимволизма в целом, так и отдельных его представителей, с символизмом, поскольку, по утверждению М.Л. Гаспарова, «постсимволизм оказывается естественным продолжением символизма в его различных изводах»4.
Проблемы теории и поэтики русского символизма активно изучаются не только литературоведами, но и культурологами. Исследованию этого направления посвящены работы Д.Е. Максимова, В.Н. Топорова, Ю.М. Лотмана, З.Г. Минц, В.Н. Орлова, С.С. Аверинцева, Н.А. Богомолова, А.Ф. Лосева, Д.Е. Сарабьянова, И.С. Приходько, Д.М. Магомедовой, О.А. Лекманова, Л.А. Колобаевой, Е.В. Ермиловой. Из зарубежных исследователей этим вопросом занимались А. Пайман, А. Ханзен-Лёве, X. Баран, И.П. Смирнов.
Существует ряд работ сопоставительного характера, например, исследование З.Г. Минц «Блок и русский символизм»1. Актуальность темы настоящего исследования определяется необходимостью и возможностью раскрыть глубинные связи постсимволизма с символизмом на примере творчества одного поэта — Г. Иванова.
Соотношение Г. Иванова с символизмом упоминается в некоторых работах, посвященных этому автору. Н.А. Богомолов подчеркивает, что Г. Иванов принадлежал к первому в истории русской поэзии начала века поколению, которое не испытало непосредственного влияния символизма, поэтому, хотя школа символизма была и для него неминуема, но это было «уже не прямое развитие в рамках направления, а лишь та начитанность, которой Г. Иванов отличался на протяжении всей жизни и которая позволила ему так эффективно создать свою «центонную» поэтику»2. Т.В. Данилович говорит о синтезе элементов символизма и акмеизма в эмигрантском творчестве Г. Иванова, который «обеспечивает ему двойной взгляд на бытие»3. В настоящем исследовании делается попытка последовательно раскрыть связь наследия Г. Иванова с символизмом как в плане мироощущения, так и на уровне поэтики, что позволяет говорить о научной новизне диссертации. Соответственно, цель исследования — рассмотреть творчество Г. Иванова в аспекте его связей с символизмом.
Поставленная цель предполагает решение следующих основных задач:
- определить место Г. Иванова среди литературных группировок начала XX века;
- выявить соотношение символизма с романтизмом в творчестве Г. Иванова и рассмотреть, как «преодоление символизма» отразилось в феномене деромантизации;
- раскрыть значение категории музыки как центральной в символизме для понимания экзистенциальной картины мира в творчестве Г. Иванова;
- проанализировать формы проявления черт символизма в поэтике Г. Иванова и отражения в ней интертекстуального начала, связанного с творчеством таких поэтов-символистов, как И. Анненский и А. Блок.
Объектом исследования в той или иной степени выступает все творчество Г. Иванова (лирика, романы, рассказы, мемуары, литературно-критические статьи). Предметом исследования является роль символизма в формировании оригинальной картины мира и поэтики Г. Иванова.
Методологической основой работы стали приемы контекстуального анализа, установления генетических, типологических и интертекстуальных связей.
Теория интертекста является развитием принципиальных положений М. Бахтина, его учения о «чужом слове», отраженном, в частности, в работе «Вопросы литературы и эстетики»1. Максимальное выражение проблема интертекстуальности получила прежде всего в западном литературоведении. Сам термин ввела Ю. Кристева. Опираясь на теорию Бахтина и отчасти полемизируя с ним, она утверждала: «Любой текст строится как мозаика цитации, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-либо другого текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности»2. Позже на термин «интертексту альность» активно опирался Р. Барт, который считал, что «текст существует лишь в силу межтекстовых отношений, в силу интертекстуальности»1.
Однако работы Ю. Кристевой и Р. Барта ориентировались на интертекстуальность постмодернистских произведений, которая имела игровую природу и тяготела к языковым играм: вольному и самодовлеющему оперированию чужими текстами. В русском же литературоведении этот термин понимается шире. В.Е. Хализев определяет интертекстуальность как «общую совокупность межтекстовых связей, в состав которых входят не только бессознательная, автоматическая или самодовлеющая игровая цитация, но и направленные, осмысленные, оценочные отсылки к предше-ствующим текстам и литературным фактам» . Интертекстуальность в аспекте текстового анализа Н.А. Фатеева представляет как установку на более углубленное понимание текста и разрешение непонимания текста за счет установления многомерных связей с другими текстами .
Таким образом, интертекст - это родовое понятие, определяющее, что смысл художественного произведения формируется полностью или частично посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в смежном искусстве или в предшествующей литературе.
Исследования по проблеме интертекстуальности позволили по-иному взглянуть на такие конкретные проявления традиции в художественном тексте, как цитата, аллюзия, реминисценция.
Несомненно, что термины цитата, аллюзия и реминисценция следует рассматривать в системе и обязательно учитывать при этом их соотношение друг с другом. Можно представить следующий вариант такой системы.
Аллюзия - это отсылка к историческому, политическому, литературному факту или к художественному произведению. Реминисценция отличается от аллюзии тем, что она не отсылает к другому тексту, а использует элементы чужого текста, которые, оказываясь в новом контексте, образуют сложный полилог различных культур и традиций. Цитата же - это эксплицитное, обычно так или иначе оформленное включение автором в собственный текст элемента чужого высказывания.
С этой точки зрения целесообразно проанализировать интертекстуальный аспект соотношения Г. Иванова с символизмом.
Научно-практическая значимость диссертации определяется тем, что основные результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем изучении Г. Иванова, а также при разработке и чтении курса литературы Серебряного века и русского зарубежья, в спецкурсах и семинарах, посвященных творчеству поэтов-эмигрантов, а также в школьной практике на уроках литературы и внеклассного чтения или факультативных занятиях.
Положения, выносимые на защиту:
1. Г. Иванов не испытал непосредственного влияния символистской школы, однако сам символизм был значим для него как явление, непосредственно связанное с эпохой Серебряного века и ставшее неотъемлемой частью «петербургского мифа» русской культуры.
2. Символистская картина мира отразилась в элементах романтизации, присутствующих в доэмигрантском творчестве Г. Иванова. Дероман-тизация как ведущее начало творчества поэта периода эмиграции ознаменовала переход Г. Иванова к экзистенциальному мироощущению. Однако именно кризисность сознания символистов и осмысление ими онтологического одиночества человека легли в основу экзистенциальной «триады» Г. Иванова в том виде, в каком она представлена в работе В.В. Заманской : «Мировое торжество» - «Мировое уродство» - «Мировое безобразие».
3. Ключом к постижению перехода от романтического и символистского к экзистенциальному мироощущению у Г. Иванова выступает музыкальный код. Музыка для него, как и для символистов, является бесспорной идеальной первоосновой вселенной. Г. Иванов в своем творчестве выстраивает цельный мифологический музыкальный сюжет. Однако в результате он приходит к выводу о том, что даже музыка не может быть опорой человеку, находящегося на грани между бытием и небытием.
4. Множество цитат, аллюзий и реминисценций, ориентированных на конкретные тексты символистов, отражается в творчестве Г. Иванова неоднопланово. Часть из них представляется лишь формальным элементом его «центонной» поэтики, не имея глубокого содержания. Однако лирика Блока и Анненского оказалась для Г. Иванова настолько значимой и определяющей, что актуальные для них темы и образы стали в поэтической системе Г. Иванова ключевыми, что и выразилось в многочисленных отсылках к творчеству этих поэтов.
5. Блоковская традиция проявляется в трактовке образа родины, центрального в эмигрантском творчестве Г. Иванова. С поэтическим миром Блока его сближает особое чувство пути к России. Однако путь к России у Блока приобретает духовный смысл - постижение неисповедимой души России; в то время как у Г. Иванова - это неосуществимое желание возвращения на покинутую родину, которая, как он трагически понимает, перестала существовать.
Результаты работы были представлены на следующих научных конференциях:
Пятые Бальмонтовско-Цветаевские чтения (Иваново, май 2001 года);
Шестые Бальмонтовско-Цветаевские чтения (октябрь 2002 года);
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной филологии» (Киров, октябрь 2003 года);
Региональная научно-практическая конференция «Проблемы литературного образования: школа-вуз» (Шуя, май 2005 года);
Седьмые Бальмонтовско-Цветаевские чтения (Иваново, октябрь 2005 года);
Международная научная конференция «Александр Блок: Жизнь и творчество. Окружение и рецепции» (Шахматово-Тараканово, ноябрь 2005 года);
Первые Куприяновские чтения (Иваново, декабрь 2005 года).
По теме диссертации опубликовано 9 статей.
Культурная ситуация рубежа веков как основа, объединившая все направления модернизма
В конце XIX -начале XX века весь мир переживает глубокий кризис, охвативший практически все сферы социальной и духовной жизни. Европа жила в предчувствии своего конца. Это было сложное, неоднозначное время. Ощущение упадка и неизбежности крушения сочеталось с утонченностью вкуса, с обостренным чувством прекрасного. Современники называли это время «прекрасной эпохой», но одновременно сравнивали его с периодом упадка Римской империи. Интерес, проявляемый в самых образованных кругах общества к иррационализму и даже мистицизму, казался после крайне рационалистического XIX века совершенно неожиданным и необъяснимым. Прот. Павел Флоровский назвал эту эпоху «временем искания и соблазнов». По его мнению, «конец века» означал в русском развитии рубеж и начало, перевал сознания, поскольку изменилось само чувство жизни: «В те годы многим вдруг открывается, что человек есть существо метафизическое. В самом себе человек вдруг находит неожиданные глубины и часто темные бездны. И мир уже кажется иным. Ибо утончается зрение. В мире тоже открывается глубина»1.
Первоначально черты упадка были более заметны, и критики в первую очередь отмечали именно их. Поэтому новое направление в литературе получило название декаданс (от французского слова decadence - упадок), а его представители стали называться декадентами. Декаданс не был литературным направлением в строгом смысле слова, поскольку он не был связан с определенными стилистическими характеристиками, но исключительно с темами или даже настроениями упадка. В большинстве источников декадентство определяется как особый тип сознания, определенная форма умонастроения, возникающая, как правило, в кризисные эпохи2.
Однако в тот же период происходило не только разрушение старого, но и создание нового, передового в искусстве и в жизни. Отсюда появились термины модернизм и авангардюм, причем иногда они обозначали те же явления, что и относимые к декадансу. Тем не менее следует разграничить эти понятия. Так, в отличие от аполитичного в целом декаданса, авангардизм был связан с левыми, даже часто революционными идеями. Кроме того, авангардистские течения оформились позже декадентских. Наконец, термин модернизм используется в наиболее обобщенном смысле как родовое понятие для всех нереалистических направлений искусства конца XIX - начала XX века; по определению З.Г. Минц и Ю.М. Лотмана, это «целая совокупность различных, иногда близких, а иногда и никак друг с другом не связанных художественных течений, объединяемых чисто негативным признаком: отказом от традиций реалистического искусства»3. Позитивные признаки, объединяющие все течения модернизма, перечисляет в своем определении Л.А. Колобаева: «Модернизмом мы называем художественные течения конца XIX - начала XX века, адепты которых ставят своей целью создание нового, "большого стиля" в искусстве, лежащего за пределами ближайшей традиции, с установкой на осознанное экспериментаторство, исходят из убеждения в автономности искусства и ориентируются на творческую активность читателя (зрителя)»1.
В этом контексте многогранно раскрывается и сам термин «Серебряный век». Почти все исследователи приходят к выводу, что это понятие скорее метафорическое, чем научное, а потому обладающее множеством разночтений как в смысловом, так и хронологическом плане. Расплывчатым кажется само определение границ явления, особенно на его исходе: концом Серебряного века называют то 1917 г., то 1921 г. (смерть А.Блока и расстрел Н.Гумилева), то 1922 г. (высылка из страны «корабля философов»), то 1930 г. (гибель В.Маяковского), а то и 1940 г. (начало работы А.Ахматовой над «Поэмой без героя»). Безусловно, границы раздвигаются, если принять во внимание феномен эмиграции, опиравшейся на традиции Серебряного века, или творческий импульс ряда художников, продолжавших писать в новых исторических условиях (Б. Пастернак, А. Ахматова, О. Мандельштам и др.). В итоге приходится признать факт «безбрежности» понятия «Серебряный век», что обусловлено недостаточной изученностью этого явления (несмотря на обилие работ по данной теме).
По мнению Н.О. Осиповой, если трактовать Серебряный век как художественно-эстетическую целостность (определенный образ мира, модель сознания), формирующуюся в ситуации «культурного взрыва» и обладающую неким единством художественных, религиозных и естествен-нона учных исканий, то следует признать, что разрушение этого явления начинается с оттока культурной элиты в эмиграцию. Но и там Серебряный век не сохранился как целостность, растворившись в иных национальных и социо-культурных условиях. Для многих из тех, кто оказался во внутренней эмиграции, Серебряный век стал символом яркой, прекрасной и трагической эпохи, одним из ее «мифов»1.
Проблема постсимволизма как совокупности направлений, возникших на основе русского символизма
Одним из центральных вопросов, возникающих при характеристике взаимосвязи символизма с последующими литературными направлениями, является вопрос о термине «постсимволизм». В строгом смысле слова, постсимволистскими могут считаться только новые художественные системы, наследующие символизму и хронологически идущие за ним (прежде всего - акмеизм и футуризм). По определению Н.А. Богомолова, русский постсимволизм представляется сложным конгломератом разнообразных художественных интенций, определяемых не какой-либо единой общей поэтикой, мировоззрением, литературной техникой, психологическими основаниями и т. д., а лишь реакцией на сформировавшиеся к концу 1900-х и началу 1910-х годов представления о символизме как главенствующем течении в русском модернизме1. Как убедительно показал М.Л. Гаспаров, история русского модернизма может быть показана нерасчлененно, и постсимволизм окажется естественным продолжением символизма в его раз-личных изводах . Сходным образом рассматривает соотношение символизма и постсимволизма С.Н. Бройтман, приходя при этом к заключению, что каждый из наиболее значительных поэтов русского постсимволизма «по-своему, глубоко оригинально реализовал ту внутреннюю меру, которая была задана русской поэзии символизмом»1.
Предпосылкой образования постсимволизма как единой художественной системы И. Смирнов считает возникновение авангардистского художественного сознания. Художник, который подчеркивает в своем творчестве трансформационную исчерпанность господствовавшей до той поры литературной системы и намеревается стать первооснователем другой системы, неизбежно занимает исключительную позицию в обеих - и в отрицаемой (негативное отчуждение), и в утверждаемой (позитивное отчуждение). Стремление занять маргинальное положение сразу в двух взаимно противопоставленных системах свидетельствует о присущей эстетическому сознанию такого художника внутренней контрарности. Естественно предположить, что контрарность должна быть определяющим отношением и в создаваемом им смысловом мире. Коль скоро всякий троп устанавливает какое-то иное, по сравнению с лингво-эпистемалогической нормой, отношение между изображаемыми в тексте объектами, можно сказать, что авангардистское эстетическое сознание, в какой бы исторический период оно ни манифестировалось, представляет собой особого вида троп, покоя-щийся на противоречии. Этот троп И. Смирнов называет «катахрезой» .
Постсимволизм сразу же распался на два «диалекта», причем один из этих «диалектов» - футуристический - был в высокой степени децентрализован. Акмеизм был организован более сплоченно и имел больше признаков литературной школы в узком смысле слова. Но это, по мнению И. Смирнова, никоим образом не должно наводить на прямолинейную мысль, что «Цех поэтов» - всего лишь филиация символистской системы. Уже при семантическом анализе самих названий двух главных групп постсимволистского движения бросается в глаза наличие синонимичности, пусть частичной. Термин «акмеизм» был произведен от греческого слова «акпг», имеющего смысл «вершины», «острия», «высшей степени чего-либо», поры расцвета. Термин «футуризм» можно перевести как «искусство будущего». Эти имена сообща отсылают к понятию верхнего предела некоторой последовательности. В названиях обоих литературных течений непосредственная интуиция носителей системы подчеркнула значение эволюционной продвинутости, и это далеко не случайное совпадение запечатлело в себе изотопность разных версий постсимволистской поэзии1.
Взаимосвязь двух «изводов» постсимволизма З.Г. Минц тоже видит в их общем истоке - системе символизма и убедительно доказывает это, исходя из своей системы, представляющей эволюцию символизма .
В то же время для каждого из направлений постсимволизма характерны свои, особые отношения с предшествующей литературной школой.
Акмеизм был связан с символизмом еще до своего самоопределения. Инициаторы акмеизма, прежде всего, Н. Гумилев и С. Городецкий, были частыми посетителями «башни» Вяч. Иванова и были многим обязаны беседам с хозяином «башни», в частности, в области стихосложения. Именно на «башне» впервые встретились в 1911 году Ахматова и Мандельштам. «Бунт» акмеистов оформился в рамках журнала «Аполлон», издававшегося с конца 1909 года. Самим своим названием журнал утверждал приоритет гармонического, стройного, жизнеутверждающего искусства (в противоположность «дионисийской» стихии). В нем печатались и корифеи символизма (В. Брюсов, Вяч. Иванов, А. Блок, А. Белый), и будущие акмеисты (Ахматова, Городецкий, Гумилев, В. Нарбут, М. Зенкевич). В это время
Гумилев всецело находился в русле символизма, хотя и понимавшегося по-своему. Это представление о символизме выразилось в первой теоретической статье Гумилева «Жизнь стиха» в №7 «Аполлона» за 1910 год. С первых номеров «Аполлона» Гумилев вел рубрику «Письма о русской поэзии» - отклики на новые поэтические сборники. В этих рецензиях постепенно сформировались взгляды, которые затем легли в основание акмеистской концепции. Гумилев писал о завершившемся символистском журнале «Весы», но утверждал, что символизм не устареет, поскольку он «явился следствием зрелости человеческого духа, провозгласившего, что мир есть наше представление. Так что устаревшим он окажется только тогда, когда человечество откажется от этого термина .. . Теперь же мы не можем не быть символистами»1.
Противостояние в недрах «Аполлона» его «молодой редакции» «седым мудрецам» (олицетворением которых считался Вяч. Иванов) выплеснулось в открытые споры и дискуссии - в «Обществе ревнителей художественного слова» («Академии стиха»), в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака», на страницах журналов. В конце 1911 года по инициативе Н. Гумилева и С. Городецкого возник «Цех поэтов» - объединение, предполагавшее тщательное и серьезное изучение «жизни стиха» с особенным вниманием к проблемам «ремесла». Во главе стояли два «синдика» - Гумилев и Городецкий, а также «стряпчий», казначей - Д. Кузьмин-Караваев. Первое заседание в октябре 1911 года на квартире у Городецкого было еще аморфным, с большим количеством участников (на нем единственный раз присутствовал Блок); потом, как вспоминала Ахматова, «началась работа».
Не обязательно все присутствовавшие на собраниях были членами «Цеха», и не все члены «Цеха» были акмеистами в строгом смысле слова.
О.А. Лекманов предлагает рассматривать акмеизм как сумму трех концентрических окружностей. Члены «Цеха» образуют первый, самый широкий круг. Второй круг - это собственно шесть акмеистов (Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Городецкий, Нарбут, Зенкевич). Третий круг, наиболее эзотерический, - авторы, чью поэтику О.А. Лекманов называет «семантической» (Мандельштам, Ахматова, Гумилев)1.
Романтизм и романтизация в творчестве Г. Иванова
Романтическое мировосприятие было близко русскому символизму настолько, что символисты видели себя преемниками романтиков, считая, что романтизм не ограничивается определенной эпохой в истории искусства. Для самих романтиков, по мнению Н.Я. Берковского, романтизм тоже никогда не был отдельным течением, как готика или барокко. Он содержался для них во многих эпохах и во множестве направлений1. Л. Тимофеев предлагает различать понятия романтизма как конкретно-исторического явления и романтического типа творчества как явления, исторически повторяющегося. Романтический тип творчества он противопоставляет реалистическому (тоже исторически повторяющемуся и отличному от реализма как конкретно-исторического явления) по преобладанию в нем не воспроизводящего, а пересоздающего жизнь начала2.
Блок в своей основополагающей статье «О романтизме» писал, что «романтизм есть дух, который струится под всякой застывающей формой и в конце концов взрывает ее. Романтизм - в первом проявлении любознательности первобытного человека ... ; романтизм - в восточных культах и мистериях и в христианстве, которое разрушило твердыни Рима; он - в учениях древних греческих философов - гиллозоистов и Платона; он - в стремлении средних веков подточить коснеющие формы того же христианства, которое он сам создавал; он — в духе великих открытий, подготовивших Возрождение; он - в Шекспире и Сервантасе; он - в первых порывах всякого народного движения ... он есть вечное стремление, пронизывающее всю историю человечества...» (6, с.367-368). Романтизм же начала XIX века для Блока «вовсе не есть только литературное течение. Он стремился стать и стал на мгновение новой формой мирочувствования, новым способом переживания жизни» (6, с.363).
Последний тезис перекликается с представлением А. Белого о символизме как миропонимании. Сам Белый считал, что эволюция романтизма, вместе с реализмом и классицизмом, представляет собой эволюцию символистского искусства: «Все три школы в высочайших своих точках отражения ведут к символизму; судьба человека и человечества дана здесь в образах»1. Однако, по его мнению, неправильно было бы определять символизм как «неоромантизм» или «неореализм», поскольку существует «непереступаемый рубеж» между современным искусством и недавней эпохой, поскольку символизм - «символ кризиса миросозерцания»2.
Вяч. Иванов подчеркивает в романтизме признаки, которые впоследствии были характерны для реалистического символизма, т.к. «романтизм - один из видов многообразного реализма; романтик - тот, кто пошел искать "голубой цветок", как res intima rerum, как внутреннюю реальность вещей»3.
Уже первые критики символизма, в частности, В.М. Жирмунский, считали, что это направление принадлежит романтическому типу поэтического творчества в противовес акмеизму как искусству классическому4. Л.А. Колобаева уточняет, что «в русском символизме можно обозначить две ведущие тенденции: символистов-романтиков и неоклассицистов. Первые, начиная с К. Бальмонта, в своей поэзии, в лирическом "я" утверждают тип стихийного человека, "артиста", с его антирационалистическим бунтом против каких-либо стеснений этики, морали, против предписаний разума, логики и науки - другими словами, против традиций культуры. Так в поэзии сказываются порывы к самоотрицанию культуры. В разных художественных формах и на разных стадиях сказывается оно у всех символистов-романтиков - от К. Бальмонта до Белого и Блока (второй том лирики)» .
Однако все исследователи утверждают, что именно романтизация действительности стала одним из ведущих приемов символистского искусства.
Существует, однако, терминологическая разница в выражении понятий романтизм и романтизация. Моделью для разграничения этих дефиниций могут служить определения символизма и символизации, данные А. Белым: «определяя творчество с точки зрения единства, мы называем его символизмом; определяя ту или иную зону этого творчества, мы называем такую зону символизацией. Символ дается в символизме. Символизм дается в символизациях. Символизация дается в ряде символических образов. Символ не понятие, как и символизм не понятие. Символ не метод, как и символизм не метод»2. По аналогии романтизмом следует считать цельное миропонимание, отраженное в творчестве. Романтизация же представлена в ряде романтических мотивов, образов и символов. Таким образом, романтизм - не прием и не метод, а целостное мировосприятие, в то время как романтизация - это совокупность приемов и методов, в которых эта картина мира проявляется в творчестве.
Романтизация у символистов проявилась на разных уровнях содержания и поэтики. Прежде всего, романтизм и символизм сходны в стремлении к панэстетизму (термин З.Г. Минц).
По выражению А. Казина, «максимум прекрасного - вот важнейшая эстетическая тема, объединившая романтическую эстетику и эстетику символизма»1. Блок писал: «Вся наша борьба есть борьба за цельность жизни, против двойственности эстетики ... И в этой борьбе терзает нас новое, быть может, самое глубокое противоречие: мука о красоте. Ведь жизнь - красота» (5, с.261).
Таким образом, романтизация для символистов заключается прежде всего в эстетизации действительности. При этом не всегда наблюдалось единство красоты и добра. В.В. Ванслов отмечает, что романтики не знали той проблемы, которая была выдвинута позднейшим искусством, и прежде всего, символизмом, - проблемы красоты, сеющей раздор, несущей несчастие и смерть. Для романтиков прекрасное всегда - сила, пробуждающая не вражду людей, а любовь, ведущая не к разобщению, а к единству человечества.
Георгий Иванов и Иннокентий Анненский
Творчество И. Анненского является одним из самых устойчивых литературных предпочтений Г. Иванова. Рецензия на книгу И. Анненского «Кипарисовый ларец», опубликованная под псевдонимом Юрий Владимиров в № 6 журнала «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности» за 1910 год, стала дебютом Г. Иванова как критика. Диалог с творчеством старшего поэта Г. Иванов вел на протяжении всей своей жизни, начиная с первой, эгофутуристской книги «Отплытье на о. Цитеру» и кончая стихами августа 1958 года, написанными за несколько дней до смерти и собранными в книгу «Посмертный дневник».
В плане анализа связей Г. Иванова и русского символизма сопоставление его творчества с мотивами поэзии И. Анненского особенно интересно, поскольку Анненский занимает промежуточное положение в русской литературе XX века: его соотносят со старшими символистами и в то же время считают предтечей и учителем акмеистов, прямо противопоставлявших себя символистам.
Проблема взаимоотношений Анненского с символизмом, с одной стороны, и акмеизмом, с другой, выступает центральной в книге Джанет Тёрси «Иннокентий Анненский и учение акмеистов»1. Автор этой работы считает, что со старшими символистами Анненского сближает, во-первых, то влияние, которое оказали на него парнасцы и русские символисты, а во-вторых, стремление к ясности поэтических образов, что отличало его поэзию от мистицизма младших символистов. Однако сам Анненский стоял в стороне от литературной полемики сторонников символизма как литературной школы и представителей мифопоэтического символизма. С акмеизмом же Анненский первоначально оказался связан чисто биографически: он был директором Николаевской гимназии в Царском Селе в то время, когда там учился Гумилев, а Ахматова - в Мариинской царскосельской гимназии. Для становления поэзии будущих акмеистов было существенно, что их встреча с Анненским произошла в месте, насыщенном литературными традициями, и прежде всего, связанном с Пушкиным. Пушкин важен для них, прежде всего, как звено, связующее культуру России и Запада. Наследие Пушкина и передает Анненский.
Позднее Гумилев, когда основывал новое литературное движение, ясно сознавал, что, кроме авторитетов прошлого: Шекспира, Рабле, Вийо на и Готье, - необходим современный поэт, в творчестве которого обнару живаются те черты, которые отражены в их доктрине. Таким поэтом стал Анненский. Обращение к лирике Анненского наблюдается у Г. Ива нова еще до перехода в стан акмеистов. В стихотворении «Весенние аккорды» цикла «Клавиши природы» из первой своей поэтической книги Г. Иванов, по мнению А. Арьева, не очень органично контаминирует мотивы двух рядом расположенных стихотворений из «Кипарисового ларца»1. Начало стихотворения: «Склонились на клумбах тюльпаны, / Туманами воздух пропитан. / Мне кажется, будто спит он, / Истомой весенней пьяный» (с. 120) - опирается на образы стихотворения Анненского «Он и я»: «Дав-но меж листьев налились / Истомой розовой тюльпаны» . Однако пока еще это лишь внешнее сближение - глубокий смысл стихотворения Анненского никак не отражается у Г. Иванова.
Последнее же слово стихотворения Г. Иванова, выделенное пунктуа-ционно (невозможно), обнаруживает прямую отсылку к одному из самых значимых стихотворений Анненского - «Невозможно»:
Есть слова - их дыханье, что цвет, Так же нежно и бело-тревожно, Но меж них ни печальнее нет, Ни нежнее тебя, невозможно (с. 115).
И вновь перекличка со стихотворением Анненского ничего не дополняет в описании весеннего пейзажа и особого чувства, охватывающего человека весной.
В двух стихотворениях цикла «Когда падают листья» встречается образ вянущих азалий - знак поэзии Анненского периода «Кипарисового ларца», встречающийся в итоговом стихотворении «Моя тоска»: «В венке из тронутых, из вянущих азалий / Собралась петь она...» (с. 76).
У Г. Иванова в стихотворении «Элегия» упоминается «аромат вянущих азалий» (с. 125), а в стихотворении «Осенний брат» - «печальные лики увядших азалий» (с. 125). Но для молодого поэта подобные переклички - в большей степени проявление стремления приобщиться к миру новой, модернистской литературы, продемонстрировать свою причастность к ней, а также показатель литературного вкуса, поскольку поэзия И. Анненского с самого начала считалась элитарной.
Иной уровень освоения наследия Анненского достигается в акмеистском сборнике Г. Иванова «Сады» (1921). Здесь образы и мотивы творчества Анненского переходят в поэзию Г. Иванова не прямо, как в предыдущих примерах, а опосредованно, причем в одном случае через акмеиста Н. Гумилева, а в другом - через символиста А. Блока. По мнению А. Арьева, метафора в стихотворении «Петергоф» («На горизонте дынном I Трепещет диск тускнеющим сияньем...» (с. 230) перешла к Г. Иванову из арсенала Н. Гумилева («С надтреснутою дыней схож закат»), в свою очередь, заимствовавшего ее из надписи на подаренной ему Анненским книге: «И мой закат холодно- дынный» (1906)1.
Подобная генеалогия образных средств особенно характерна для акмеистов, которые считали, что однажды изреченное уже не принадлежит конкретному человеку. Оно становится ничьим, и из этого источника поэзии могут черпать все. Эта эстетика, по мнению А. Арьева, внушалась молодым поэтам-акмеистам самим Анненским, декларировавшим в «Моем стихе»:
Я не знаю, кто он, чей он, Знаю только, что не мой, -Ночью был он мне навеян, Солнцем будет взят домой (с. 71).
Стихотворение Г. Иванова 1921 года из второй части сборника «Сады» «Еще молитву повторяют губы...» (с. 232) явно перекликается со стихотворением А. Блока «Грешить бесстыдно, непробудно» (1914) из цикла «Стихи о России» (3, с. 274). В обоих стихотворениях на первом плане -купеческий быт, в котором соединяются три момента: счет выручки, набожность, стремление к упорядоченной жизни. У Блока образ счета объединяет все стихотворение: «Счет потерять ночам и дням»; в храме ведется счет поклонов и крестных знамений: «Три раза преклониться долу, / Семь - осенить себя крестом», а также милостыни («Кладя в тарелку грошик медный») и поцелуев иконы: «Три, да еще семь раз подряд / Поцеловать столетний, бедный / И зацелованный оклад». Дома же считается выручка: «Пить чай, отщелкивая счет, / Потом переслюнить купоны...». Набожность купца проявляется в посещении храма Божьего и обязательном наличии икон и лампад. Блок представляет традиционные приметы быта купцов: обычай пить чай, «перины пуховые», долгий сон.