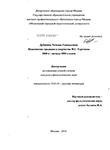Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Проблемы драматической формы в русской театральной критике 1830-1840-х годов 26
Глава II. Русская сценическая литература 1830-1840-х годов. поиски оригинальной формы.
1. Русский «буржуазный» водевиль 57
2. Оригинальная «драма» в репертуаре русского театра 98
Глава III. А.Н. Островский в процессе формообразования русской драмы .
1. Проблемы драматической формы в эпистолярном наследии А.Н. Островского 146
2. Традиции оригинального водевиля и «малой» комедии 1830-1840-х годов в творчестве А.Н. Островского 165
3. Исторические сюжеты А.Н. Островского в контексте ведущих тенденций развития национального репертуара 30-40-х годов XIX века 179
Заключение 191
Список литературы 198
- Проблемы драматической формы в русской театральной критике 1830-1840-х годов
- Русский «буржуазный» водевиль
- Проблемы драматической формы в эпистолярном наследии А.Н. Островского
- Исторические сюжеты А.Н. Островского в контексте ведущих тенденций развития национального репертуара 30-40-х годов XIX века
Введение к работе
Заявленная тема диссертационного исследования, обобщающая по характеру, предполагает обращение к широкому кругу литературно-художественных, критических, публицистических и научных источников, на основании которых или в полемике с которыми складывалась авторская концепция. Действительно, русская драматургия (особенно периода «золотого века» русской литературы) рассматривалась и изучалась с пристальным вниманием более 150-ти лет. Попытаемся представить основные тенденции этого, в разной степени научного, полуторавекового обращения к русской драме.
Девятнадцатый век (дореволюционный период) имел преимущественно публицистический пафос, и высказывания (более или менее развернутые -П.В. Анненкова (критические статьи которого, посвященные творчеству А.Н. Островского и А.К. Толстого, открывают ряд работ, претендующих на концептуальное обобщение и поэтому более близких науке, чем публицистике), Н.В. Котляревского, A.M. Скабичевского, С.А. Венгерова, Б.В. Варнеке1 и др.) о русской драме и ее создателях носили критически-оценочный характер. Доминантой развития русского литературоведения и искусствоведения в двадцатом веке стала «идеологема», обусловившая определенный контекст осмысления литературных фактов. Метод, который с некоторой долей условности можно назвать «социологическим» являлся преобладающим на протяжении нескольких десятилетий и дал немало интересных результатов. Обобщающими трудами, демонстрирующими возможности данного подхода можно считать книги Л.М. Лотман2 и И.Ф. Петровской3; статьи десятитомной «Истории русской литературы»; издание, подготовленное коллективом авторов «Русские драматурги 18-19 веков»4.
Практически все исследования, опубликованные в 1960-1970-е годы (даже если они носят частный характер) имеют значение определенного итога для значительного периода развития литературоведческой науки, и даже их названия выражают фундаменталистские тенденции1. Изучение истории русского театра и театральной критики также проходило в границах обозначенного метода, результатом чего явилось издание семитомной «Истории русского драматического театра». М.,1977-1987, почти лишенной элементов анализа (за исключением анализа особенно крупных явлений в истории русской драматургии и театра), но представляющей достаточно объективное описание существующих феноменов и «Очерков истории русской театральной критики»2, составители которых, на наш взгляд, слишком избирательно подошли к выделению персоналий, характеризующих основные тенденции развития театральной критики. Обозначенной тенденции соответствовало и осмысление теоретических аспектов формирования русской драматургии: широко известная книга А.А. Аникста3 дает об этом исчерпывающее представление. Восьмидесятые годы сместили акценты в изучении русской драмы на вопросы, может быть, частные, но требующие более глубокой и сложной теоретической базы,4 иногда прямо выражающиеся в постановке теоретической проблемы5, или предлагающие для изучения такие аспекты драматургии известных авторов, которые не укладываются в рамки предлагаемой идеологической модели 6.
Отражением этих разнообразных (и разнонаправленных) размышлений, является издание в восьмидесятых годах «Истории русской драматургии»1, исключительно интересной отдельными статьями (выражающими самые разные точки зрения на драматургический процесс, - от бесстрастно-описательной до углубленно-философской), но в то же время лишенной единства позиции, необходимой для коллективного авторского труда.
История литературоведческой науки (в той ее части, которая касается русской литературной драматургии) конца 80-х - 90-х годов представляет собой картину часто противоречивую, но яркую и динамичную и выявляет некоторые общие тенденции развития гуманитарной науки последних лет.
Пересмотр идеологических позиций привел исследователей к необходимости искать основания для нового уровня обобщений по вопросам развития литературы. Можно сказать, что относительно драматургии вообще (и русской, в частности) этот поиск проходит в двух направлениях. Во-первых, активнее привлекается тот историко-литературный материал, который раньше находился на периферии исследовательских интересов: водевиль, славянофильская драма, драматургия родственных восточнославянских народов и др.2, что объективно расширяет известную картину литературного процесса и способствует более глубокому осмыслению его основных закономерностей. Во-вторых, 90-е годы характеризует появление ряда работ, углубляющих различные теоретические аспекты интерпретации драматургического произведения как такового (что обусловлено, очевидно, недостаточностью того абстрактно-философского подхода, который предлагает в ряде работ В.Е. Хализев3). При этом изучение теоретических проблем может отталкиваться как от осмысления драмы в ее собственно родовой специфике4, так и от признания за драматическим произведением его особого «интертекстуального» характера, т.е. обязательной связи со сценой и театром в целом1, возвращая нас к мнению, высказанному в 1924 году И.М. Клейнером о «...необходимости перенесения изучения драматургии в плоскость театра. Только такое исследование драматургических произведений, которое привлечет к себе одновременно с выяснением литературных достоинств и сценическую технику, технику актера, публику, театральное здание - словом все то, что обуславливает драматургическое произведение, сумеет окончательно раскрыть и объяснить нам того или иного драматурга»2. Что характерно, среди работ 90-х годов, посвященных различным вопросам изучения драмы, сравнительно немного непосредственно касается истории литературы. Можно наблюдать своеобразное «смещение» интересов в параллельные литературе плоскости - театральное искусство (как мы только что видели) или язык (драматического произведения) . Именно в изучении последнего достигнуты, на наш взгляд, важные теоретические результаты, которые могут быть основанием для достаточно широких обобщений.
В целом, все исследования драматургии последних лет (не очень многочисленные) отвечают, по сути, на один вопрос - о методе (иди методах) изучения такой сложной художественной целостности, как драма (в самом широком смысле слова). Представления об этом методе далеки от единства, да и вряд ли оно возможно на данном этапе, значительно удалившемся от идеи «научного синтеза», которая занимала умы крупнейших русских филологов начала XX века (в частности, П.Н. Сакулина). Причины такого тотального удаления заключаются не в том, что трагическая история XX века востребовала «вульгарно-социологический» подход, а в том, что долгие годы русское литературоведение выполняло одну общую методологическую программу, сформулированную изначально А.А. Потебней1, развиваемую, в целом, культурно-исторической школой и наследовало прочный социологический фундамент, подведенный под нее П.Н. Сакулиным (то, что П.Н. Сакулин не успел воплотить окончательно идею «синтетической» «науки о литературе», послужило, очевидно, одним из факторов торможения дальнейшего развития методологической мысли, как и многие другие факторы, не имеющие прямого отношения к науке). Литературоведение исследовало «образ», увиденный в определенном контексте, выявляя его различные аспекты, в зависимости от конкретной научной ситуации. До каких бы пределов не развивался данный метод (представляя образ как систему образов, как некое символическое единство, как «хронотоп» и т.д.) - эти пределы все равно существуют и приближение к ним ощущается в наиболее крупных работах, претендующих на универсальное обобщение3. Это обобщение, сколько бы ни было интересно, в конечном итоге неизбежно ведет к абстрагированию от художественной данности, ее уникальности и специфических свойств. Особенно для драмы такое чтение недостаточно, потому что специфика драмы в ее театральности («внеэстетической функции» - если обратиться к философской методологии изучения культурных текстов Я. Мукаржовского), а анализ образности все равно переводит разговор в план литературного бытования драматического текста. Кроме того, контекст творчества того или иного писателя, ограничивается, как правило, несколькими произведениями, дающими возможность развернуть сформулированные тезисы, и при попытке применить полученные результаты к иному ряду произведений стройность системы нарушается. Так и происходит, например, в очень интересном исследовании русской драмы В.И. Мильдона с А.Н. Островским, когда автор монографии, определяя «волю» и «сердце» как основу характера героев (скорее - героинь) драматурга, исходя из этого - «внутренний мир», «душу» как единственное место действия русской драмы, интенсивность проживания чего бы то ни было как единственный критерий времени, а историю, бытовую среду представляет как «место, которого нет», говоря, что «герой русской драмы как бы проходит сквозь историю, не хочет замечать ее»1, - на наш взгляд, не вполне прав, и его мнение приложимо лишь к той драматургии, которая имеет ярко выраженное лирическое (и романтическое) начало, которое мало того, что не исчерпывает специфики представленных в его же книге произведений, но является абсолютно несоответствующим характеру других, составляющих историю русской литературной драмы.
Иначе говоря, как заметил в свое время В.Б. Шкловский: «Если взять Пушкина, то из него можно надергать революционные места, а можно также нащипать контрреволюционные, но все это не существенно в Пушкине» . Суть культурно-исторического метода (во всем многообразии его вариантов), конечно же, не в этом. Но и суть Шкловского (как и всех формалистов) не в отрицании. Его публицистическая метафористика: «Если взять самовар за ножки, то можно вбивать им гвозди, но это не его прямое назначение» (там же) - реакция на крайние позиции Пролеткульта по отношению к литературе и именно так должны оцениваться. Шкловский отрицает метод Потебни и тех, кого он считает его последователями не ради отрицания «образности» и «символичности» искусства, а ради утверждения независимости (или самодостаточности) художественной реальности, цель которой - нарушение «автоматизма восприятия» вещи, явления и т.д. и, соответственно этому, новое их переживание (отсюда «образ» есть не «образ вещи», но «образ переживания вещи», а вовсе не отсутствие образа) . И что самое главное, в этом новом переживании не отрицается его культурно-исторический момент, скорее, он является обязательным (примером чему могут служить более поздние книги В.Б. Шкловского, Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума). Сама научная деятельность формалистов по отношению к традиционному методу изучения литературы не является ничем иным как попыткой изъять литературу из господствующего «автоматизма» (в свете любых идеологических программ) ее восприятия методом «остранения» (каким, по сути, и является для нормального читателя формальное прочтение текста), также как, по их мнению, искусство распоряжается вещью.
В.Б. Шкловский выразил идею нового научного метода (или нового способа научного мышления), Ю.Н. Тынянов в своих работах 20-х годов создал теорию (во многом даже методику, применительно к лирике, успешно используемую и развиваемую во второй половине XX века М.Л. Гаспаровым) анализа литературных текстов. Яркой, но, к сожалению, эпизодической для науки попыткой применить подобную систему анализа к драматическому произведению являются работы С.Д. Балухатого, также 20-х годов: «Проблемы драматургического анализа» и ряд его статей о драматургии А.П. Чехова и сегодня имеющие уникальное теоретическое значение. Выбрав для историко-литературного исследования драматургию А.П. Чехова, С.Д. Балухатый непроизвольно «защитил» свой метод от многих упреков «официальной» (уже в то время) литературоведческой науки, - творчество А.П. Чехова само по себе есть некое «остранение» драмы по отношению к предыдущему периоду развития драматургии, что провоцирует нетрадиционность аналитического к нему подхода. Но даже это не спасло концепцию драматургического анализа С.Д. Балухатого: на долгие годы она оказалась незначащей для генеральной линии развития отечественного литературоведения, потому что невозможно изучать независимым методом локальный фрагмент литературного процесса (драматургию рубежа XIX-XX веков, например) более всего этому методу соответствующий, если не устанавливать соответствующие связи с другими фрагментами этого процесса. А из них самым ярким является фрагмент «реализм», поднятый на флаг культурно-исторической наукой в социологическом ее варианте, почему его формальное изучение и имело ограниченный характер.
Таким образом, то что происходит сегодня в науке о теории и истории драмы - есть попытка осмыслить ее существование в иных, чем «теория образности», категориях, больше, наверное, имеющих право на название «механизмы», чем «приемы», но, тем не менее, возвращающие (если не прямо, то косвенно) к идеям русской формальной школы первой трети XX века. Хотя еще раз нужно отметить, что методологические аспекты во многих работах остаются непроясненными, если авторы вообще ставят себе целью их прояснять, хотя это и не уменьшает ценность отдельных наблюдений.
В свете обозначенных методологических проблем тема исследования «ФОРМООБРАЗОВАНИЕ РУССКОЙ ДРАМЫ: традиции сценической литературы 1830-1840-х годов и творчество А.Н. Островского» представляется актуальной по многим причинам. В первую очередь, термин «формообразование», заимствованный у лингвистики и искусствознания (где он употребляется в разных контекстах, но имеет один и тот же абстрактный смысл) присутствует здесь не случайно и тоже является своего рода «приемом остранения» потерявшего смысл от автоматического употребления понятия «жанр» или индифферентного по отношению к конкретной художественной данности понятия «структура». Кроме того, само понятие «форма» применительно к драме является наиболее удобным, так как оно шире литературного смысла «жанра» и может включать в себя некоторые функционально определенные особенности драматического текста («сценические» или «сценарные» — как угодно - его моменты), которые чаще всего присутствуют в драматическом произведении.
Пожалуй, единственным отечественным, относительно современным, научным трудом, ставящим себе задачу дать целостное представление о взаимодействии формальных (структурных) элементов литературного произведения в границах общей системы является и по сей день «Теория стиля» А.Н. Соколова, вышедшая в 1968 году1. Выстраивая свою концепцию «стиля», автор решал, очевидно, преимущественно идеологическую задачу, так как, используя традиционные для теоретических литературоведческих схем (которые он упрекает в формализме) понятия, обозначающие элементы формы (формальные элементы), он соподчиняет их не в отношении к форме художественной, как конечному результату их взаимодействия, а «сакрализованному» стилю, который «идеей» оправдывает существование формы. Тем самым стиль переводится из ряда формальных категорий (где он располагался традиционно) в ряд содержательных и отождествляется, по сути, с идеей. Художественное произведение имеет право быть только тогда, когда отвечает требованиям стиля (с большой буквы). Тем самым отрицается возможность параллельного развития ряда равных по художественно-историческому значению стилей и снимается даже вопрос о «национальном стиле» и «стиле эпохи» (активно обсуждаемым учеными рубежа XIX-XX веков), потому что два произведения, выявляющие различные идейные позиции не могут быть выразителями общих стилевых тенденций, не могут и пересекаться в историко-литературном пространстве, даже если созданы в одинаковых условиях, похожими людьми и с близкими целями.
Сегодня ясна ограниченность такой концепции и необходимость выстраивания более гибкой системы, учитывающей все разнообразие художественных форм определенного (хотя бы) периода, независимо от их идеологических установок и устремлений.
Сказанное особенно актуально для русской драмы. Появившись на русской почве достаточно поздно, будучи изначально «калькой» с западноевропейских образцов, она долгое время (за редкими исключениями) держалась в границах универсальных драматургических схем, а в зрелый период развития национальной драматургии (2-я половина XIX века) представляла собой такое «многообразие форм и стилей»2, которое не поддается описанию с какой-либо одной точки зрения.
Мы не можем ставить себе задачей изучение «стиля» русской драмы, на наш взгляд, - это более искусствоведческая проблема, чем историко-литературная. Также мы не можем вынести в заголовок термин «жанр», так как возможность применения его к истории русской литературной (даже) драматургии XIX века весьма ограничена. Начало XIX века разрушает принятую жанровую систему классицизма (см. «История русской драматургии», 4.1 - указ.); попытка А.И. Журавлевой внести ясность в «жанровую систему» драматургии А.Н. Островского заканчивается тем, что исследовательница признает за А.Н. Островским создание специфического, индивидуального, уникального «жанра», находящегося где-то посередине между трагедией, комедией и драмой (см. указ. соч.); драматургия конца XIX века отменяет даже такую жанровую систему, как непродуктивную для выражения новых культурных идей. Поэтому понятие «форма» нам кажется наиболее удобным.
Что такое «формообразование»? Во-первых - это процесс, а не результат, как считают некоторые. Во-вторых, с точки зрения искусствознания (М. Шапиро), процесс широкий, включающий и возможности взаимодействия форм на разных уровнях. В этом отношении нам кажется интересным суждение методологического характера, высказанное специалистом по теории музыкального искусства: «Принцип формообразования ... молено определить и как руководящий закон и своего рода алгоритм, который лежит в основе становления того или иного типа структуры. Многократно воспринимаясъ, он отпечатывается в сознании в виде динамического стереотипа и входит в набор многих других типичных элементов музыкального мышления ... Таким образом, принципы формообразования, как и прочие типические элементы, не создаются каждый раз заново, а ставятся в новые условия взаимодействия с другими. Именно так возникают их иные свойства - вплоть до превращения синтеза традиционных средств в качество нового типа формы, нового средства выразительности и т.п., чем во многом определяется художественная и историческая значимость произведения. Процессы эти обусловлены новым содержанием, определяющим соответствующую драматургию и требующим нового типа формы»1. Нам кажется, что такая трактовка понятия «формообразование» может являться универсальной, приложимой к любому виду искусства. Главной нашей задачей, таким образом, должен являться поиск «руководящего закона», «алгоритма» для русской драмы.
Возникает закономерный вопрос: почему столь глобально определенная задача ограничивает материал исследования таким небольшим фрагментом историко-литературного процесса? Не имеет ли смысл начать наблюдение над принципами формообразования со времени появления в России драматического театра и драматической формы, созданной русскими писателями? Вообще, такой вариант исследования не исключен, но при этом нужно иметь в виду, что XVIII век и XIX (2-я половина, во всяком случае) века - это две принципиально различные драматургические системы: классицистическая, сопоставимая с французской, и «самобытная», не определенная еще в своей формообразовательной доминанте, система второй половины XIX века, - не определенная, потому что если определять ее (условно) как «реалистическую» (имея в виду, в первую очередь, драматургию А.Н. Островского) то, во-первых, встает вопрос о выделении «жанров» внутри новой системы (ибо, если жанры остаются теми же, в чем разница систем, и кто может утверждать, что французская классическая трагедия, комедия и даже мещанская драма - не реалистичны для эпохи их возникновения?), а во-вторых, при таком определении целый ряд драматических произведений, бесспорно, также составляющих основу «национального репертуара» (А.К. Толстой, Л.А. Мей, даже А.В. Сухово-Кобылин, да и некоторые пьесы А.Н. Островского) остаются вне этой системы, что, естественно, не создает целостного представления о развитии драмы во второй половине XIX века.
Попытки исследовать с точки зрения «теории жанра» русскую драматургию XVIII века предпринимались неоднократно, но приводили, как правило, либо к достаточно подробной классификации в рамках общепринятой классицистической схемы (см., например, Стенник Ю.В. - указ. соч.), либо не имеющими большой теоретической определенности выводами о не полном формальном и содержательном соответствии такого явления как «драмма» на русской почве (в творчестве Хераскова и Сумарокова) существовавшим в то время западноевропейским образцам1. Если обратиться к мнению Г. Гуковского, который первым поставил вопрос о различиях русской и французской классической драматической формы (и по степени теоретической определенности его высказывание до сих пор остается едва ли не уникальным), - то он выделяет единственного создателя «русской системы» трагедии в XVIII веке - Сумарокова, определяя особенности этой системы, понимание которых может быть актуально и для изучения последующего периода развития русской драматургии: «Сумароков построил свою трагедию на принципе крайней экономии средств. У него нет интриги: все действие трагедии стремится ограничиться одной перипетией. Так же упрощенная исходная ситуация тянется почти через всю трагедию и в конце устраняется. Сообразно такому упрощению и каждая роль в трагедии сводится к одному психологическому мотиву (одной персональной ситуации). Трагедия заполняется в значительной мере раскрытием содержания основной ситуации в ее значимости для каждой пары героев в отдельности. Диалоги получают лирическую окраску. Отсутствие интриги заставляет Сумарокова отказаться и от дифференцированного сюжетного использования отдельных актов, свойственного французской трагедии. ... Сумароков воспользовался рядом элементов французской системы, получивших, конечно, иной смысл в новой связи приемов»1. Столь обширную цитату мы привели здесь еще и для того, чтобы показать, какой стиль научного мышления кажется нам наиболее соответствующим характеру поставленной проблемы и какие выводы теоретически наиболее убедительными. Далее Гуковский делает вывод о том, что традиция Сумарокова не утвердилась на русской почве, что Княжнин «...создавал свою систему трагедии на основе французской, двигаясь от Расина к Вольтеру. Его система постепенно вытеснила элементы системы Сумарокова» и что «Основная традиция вела русскую трагедию и в 90-х годах по пути, предуказанному Княжниным и У завершенному творчеством Озерова» . Этот вывод, в целом, не оспаривался последующими исследователями русской драматургии XVIII века, так что можно сказать, что до 20-х, как минимум, годов XIX века русская драма, с большей или меньшей степенью соответствия, развивалась в границах системы классицизма, заимствованной у западноевропейских драматургов и теоретиков драмы.
Вопрос о «романтической» драме (трагедии, комедии) на русской почве -сложилась ли она в драматическую систему и определила ли последствия, -является достаточно сложным. Здесь возникает впервые отчетливо вопрос о драме и сцене. Романтизм в России имел, пожалуй, более аристократический, интеллектуальный, характер, тогда как драматическое произведение, предназначенное для сцены, должно всегда содержать определенные черты массовой культуры (объединяющие публику, посещающую театр), - вспомним известное выказывание Пушкина о «народной драме». Возможно поэтому русский романтизм не дал практически ни одного сценического произведения: таковым нельзя назвать ни «Горе от ума» А.С. Грибоедова, ни «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, ни тем более «Бориса Годунова» А.С. Пушкина, - главное, чем заслуживали эти драмы упреки критики (не отрицавшей поэтической гениальности их авторов) - несоответствие современным требованиям сцены и публики (даже если она просто не доросла до понимания этих шедевров).
Соотнесение с романтической традицией драматургического творчества славянофилов (А.С. Хомякова, К.С. Аксакова - см. Карушева М.Ю. - указ. соч.) не приводит к выводу о сложении драматической системы романтизма, - даже если не касаться сложности идейной и философской интерпретации их произведений, -они находились явно вне задач театра и сцены, им современных.
Пожалуй, только «ложный» и «величавый» (см. Карушева М.Ю. — там же) романтизм Н.В. Кукольника оказал известное влияние на формирование русской сцены, но его сценические драмы вряд ли можно с полным основанием назвать «романтическими», если настаивать на теоретической серьезности определения. Или, во всяком случае, его сценическая редакция романтизма заметно отличается от возвышенно-схоластических представлений русских романтиков и стремится, скорее, принять форму какого-то «народного мистицизма», если так можно сказать. Поэтому его драматические произведения имеют весьма сложную структуру, не поддающуюся анализу в привычных для классицизма (или даже романтизма) категориях. К творчеству Н.В. Кукольника непосредственно мы еще обратимся в последующих разделах работы, а пока подошли к следующему утверждению: в первой трети XIX века какой-либо определенной драматургической системы, удовлетворяющей требованиям современной сцены, не существовало, классицистической - уже (что признано, как уже было отмечено, многими исследователями); какой бы то ни было иной - по всей видимости - еще (романтическая ею не стала).
Бесспорно, что вариантом новой драматической системы явилась драматургия А.Н. Островского 60-70-х годов. Но, как справедливо отметил исследователь теоретических аспектов становления жанра рассказа в русской литературе, А.В. Лужановский: «...с какого бы периода ни было начато исследование, в предшествующем периоде всегда найдутся произведения, структурно напоминающие произведения данного жанра. Необходимо выяснить в истории литературы тот момент, когда стал формироваться принцип выделения жанра»1. То же самое можно сказать о любом виде художественного творчества, в частности, о драматической литературе. А.Н. Островский выступил непосредственным наследником не стройной (пусть в специфическом русском варианте) классицистической системы, а того периода в развитии русской драмы и сцены, который долгие годы единодушно определялся исследователями как «кризисный» , «холостой ход театральной системы» и т.д., - то есть 30-х, 40-х и иногда тоже включаемых в «кризисный» период 50-х годов.
Если уйти от оценок, то обозначенный период - это бурная театральная жизнь столиц и развитие театрального дела в провинции; это лучшие годы издания театральных журналов; это множество авторов, пишущих для сцены (то, что А.И. Журавлева назвала «количественным ростом репертуара» - там же) и еще большее число критиков, заботящихся о ее состоянии; это демократизация состава театральной публики; это становление оригинального русского водевиля (смыкающегося в чем-то, возможно, с бытовой и социальной комедией, но все же имеющего иные формальные признаки - «видовые особенности»4 (как их называет А.Н. Соколов); это, наконец, различные эксперименты в области драматической формы, к которым в конце 40-х - 50-е годы присоединился и А.Н. Островский в своих ранних произведениях. Поэтому если где-то и можно искать основания (или предпосылки) для новой драматургической системы А.Н. Островского 60-70-х годов (и других драматургов этого времени), то именно здесь, где Н.А. Полевой, Н.В. Кукольник, Ф.А. Кони и другие на «развалинах классицизма» (отрицаемого ими как система) и несостоявшегося (в драматической практике) романтизма пытались построить новую русскую сцену с национальным репертуаром, отвечающим требованиям все более и более демократизирующейся публики. Только в этом случае речь должна идти не о «жанре» (о трудности определения границ которого для драматургии второй половины XIX века мы уже говорили), а о специфической форме, принципы которой начинают определяться в обозначенном историко-культурном (театрально-литературном) пространстве, что мы и будем доказывать в ходе исследования.
Дело в том, что «условность жанровых границ» драматургии (внесшая значительную неясность в представления о последующем развитии драматических форм) до 40-х годов XIX века не осознавалась вполне отчетливо и споры в литературной и театральной критике велись, преимущественно, по поводу того, что принято считать «жанром», а если критика требовала выражения «национальности», то она с границами жанра достаточно четко соотносилась, и в результате появлялись соответствующие произведения, например, трагедии Озерова. В 40-е же годы ситуация меняется, и критика требует уже не выражения национальной идеи, темы, пафоса и т.д. от того или иного «жанра», а вообще -«русской сцены», то есть новой формы театра (следовательно, драматургии), независимо от ее жанровой специфики. Именно в соответствии с этими требованиями начинает формироваться новая «русская драма», новая форма драматического произведения и, что характерно, часто с весьма далеких от привычного представления о «жанрах» образцов (малые драматические формы Н.А. Полевого с авторскими жанровыми характеристиками; то же у Ф.А. Кони и др.). Эта «новая форма» получила дальнейшее развитие, давшее в 60-70-е годы XIX века всплеск подлинно национального репертуара в творчестве А.Н. Островского, А.К. Толстого, Л.А. Мея и других.
ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ настоящей работы, таким образом, будет являться изучение наиболее важного (с точки зрения формообразования) исторического фрагмента существования русской драмы. Это период, начинающийся приблизительно в середине 1830-х годов, когда разрушение устойчивой системы драматургических жанров стало вполне очевидным и включающий в себя эпоху 1860-70-х годов, где новая система построения драматического произведения была представлена достаточно выпукло, прежде всего, в творчестве А.Н. Островского. ЦЕЛЬЮ настоящей работы является выявление принципов формообразования русской драмы (определения и воплощения новой драматической формы) взаимодействие которых дало феномен «национального репертуара» во второй половине XIX века, именно в творчестве А.Н. Островского, рассмотрением некоторых аспектов творчества которого мы ограничиваем здесь наше исследование драматургии собственно второй половины XIX века (1860-70-х годов).
Определенная задача подразумевает достаточно широкий круг источников исследования, имеющих не только историко-литературное, но и культурно-историческое значение; ими и будут являться, в первую очередь, театральная критика и репертуарная драматургия конца 30-х - 40-х годов XIX века, практически не входившие (за редкими, всем известными, исключениями) в сферу внимания историков литературы, литературной критики и даже театра.
Роль театрально-критической полемики 30-40-х годов XIX века в развитии литературы и театра вообще исключительно мало оценена. Хотя, как отметил Ю.В. Стенник (рассуждая о другом периоде развития театральной критики): «Полемика - первый показатель динамики литературного процесса. Она далеко не всегда бывает продиктована чисто творческим интересом, степень ее остроты зачастую оказывается неадекватной глубине затронутых вопросов. Но каковы бы ни были мотивы полемики и ее последствия для дальнейшей литературной эволюции, сам факт полемического противоборства всегда свидетельствует о притоке в литературу свежих сил, о естественной потребности в переоценке устоявшихся норм и вкусов, наконец, и это главное, о сложности и многообразии факторов, определяющих ход историко-литературного развития»1.
В плане развития «теории драмы» (определения принципов новой драматической формы) 30-40-е годы XIX века практически не изучены. Историков литературы, обращавшихся к этому материалу интересовало, во-первых, содержание идейной стороны критических выступлений, во-вторых, так как они решали выдвинутую временем задачу установления приоритетных суждений, - то если разговор и касался каких-либо формальных аспектов, то исключительно с точки зрения выражения ими идей этих приоритетных суждений.
Такой подход вряд ли можно считать объективным, потому что он значительно обедняет (если не искажает) представление о том или ином фрагменте развития литературно-критической (так же и театрально-критической) мысли. Это особенно важно в отношении 30-40-х годов, когда фактически исключаются из объективного процесса Н.А. Полевой, Ф.В. Булгарин, Н.А. Греч и другие критики «официального» направления, оставившие, тем не менее, весьма интересные суждения о русском театре, драме и сцене и возводятся в степень «творцов» теории русской драмы А.С. Пушкин, В.Г. Белинский и Н.А. Некрасов, чьи выступления в качестве театральных критиков были, в целом, эпизодичны, хотя, безусловно, заслуживают внимания. Почти не привлекаются к изучению театрального процесса («театрально-литературного», - в соответствии с пониманием в XIX веке «сцены» как «отрасли литературы») такие «текущие», если можно сказать, материалы, как обзоры, рецензии, хроники театров (часто неизвестных авторов), которые отражают, прежде всего, развитие «театрального вкуса», игравшего во все времена существования театра немаловажную роль для создателей драматической литературы.
В работе мы пытаемся объективно рассмотреть эти явления театрально-критической (и литературно-критической, имеющей отношений в нашей теме) мысли 30-40-х годов XIX века, независимо от их приоритетности с точки зрения существующей традиции, чтобы вынести из этого по возможности ясное представление о том, какие качества новой драматической формы требовало от литературы время.
30-40-е годы кажутся нам наиболее интересными в этом отношении, так как именно тогда важные для нашего исследования вопросы обсуждались особенно активно. Десятилетием позже вопросы формы драмы занимают критиков значительно меньше (по многим причинам, вероятно, и в связи с убедительным выступлением А.Н. Островского), затем акценты переносятся на содержание, идею и т.д., - известная картина 60-х годов XIX века, - критики расходятся по «лагерям» и воюют между собой за литературу, в том числе и драматическую; драматическая литература развивается, отчасти воспринимая пафос критических выступлений, чаще же самостоятельно и независимо (такой вывод можно сделать, читая, например, письма А.Н. Островского и А.К. Толстого), решая этические (необходимые для существования театра) задачи и следуя внутренней логике, которая, очевидно, уже найдена. Вот почему ее и нужно искать раньше.
То, о чем говорилось выше является содержанием I ГЛАВЫ диссертации.
Логика дальнейших рассуждений ясна. II ГЛАВА диссертации представляет собой изучение «репертуарной» драматургии 30-40-х годов XIX века с точки зрения ее формообразовательных принципов. Следуя методологически справедливому мнению В.Н. Перетца, актуальному сегодня как никогда раньше: «... с точки зрения литературной эволюции все разновидности литературного творчества, все остатки прошлого литературной традиции имеют значение как показатели этапов развития, с одной стороны - мастерства авторов, с другой -вкуса и запросов потребителей памятников словесного творчества ... нет произведений «худших» или «лучших» в смысле эстетическом, а есть лишь более или менее ясно представляющие моменты литературного развития»1, мы обращаем преимущественное внимание на такие явления, которые никогда прежде не интересовали историков русской литературной драмы. Это, в первую очередь, «серьёзная» драматургия Н.А. Полевого (восторженно принимавшаяся публикой и долгие годы не сходившая со сцен столичных и провинциальных театров), наиболее интересная в своих формальных поисках; Н.В. Кукольника и других, а также русский водевиль (в творчестве Ф.А. Кони, П.А. Каратыгина, Н.А. Некрасова и др.), который своей оригинальной формой (постепенно выработанной) оказал большое влияние на становление комедии в творчестве А.Н. Островского и А.В. Сухово-Кобылина.
III ГЛАВА данной работы является попыткой рассмотреть творчество А.Н. Островского в связи с выявленной драматической формальной традицией, - не с целью «поставить точку» в определении «жанра» его произведений, а надеясь сделать более объективной и ясно читаемой картину развития русской литературной драматургии середины - второй половины XIX века.
Очевидно, что для решения поставленных задач более важны факторы развития теоретической, чем историко-литературоведческой мысли предшествующего периода (хотя масштабное изучение творчества А.Н. Островского и ряда других русских драматических авторов, безусловно, может являться исторической базой работы, к которой мы будем, по мере необходимости, обращаться - полемически или соглашаясь), так как, рассматривая (в основной части работы) малоизученный историко-литературный материал, мы будем приводить его в согласие с достаточно известным, чтобы достичь нового уровня единства представления о литературном процессе, как уже было заявлено, а это требует определенной теоретической абстракции.
Мы уже говорили о том, что теоретическое исследования драмы (и литературной драматургии) последних лет прямо или косвенно обращаются к теории и практике формальной школы русского литературоведения первой трети XX века. Для нашего исследования эта методология также представляет значительный интерес.
В первую очередь - подход к выбору источников (который сложился во многом эмпирически) теоретически оправдан наблюдениями Ю.Н. Тынянова над «материалом литературного изучения» с точки зрения проявленности в нем «конструктивных принципов»: «... чтобы не рисковать сделать неправильные выводы, мы должны работать над материалом с ощутимой формой»1. Определенные формалистами области «мотивированного» и «немотивированного» искусства и утверждение того, что «Выяснение конструктивной функции какого-либо фактора удобнее всего вести на литературном материале выдвинутого или смещенного ряда (немотивированного)»2, кажется нам абсолютно соответствующим логике развития русской литературной драмы в XIX веке, где попытка НА. Полевого, Ф.А. Кони, Н.В. Кукольника создать новую драматическую форму была тем же «смещением» ряда конструктивных факторов установившейся («автоматизированной») литературной системы, позволяющим наблюдать в этом «минимуме условий» формообразовательный (конструктивный) принцип.
Первая попытка представить драму как совокупность конструктивно значимых факторов была предпринята, как отмечалось, С.Д. Балухатым. Автор оригинальной теоретической концепции выстраивает «поэтику драмы» на основаниях, далеких от привязанности культурно-исторического метода к конкретно-исторической, социальной и бытовой ситуации, формирующей индивидуально-реалистический характер героя. С.Д. Балухатый представляет драму как явление эстетически-условное (может быть даже в большей степени, чем «литература» собственно), имеющее сложную «технологию», оправданную сложностью «пьесного задания», (объединяющего эстетические и внеэстетические функции драмы) и заключающуюся в выражении основной эмоциональной темы (то есть «сюжета драмы») в ее динамике способом самовысказываний, имеющих форму диалога или монолога.
Эта сложная «технология» или «техника» драмы, по мнению ученого, может быть выражена определенными категориями, характеризующими основные приемы создания драматической конструкции. Центральной категорией драматургической поэтики С.Д. Балухатого, безусловно, является «тема» -«речевая тема»: «Речь лица является носителем речевой темы»1; «Сюжет должен рассыпаться на ряды персональных и речевых тем, диалектически развернутых, через суммирование или синтезирование которых создается восприятие основной темы пьесы читателем-зрителем» ; наконец: «Композиция в драме - порядок следования «малых» тем, то есть тем речевых, тем в сценах-явлениях, в эпизодах, тем актовых»3. Это (иногда кажущееся чрезмерным) стремление привести привычные (масштабные, «литературные») уровни организации и восприятия драматического произведения к минимальной, абстрактной и потому универсальной единице, - в высшей степени продуктивно. Таким образом, исследователю любого драматического явления дана возможность выстроить единую систему, логически связывающую конструктивные факторы внутри явления и группы факторов, замыкающих данные явления, друг с другом в широком историко-культурном пространстве. Что касается С.Д. Балухатого, то он блестяще демонстрирует возможность выстраивания такого рода системы, характеризуя композицию драматического произведения с точки зрения «механизма» реализации ее системообразующих свойств: «Темоведение в диалоге ведется так, что через совокупность речевых высказываний дается устремление речевого ряда к новому ряду значений. В итоге из многих речевых тем, раскрытых системно выводится единая синтетическая диалогическая тема. Тема диалога, таким образом, есть конечный результат соотношения всех речевых тем в диалоге: диалог организуется с ориентировкой на эту «внутреннюю», в процессе восприятия - производную тему»4. Данное теоретическое рассуждение (так же как и ряд других - о «механизме диалога», о «жанровых поэтиках» и т.д.) предполагается использовать как базовые для собственно литературного анализа драматических текстов. Тем более, как уже было отмечено, этому теоретическому пафосу созвучны сегодняшние исследовательские поиски в области теории драмы. Так, практическим продолжением размышлений С.Д. Балухатого о специфике организации драматического действия можно считать указанную работу В.И. Лагутина (указ.), где «основной функционально-содержательной единицей текста драмы» автор называет «тематический диалогический блок, под которым понимается относительно самостоятельный отрезок текста, выделяемый на основе единства ситуации, микротемы и функционального назначения. Диалогический блок объединяет в себе несколько ДЕ, тесно связанных единой темой... Л Развернутой и «переведенной» на язык современной науки, но все же своего рода репликой, источник которой - приведенные выше суждения, является ключевая мысль В.И. Лагутина о том, что «Для ХД в драме типична монотематичность, постоянность предмета речи, т.е. предмет речи не меняется: он может расширяться, сужаться, тема может отступать на задний план, вновь возникать, но никогда полностью не исчезает. ХД в драме -моноцентрированный текст (themazentrier texttyp) , т.е. с одним тематическим ядром. В нем обсуждается одна общая тема, в которой «встречаются» все персонажи. Каждый персонаж может вносить новое содержание, однако в рамках общей темы» (там же С.70). Не совсем ясна конструктивная роль выделения автором «двух семантических планов: реплики, предназначенные для развития темы ... и реплики, слова, управляющие течением диалога» (там же С.71), которые, по его мнению, находятся в некотором противоречии друг другу, -так как подобным разделением структуры на два независимых ряда вряд ли можно создать представление о каком-либо речевом (диалогическом в данном случае) единстве; предпочтительнее искать точки в которых структура выглядит взаимообусловленным сочетанием элементов. Наибольший интерес вызывают наблюдения исследователя над «реалистической драмой»: «Реалистическая драма есть моноцентрированный текст с одним тематическим ядром. В ней разрабатывается вглубь одна общая тема, в которой «встречаются» все персонажи. Конфликтом в драме становится не сама тема, а оценки, позиции персонажей по различным линиям развития темы с выходом в морально-нравственную область человеческого существования» (там же С.90). Возможно, данный фрагмент требует большей терминологической точности (потому что здесь перед нами ситуация, типичная для всего «неформального» русского литературоведения, незаметно для себя переходящего от разговора о тех или иных эстетических, условных и т.д. явлениях к разговору о «живых» персонажах, реальных «суждениях», «оценках», «ситуациях», «конфликтах»), но основная его идея может быть продуктивной для создания целостной картины развития русской литературной драматургии во второй половине XIX века, времени «реалистической драмы», преимущественно.
Наиболее глубокий анализ структуры драмы и «механики» ее композиционного построения дает В.А. Садикова в указанной работе. Одновременно с усилением строгости научного мышления и терминологии парадоксально (а может быть вполне логично) увеличивается близость современного уровня решения теоретических проблем и теоретических посылок русской формальной школы, - «...попытка выделить и описать микродействие -минимальную единицу драматического текста»1, понимая под ним «структурное единство, которое обладает логико-смысловой целостностью и речедейственной законченностью и выступает как часть завершенной коммуникации в контексте целого драматического произведения» (там же. С. 10) не является ли приведением в соответствие с теоретическими достижениями современной лингвистики все того же утверждения С.Д. Балухатого о том, что «организующим фактором в драме» является «речевая тема». Общее наблюдение В.А. Садиковой над принципом композиционного построения драматического текста также имеет узнаваемую методологическую основу: «в характере сцепления реплик ... в этих связях существует определенная закономерность, которая заключается в том, что драматическое действие периодически возвращается к тому, что произошло ранее: в какой-то момент очередная реплика героя вытекает не из предшествующего непосредственно поступка-реплики противодействующего лица, но из всего совокупного драматического действия, совершенного до этого момента. И тогда мы имеем качественный скачок в развитии драматического действия, оно переходит на новый композиционный уровень. Это свойство именно драматического (эстетического) диалога и оно совершенно отсутствует в диалоге бытовом» (там же С.8).
В целом же все теоретические работы последних лет (в совокупности с предшествующими им умозаключениями русских формалистов) создают хотя и не прочную и не полную, но все же достаточно широкую базу если не для обобщений, то для наблюдений над закономерностями развития русской драматургии обозначенного периода.
Последнее. Было бы несправедливым думать, что формалистические исследовательские установки игнорируют историческую составляющую литературного процесса. Еще С.Д. Балухатый писал о том, что «Строя законы сложения драмы, наблюдая типичные приемы драматического письма мы неизбежно исходим из конкретных образцов, прикрепленных к историческому времени, запечатлевших индивидуальный темперамент мастера. Всегда есть опасность признаки «исторические» принять за «органические». Отсюда для рационального наблюдения над жизнью отдельных драматических слагаемых, над судьбой целых драматических систем, необходимо проблемы теоретические комментировать дачными анализа исторического; вопросы драматургического анализа сопровождать оценкой фактических, конкретных условий генезиса и бытования драматических слагаемых»1. Отличие данной методики от всех последующих только в том, что ученый предлагал соблюдать объективный баланс, который впоследствии был нарушен в пользу приоритетных «исторических» признаков. Мы постараемся следовать идее исторически объективного теоретического анализа выраженной С.Д. Балухатым.
Проблемы драматической формы в русской театральной критике 1830-1840-х годов
История русской театральной критики и журналистики, можно сказать, не являлась объектом целостного и систематического изучения. В числе немногих специальных источников по этому вопросу до сих пор на первом месте стоит известный двухтомник «Очерков истории русской театральной критики», фундаментальный труд А.А. Аникста, а также частные, преимущественно литературоведческие, исследования, посвященные проблемам театра и драмы в творчестве отдельных, достаточно крупных критиков (традиционно — это В.Г. Белинский, А.А. Григорьев, Н.А. Добролюбов и др.)1.
Авторы «Очерков...» выбрали путь выделения и описания персоналий более или менее известных критиков эпохи для систематизации процессов, происходивших в истории театральной критики интересующего нас периода. Не говоря уже о том, что исследователи находились в довольно жестких рамках известной идеологической парадигмы, заставляющей рассматривать все явления под творческого процесса углом зрения «...смены театрально-критических направлений ... в связи с социальными сдвигами и идейной борьбой эпохи...»1, само изучение критики «по персоналиям» имеет как позитивную сторону -относительно полное освещение деятельности отдельных персонажей; в конечном итоге - картина многообразия существовавших идей, вкусов, требований к драматической литературе театру, так и негативную - разделение одновременно протекавшего процесса на крупные независимые фрагменты вряд ли способствует выявлению общих тенденций эпохи. Разделение всегда провоцирует (если не подразумевает) противопоставление и, соответственно, поиск доминанты, «тенденции-победителя», что не всегда объективно. Не менее необходимым представляется выявление тенденций, объединяющих всех критиков в поиске каких-либо конструктивных оснований для развития русского театра, решении отдельных проблем и т.д.
Ведь, в самом деле, массовому читателю и зрителю вряд ли было важно, кто скрывается за псевдонимом «П.Щ.», «В.У.» и др. - философичный Н.И. Надеждин, «практичный» В.А. Ушаков или кто-нибудь другой. Массовому, «среднему» зрителю (для которого, собственно, и существует театр) во все, наверное, времена, в пестроте культурной жизни, в борьбе идей, столкновении амбиций важно уловить даже не «тенденцию», а некое «настроение», «веяние», приоритеты вкуса, которые и определяют, в конечном итоге, его реакции и пристрастия, а, следовательно, во многом, и законы развития драматургии и театра.
Таким образом, 30-40-е годы XIX века, как особая целостная эпоха, практически исчезают из культурного сознания, неясной остаётся позитивная роль этой эпохи в развитии русского национального репертуара. Думается, что это связано с долгим преобладанием в литературоведческой науке оценочного подхода к литературному (и литературно-драматическому) произведению, в результате чего многие явления оказались «вынесенными» за конструктивные границы научных представлений о литературном процессе, подразумевающих важность каждого текста для существования литературно-художественной традиции. Для формирования представлений о русской драматической литературе такая позиция была особенно непродуктивной, так как история русского национального театра и без того относительно кратковременна и достаточно противоречива, чтобы лишать её такого значительного отрезка существования как условно определяемое двадцатилетие - 30-40-е годы XIX века и противопоставлять, таким образом, творчество выдающихся драматургов более позднего периода (А.Н. Островского, А.К. Толстого и др.) сформировавшимся к тому времени традициям создания сценического текста. Тем не менее, А.Н. Островский вряд ли мог бы создать «национальный репертуар», если бы не был в какой-то мере связан с традициями своего рода «школы» оригинального драматического произведения, некоторые признаки которой складываются именно в 30-40-е годы XIX века. Это даже если не принимать во внимание особый «биографический момент» изучения творчества писателя, который может раскрыть процесс восприятия и усвоения драматических опытов обозначенных десятилетий А.Н. Островским-зрителем.
Поэтому достаточно интересной (во многом идеалистической и предполагающей всего лишь гипотетические выводы) представляется задача своеобразной реконструкции той театрально-культурной повседневности, которая выражалась в 1830-1840-е годы XIX века театральной критикой, критикой репертуара русского театра. «Повседневность», которая влияла на литературную драматургическую практику и современников эпохи, и, опосредованно, драматургов, чье творчество относится к более позднему периоду (А.Н. Островский, главным образом), на воспитание, если так можно сказать, их театральных вкусов
Вообще, в том, что касается театра, как раз 30-40-е годы XIX века - время редкой активной деятельности, - мы имеем ввиду как усилия русских драматических авторов, направленные на создание национального сценического репертуара, так и театральной критики, пытающийся осмыслить этот процесс во всем его многообразии, а также издание «лучшего русского театрального журнала» именно в эту эпоху и появление в периодической печати вообще всевозможных театральных обзоров, рецензий, хроник и т.д.
Мы, безусловно, отдаем себе отчет в том, что задача полной реконструкции театральной ситуации даже двух десятилетий требует привлечения очень широкого круга источников, в том числе и ранее изучавшихся (В.Г. Белинский, Н.А. Некрасов, Н.И. Надеждин и др.), рассмотрение которых под новым углом зрения может принести интересные результаты. Но это, наверное, могло бы стать темой самостоятельного исследования, нас же, при обращении к театральной критике эпохи 30-40-х годов XIX века, интересовал в основном один аспект, именно, «формообразования», а здесь, как показывает значительный объем просмотренного материала, большую роль и значение играла критика так называемого «официального» направления, так как именно она была занята вопросами существования русского театра и русского театрального репертуара непосредственно и наиболее профессионально.
Русский «буржуазный» водевиль
История русской театральной критики и журналистики, можно сказать, не являлась объектом целостного и систематического изучения. В числе немногих специальных источников по этому вопросу до сих пор на первом месте стоит известный двухтомник «Очерков истории русской театральной критики», фундаментальный труд А.А. Аникста, а также частные, преимущественно литературоведческие, исследования, посвященные проблемам театра и драмы в творчестве отдельных, достаточно крупных критиков (традиционно — это В.Г. Белинский, А.А. Григорьев, Н.А. Добролюбов и др.)1.
Авторы «Очерков...» выбрали путь выделения и описания персоналий более или менее известных критиков эпохи для систематизации процессов, происходивших в истории театральной критики интересующего нас периода. Не говоря уже о том, что исследователи находились в довольно жестких рамках известной идеологической парадигмы, заставляющей рассматривать все явления под творческого процесса углом зрения «...смены театрально-критических направлений ... в связи с социальными сдвигами и идейной борьбой эпохи...»1, само изучение критики «по персоналиям» имеет как позитивную сторону -относительно полное освещение деятельности отдельных персонажей; в конечном итоге - картина многообразия существовавших идей, вкусов, требований к драматической литературе театру, так и негативную - разделение одновременно протекавшего процесса на крупные независимые фрагменты вряд ли способствует выявлению общих тенденций эпохи. Разделение всегда провоцирует (если не подразумевает) противопоставление и, соответственно, поиск доминанты, «тенденции-победителя», что не всегда объективно. Не менее необходимым представляется выявление тенденций, объединяющих всех критиков в поиске каких-либо конструктивных оснований для развития русского театра, решении отдельных проблем и т.д.
Ведь, в самом деле, массовому читателю и зрителю вряд ли было важно, кто скрывается за псевдонимом «П.Щ.», «В.У.» и др. - философичный Н.И. Надеждин, «практичный» В.А. Ушаков или кто-нибудь другой. Массовому, «среднему» зрителю (для которого, собственно, и существует театр) во все, наверное, времена, в пестроте культурной жизни, в борьбе идей, столкновении амбиций важно уловить даже не «тенденцию», а некое «настроение», «веяние», приоритеты вкуса, которые и определяют, в конечном итоге, его реакции и пристрастия, а, следовательно, во многом, и законы развития драматургии и театра.
Таким образом, 30-40-е годы XIX века, как особая целостная эпоха, практически исчезают из культурного сознания, неясной остаётся позитивная роль этой эпохи в развитии русского национального репертуара. Думается, что это связано с долгим преобладанием в литературоведческой науке оценочного подхода к литературному (и литературно-драматическому) произведению, в результате чего многие явления оказались «вынесенными» за конструктивные границы научных представлений о литературном процессе, подразумевающих важность каждого текста для существования литературно-художественной традиции. Для формирования представлений о русской драматической литературе такая позиция была особенно непродуктивной, так как история русского национального театра и без того относительно кратковременна и достаточно противоречива, чтобы лишать её такого значительного отрезка существования как условно определяемое двадцатилетие - 30-40-е годы XIX века и противопоставлять, таким образом, творчество выдающихся драматургов более позднего периода (А.Н. Островского, А.К. Толстого и др.) сформировавшимся к тому времени традициям создания сценического текста. Тем не менее, А.Н. Островский вряд ли мог бы создать «национальный репертуар», если бы не был в какой-то мере связан с традициями своего рода «школы» оригинального драматического произведения, некоторые признаки которой складываются именно в 30-40-е годы XIX века. Это даже если не принимать во внимание особый «биографический момент» изучения творчества писателя, который может раскрыть процесс восприятия и усвоения драматических опытов обозначенных десятилетий А.Н. Островским-зрителем.
Поэтому достаточно интересной (во многом идеалистической и предполагающей всего лишь гипотетические выводы) представляется задача своеобразной реконструкции той театрально-культурной повседневности, которая выражалась в 1830-1840-е годы XIX века театральной критикой, критикой репертуара русского театра. «Повседневность», которая влияла на литературную драматургическую практику и современников эпохи, и, опосредованно, драматургов, чье творчество относится к более позднему периоду (А.Н. Островский, главным образом), на воспитание, если так можно сказать, их театральных вкусов
Вообще, в том, что касается театра, как раз 30-40-е годы XIX века - время редкой активной деятельности, - мы имеем ввиду как усилия русских драматических авторов, направленные на создание национального сценического репертуара, так и театральной критики, пытающийся осмыслить этот процесс во всем его многообразии, а также издание «лучшего русского театрального журнала» именно в эту эпоху и появление в периодической печати вообще всевозможных театральных обзоров, рецензий, хроник и т.д.
Мы, безусловно, отдаем себе отчет в том, что задача полной реконструкции театральной ситуации даже двух десятилетий требует привлечения очень широкого круга источников, в том числе и ранее изучавшихся (В.Г. Белинский, Н.А. Некрасов, Н.И. Надеждин и др.), рассмотрение которых под новым углом зрения может принести интересные результаты. Но это, наверное, могло бы стать темой самостоятельного исследования, нас же, при обращении к театральной критике эпохи 30-40-х годов XIX века, интересовал в основном один аспект, именно, «формообразования», а здесь, как показывает значительный объем просмотренного материала, большую роль и значение играла критика так называемого «официального» направления, так как именно она была занята вопросами существования русского театра и русского театрального репертуара непосредственно и наиболее профессионально.
Проблемы драматической формы в эпистолярном наследии А.Н. Островского
На широком, как нам хотелось показать, фоне формальных поисков русской драматической (сценической) литературы 30-40-х годов XIX века и вообще в историческом процессе развития русской драматургии фигура А.Н. Островского традиционно воспринимается обособленно, по крайней мере, вне связи с предшествующей сценической традицией. Обычно указывают лишь имена, составившие славу русской литературы вообще - А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, без особенных усилий придать их связи с А.Н. Островским какой-то иной, кроме идейно-выразительного, характер, почти никогда не осмысливая при этом вопросы драматической формы, которая, очевидно, едва ли не самое важное качество драматического произведения, обуславливающее возможность его жизни в сценическом, наиболее адекватном своей главной цели, воплощении (качество, которое как раз - важнейшее свойство драматургии А.Н. Островского, но совсем не отличает драматические опыты указанных выше авторов). Все попытки связать творчество А.Н. Островского с какой-то иной драматургической традицией неизменно приводят к выводам о том, чего и насколько А.Н. Островский был лучше, больше, глубже, тоньше, выше и т.д.1.
Этот пафос часто уничтожает объективный интерес исследователя и желание восстановить картину во всех деталях и подробностях. Называя А.Н. Островского (вслед за ним самим) «создателем национального репертуара», авторы многочисленных статей и монографий традиционно не останавливаются подробно на вопросе о том, что «репертуар» - это, прежде всего, сценический текст, то есть -форма, а «национальный репертуар», следовательно, - «национальная форма» сценического текста. Мы сказали: «не останавливаются подробно», имея в виду, что отдельные указания на функционирование в драмах А.Н. Островского определенно новых элементов формы все же встречаются, и довольно часто. Но, при внимательном изучении научных текстов становится ясно, что таковыми элементами неизменно называются или помещенные в пограничную сферу с «содержанием», в обычном его понимании: новые типы, образы, характеры в пьесах А.Н. Островского; или в центре внимания находятся элементы, способные нести «содержательную» информацию -«купеческий язык» пьес, фольклорные мотивы и т.д.; или же - отдельные формальные моменты определяются как своего рода «исторические» - бытовой фон, детали, расширенные ремарки и др., - характеризующие, в одном случае - эпоху, в другом -сознание художника. Перемещаясь в сферу непосредственно «драматического» (конфликт, организация драматического действия на разных уровнях, художественный диалог), особенно, в тех случаях, когда очевидна сложность и нетрадиционность драматической формы («Гроза», «Минин», «Снегурочка», «Бесприданница»), авторы многих публикаций ощущают естественные затруднения и, чтобы избежать их, переводят разговор в плоскость содержательного, в данном случае абстрактно-символического его аспекта, считая присутствие такого уровня выражения достаточным для объяснения любых свойств формы.
Тем не менее (и это является общепризнанным) творчество А.Н. Островского чрезвычайно многообразно именно в формальном (жанровом и не только) отношении. Дискуссия о жанровых характеристиках пьес А.Н. Островского (вообще всех и особенно - наиболее значительных в его творчестве) имеет продолжительную историю в критике и литературоведении Попытки проанализировать и объяснить жанровую систему драматургии А.Н. Островского в целом также предпринимались, хотя и значительно реже. Наиболее целостным и системным можно считать развернутое представление «жанровой системы драматургии А.Н. Островского» в диссертационном труде А.И. Журавлевой и её книгах об А.Н. Островском1, где значимой характеристикой различных пьес А.Н. Островского (поздних комедий, преимущественно) исследователь считает то, что «В конечном итоге в художественной системе А.Н. Островского драма формируется в недрах комедии ... Драматизм отдельных ситуаций, иногда судеб с течением времени разрастается все больше и как бы расшатывает, разрушает комедийную структуру, не лишая, однако, пьесу черт «крупного комизма» ... Вместе с тем именно в них постепенно накапливаются качества необходимые для возникновения драмы в узком значении термина. Это прежде всего личностное сознание...»
Не оспаривая данные выводы, хотелось бы отметить, что А.И. Журавлева, указывая на бесспорно важные аспекты формы пьес А.Н. Островского, к самому выявлению этих аспектов подходит, если так можно сказать, со стороны смысла, воплощая тем самым закономерный и необходимый логический предел научных поисков литературоведческой школы, базирующейся, в первую очередь, на анализе идейно-содержательных сторон литературного творчества. Этот результат можно назвать выдающимся, но все же не исчерпывающим вопрос о собственно формальной (и, соответственно, драматургической, театральной) специфике творчества А.Н. Островского, которая представляется ещё более сложной, чем это показывает А.И. Журавлева.
В этом плане изучение традиций театральной драматургии 30-40-х гг. XIX века в творчестве А.Н. Островского представляется чрезвычайно интересным, так как автор, постоянно экспериментируя в области драматической формы, безусловно продолжал предшествующую эпоху экспериментов и, очевидно, использовал её достижения, потому что писал почти для той же публики. Может быть, это позволит по-новому взглянуть на драматургическую систему А.Н. Островского, по крайней мере, с формальной стороны, что, в свою очередь, неизбежно послужит поводом задуматься и о ценностно-содержательных её сторонах.
В самом конце жизненного и творческого пути (в 1885 г.) А.Н. Островский писал А.А. Потехину: «В деле науки и искусства, где есть непреложные основы, где есть последовательное преемство добытых истин, составляющих постепенные завоевания ума человеческого, игнорировать основы и всю сумму приобретений, добытых исследованием и опытом и доходить до всего собственным умом, есть самодурство, которое и в домашней-то жизни неприглядно, а уж в публичном служении никуда не годится»1. Соглашаясь с этим утверждением драматурга, мы считаем, что рассматривать специфику «национального репертуара», им созданного, можно только обращаясь к тем традициям, которые он усваивал и трансформировал в своем творчестве. Во-первых, это традиция европейской классической драмы (комедии, преимущественно) с ее нормативной поэтикой, - во всяком случае, именно такой устойчивой нормой воспринималась «классическая драма французов» русскими писателями; нормой, почти идеальной, но практически недосягаемой. Об этом говорил и сам А.Н.Островский, выражая сложившееся и упрочившееся в русском культурном сознании мнение: «Я очень высоко ценю уменье французов делать пьесы и боюсь оскорбить их тонкий вкус своей ужасной неумелостью»(Х1, 470). Во-вторых, это традиция предшествовавшего периода развития русской драматической литературы (30-40-х годов XIX века), периода «размывания жанровых границ»2, вследствие невозможности вместить в таковые представления о «русской драме». То есть - традиция Н.А.Полевого, который вплоть до «эпохи Островского» был почти единственным создателем «серьезного» оригинального репертуара для русской сцены. Оба эти аспекта нельзя игнорировать, потому что именно в их сложном единстве в сочетании с творческим новаторством большого художника сформировалась зрелая драматургия А.Н.Островского.
Исторические сюжеты А.Н. Островского в контексте ведущих тенденций развития национального репертуара 30-40-х годов XIX века
Продолжая разговор о перекличках А.Н. Островского с предшествующей театрально-драматургической традицией, исследуя в этой связи пьесы с «ощутимой формой», необходимо, наверное, обратиться к историческим пьесам драматурга. Таких пьес, в целом, в творческом наследии автора не очень много, но известно, что А.Н. Островский придавал им большое значение, обращаясь к ним повторно, в разные периоды творчества, отстаивая их ценность в переписке с современниками и публицистических работах. К числу драматических произведений, в основу которых положены исторические сюжеты традиционно относят следующие пьесы: «Козьма Захарьич Минин, Сухорук», драматическая хроника в 5 действиях, с эпилогом, в стихах (1-я редакция 1855-61 гг; 2-я редакция (без эпилога) 1866 г.); «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», драматическая хроника в 2 частях (1866 г.); «Тушино», драматическая хроника в стихах (1866 г.).
Также в этом ряду можно назвать и пьесу «Воевода» (в первой редакции 1865 г. -комедия в 5 действиях, с прологом, в стихах; во второй - 1885 г. - сцены из народной жизни XVII века в 5 действиях, с прологом), - это можно сделать, на наш взгляд, именно принимая во внимание ту концепцию истории (исторического прошлого Отечества), которая складывалась у А.Н. Островского в диалоге с традицией русской исторической драмы предыдущих десятилетий, о чем и будет идти речь ниже.
Говоря об исторической драматургии А.Н. Островского и его предшественников, мы не сможем вести речь только о форме драмы, так как историческое видение - это, прежде всего, концепция, то есть - смысл. Но смысл здесь неизбежно влечет за собой особую форму его презентации, которая, по нашему убеждению, и является, во многом, оригинальной национальной драмой исторического, в данном случае, жанра.
Мы помним, что в известном письме А. А. Григорьеву 1862 года, А.Н. Островский прокомментировал концепцию своей драматической хроники следующим образом: «Козьма Захарьич Минин, Сухорук». «Подняло в это время Россию не земство, а боязнь костела, и Минин видел в земстве не цель, а средство. Он собирал деньги на великое дело, как собирают их на церковное строение... Нашим критикам подавай бунтующую земщину: да что же делать, коли негде взять?...». Этот акцент, поставленный самим автором, вполне логично приводит к необходимости рассмотреть его исторические пьесы в связи со сходными концепциями истории, появлявшимися в более ранней драматической и театральной практике.
Значительная часть II главы данной работы была посвящена выяснению характера и способов воплощения исторических концепций, вьфажающих специфику национального миропонимания, в репертуарной драматургии 1830-1840-х годов, условно называемой «официально-патриотической». Нами было показано, как наиболее яркие драматурги этого периода и направления - Н.В. Кукольник, Н.А. Полевой и некоторые другие - пользовавшиеся значительным успехом у публики, реализовывая в своих драматических произведениях на исторические темы известную идейную триаду «православие - самодержавие - народность», тем не менее не были только декларативны и внехудожественны. На самом деле их пьесы представляют собой интересный механизм, создающий драматическое произведение, не только органичное «для себя самого», но и отвечающее, очевидно, актуальным запросам национальной публики.
Напомним, что представление об истории у русских драматических писателей 30-40-х годов XIX века было своеобразным. Во-первых, это почти исключительно прошлое Отечества, причем не очень давнее (XVII, XVIII века), позволяющее зрителям без труда соотнести себя с персонажами действия; во-вторых, в отличие, например, от французов, которые могли видеть в истории цепь «частных» событий с участием исторических лиц и в этом находить драматический интерес, русские авторы, в большинстве своём, относились к историческому прошлому как безусловно героическому и возвышенному (даже Смутное время являлось поводом для героизации), во всяком случае, именно такие произведения имели сценический успех.
Но и в этой героизации прошлого было своеобразие: вопреки европейской романтической литературной традиции, героизировавшей, как правило, масштабную личность на историческом фоне, в нашей исторической драматургии складывается иное представление о «героической личности», в качестве которой предстает «частное» лицо, иногда более или менее известное, иногда не известное совсем, а иногда просто созданное фантазией художника. Вообще, этот приоритет «частного», то есть «массового», перед личностно-героическим в общественно-значимые моменты, очень важная, своего рода «ментальная» характеристика русской драмы. Русская историческая драма этой эпохи имела тенденцию вообще отказаться от героической личности, от доминанты, превращая действие в ряд разрозненных сцен и помещая логику их связи в иную, не драматическую сферу.
Мы видели, что в ряде случаев (и у Н.В. Кукольника и у Н.А. Полевого) реальная драматургия располагается далеко за пределами локальных событий образующих фабулу пьесы (неважно, имевшую место в истории или вымышленную) реального текста и заключается, должно быть, в вечном самообретении того самого «национального духа», о котором так много говорили в первой половине XIX века. Это самообретение, «самовыстраивание» и т.д., очевидно, не просто, внутренне конфликтно и требует предельной концентрации и самоограничения, что наиболее ярко проявляется в моменты общенациональной опасности или угрозы. Именно эту черту национального мироощущения авторы пытались превратить это в драму, выполненную по законам традиционной внешней драматической техники, что было, во всяком случае, очень сложно.
Существенными чертами новой драматической формы можно считать, на наш взгляд, отказ от романтической, «индивидуалистической» нагрузки на образ главного героя, сознательное низведение героя до уровня «массы», наделение его функциями выражения именно «массового сознания»; использование мотива «чуда», исходно мелодраматического, но в данном случае, принимающего значение «высшего закона истории», причем, закона религиозного («провидения»); насыщение речи персонажей (пусть монологической) обращениями и отсылками к данному «надсюжетному»
182 содержательному плану, который и является главной характеристикой мыслимого автором «драматического события». Наверное, это можно назвать «поэтикой чуда», реализованной в драматической форме и, в целом, убедительно. Некоторая «фантастичность», неотъемлемая черта такой поэтики, может иметь и романтическое происхождение, но, на наш взгляд, не в меньшей степени коренится и в национальном, возможно, религиозном, мировосприятии, а также находит опору и в мелодраматических предпочтениях публики - современника пьесы.