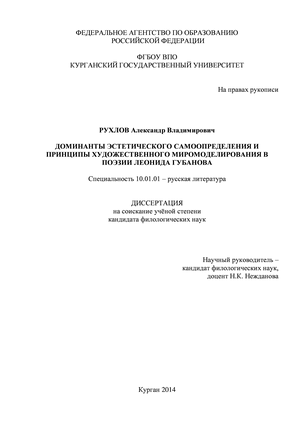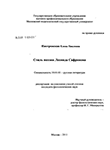Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Доминанты эстетического самоопределения лирического героя Леонида Губанова 10
1.1. Формирование автобиографического мифа в контексте русской культурной традиции 11
1.2. Система текстовой самономинации 31
1.3. Концептуальные оппозиции в системе авторского самоопределения 36
1.4. Диалог с русской историей как доминанта эстетического самоопределения 46
Глава 2. Принципы художественного миромоделирования 61
2.1. Мотив раздвоенного бытия .61
2.2. Цикличность времени как принцип эволюции хронотопа .89
2.3. Структурные характеристики пространства 109
2.4. Метафоризация как способ формирования художественного мира 133
2.5. Особенности национального мира в лирике Леонида Губанова . 149
Заключение 176
Список литературы 182
- Система текстовой самономинации
- Диалог с русской историей как доминанта эстетического самоопределения
- Структурные характеристики пространства
- Особенности национального мира в лирике Леонида Губанова .
Система текстовой самономинации
Вслед за Д. М. Магомедовой под автобиографическим мифом мы понимаем «исходную сюжетную модель, получившую в сознании автора онтологический статус, рассматриваемую им как схема собственной судьбы и постоянно соотносимую со всеми событиями его жизни, а также получающую многообразные трансформации в его художественном творчестве».
Как пишет Ю. Доманский, «в русской культуре широкое распространение получила идея о том, что жизнь можно моделировать по законам художественного произведения. … Идея биографического мифа как доминанты и творчества, и жизни формируется в русской культуре, начиная с Пушкина» [61, с. 3]. То есть творец, поэт воспринимает жизнь с эстетической точки зрения, ориентируясь на систему известных культурных кодов, куда входят биографии великих людей, определённые культурные и идеологические нормы, идейно-эстетические установки и т.д. При этом «культурные коды не только отбирают релевантные факты из всей массы жизненных поступков, но и становятся программой будущего поведения, активно приближая его к идеальной норме» [120, с. 810]. Таким образом, происходит эстетизация жизни и судьбы поэта, то есть некоторые факты собственной биографии расцениваются им как следование заранее установленным внутренним культурно-эстетическим нормам. Именно эстетическая заданность может становиться внутренней мотивировкой того или иного поступка. Естественно, что всё это находит своё отражение в творчестве, закрепляется в нём. Особенно тесное слияние художественного и биографического контекстов характерно для лирики с её исповедальностью и авторским самораскрытием. Здесь личный повествователь наиболее близок к автору реальному, биографическому. Художественное творчество становится основой для эстетизации жизни и судьбы поэта. Однако нужно заметить, что не только художник является творцом собственной мифологизированной биографии. В немалой степени на неё влияют его биографы, под которыми следует в данном случае понимать читателя в широком смысле слова. Читатель своеобразно интерпретирует творчество художника, сведения о его жизненном пути, созданный автором автобиографический миф. Из всех этих компонентов и формируется биографический миф, который шире автобиографического и учитывает не только эстетическое претворение судьбы поэта, но и читательскую рефлексию по поводу его творческой и биографической судьбы, формирование в читательском сознании определённого набора мифологем, неотделимых от образа творца.
Данный набор, сложившийся впоследствии в мифологизированный образ Поэта, стал формироваться в русской литературе уже в XVIII столетии. Русское словесное искусство стало правопреемником церковной литературной традиции, которая заключала в себе установки на связь с трансцендентными, высшими силами, причастность к сакральному. После петровской секуляризации культурной и общественной жизни функции тезауруса высшего знания перешли к светской литературе, а носителем этого знания стал художник слова.
Дополнительный набор мифологем закрепился за образом Поэта в конце первой половины XIX века. После смерти Пушкина и Лермонтова гениальный поэт приобрёл статус мученика, непременными атрибутами которого в сознании читателя стали ярко выраженная индивидуальность, ранняя трагическая кончина и определённая маргинальность положения, социальная неустроенность, одиночество.
Заведомо трагический статус русского поэта был подкреплён в XX веке. Эстетическая позиция поэтов серебряного века, а также обстоятельства ухода из жизни таких общепризнанных классиков как Есенин и Маяковский окончательно закрепили в русской культурной традиции мифологизированный образ поэта-мученика, одинокого героя, который находится в постоянном поиске самого себя, непреодолимом конфликте с миром, не может разорвать замкнутый круг неразрешимых противоречий, непременным результатом чего становится трагическая смерть в молодом возрасте.
В биографии самого Леонида Губанова можно найти множество предпосылок формирования автобиографического мифа как доминанты эстетического самоопределения
Губанов вошёл в русскую литературу в 1964 году. В журнале «Юность» при активном содействии Евгения Евтушенко, входившего тогда в редколлегию, было впервые напечатано стихотворение начинающего поэта под заглавием «Художник». Это был редакторский монтаж двух отрывков из поэмы «Полина», двенадцать строк, которые были сочтены более или менее проходными для цензуры того времени. Однако публикация вызвала не только достаточно широкий общественный резонанс, но и скандал в печати, так как для официальной советской идеологии, официального искусства громкие заявления поэта: «Да! Мазать мир! Да! Кровью вен! Забыв измены, сны, обеты» [3; 68], – звучали слишком эпатажно, вызывая злую иронию критики: «Один из дебютантов написал стихотворение «Художник», в котором запальчиво декларирует желание «мазать мир», да ещё «кровью вен» [96, с.6]. Последовал ряд фельетонов, в том числе и в журнале «Крокодил» [5] – главном сатирическом рупоре того времени. Мнения прессы варьировались от усмотрения в стихах «подражательных интонаций, книжных реминисценций и условных красивостей» [149, с. 3] до резких обвинений поэта в создании стихов «с опустошённым, бездушным «я» [132, с. 109]. Молодому поэту льстило внимание властей, которое вызывало к нему дополнительный интерес со стороны литературных и окололитературных кругов Москвы шестидесятых. Однако это внимание привело к тому, что публикация в «Юности» стала для Губанова последней официальной прижизненной публикацией на родине. Власть навсегда закрыла для поэта путь к читателю.
Диалог с русской историей как доминанта эстетического самоопределения
Эта самономинация дополняет мифологему непризнанности гения сегодня, но непременной его славы в будущем, после смерти, утверждает некоторую эфемерность, незначительность существования поэта сейчас и развивает концепцию будущего как поля самоидентификации; в) собственно маргинал, оборванец, люмпен, существующий на окраине: «…Я наг и гол, я – нищий, нищий…», [4, с. 271] «Жить так, оборванным Гаврошем» [1; 101], «Я – та окраина, где вы…» [4, с. 41–42], «… а я нечёсан, грязен, бос, / и в доску пьяные берёзы / попросят пару папирос» [4, с. 369]. Данная самономинация подчёркивает маргинальный статус поэта, его андеграундное положение и противопоставленность обществу; г) поэт, непризнанный гений, добровольный затворник во имя творчества – самономинация, подкрепляющая мифологему поэзии как сакрального знания и поэта как носителя этого знания: «Обрасту, как монах, и умру в Ленинграде» [4, с. 107], «я буду жить и жить, как тот нищий мастер, / к которому стихи приходят в гости!» [4, с. 305], «…что умер я без имени и отчества, / но умер я, как тайный посвящённый» [4, с. 308], «Я – сегодня самый пропащий бурлак, / Самый нищий бурлак сатанинской чернильницы» [4, с. 47]. На последнюю цитату следует обратить особое внимание. В данном случае можно говорить об определении онтологического статуса поэзии в лирике Губанова. Поэт размышляет над природой творчества, самоидентифицируется в творческой парадигме, воспринимая при этом поэзию как тяжкий и трагический труд, тяжёлую работу, сравнимую с трудом бурлака: «…И в лямку… трелью соловья / тяну баржу стихотворенья» [4, с. 132], «И буду я работать, пока горб / не наживу да и не почернею. / И буду я работать, пока горд, / что ничего на свете не имею» [4, с. 188].
Антимаргинальная (демаргинализующая) самономинация отражает попытки преодоления маргинальности Губановым, попытки поэта закрепить за собой статус гения через самоидентификационную координату творчества: «… Берёзки милые, не раб я, / я царь, я царь, я царь, я – царь» [4, с. 370], «…на корабле клеймо «Поэт», / на океане штамп «Великий»» [4, с. 272]. Подчёркивая свою гениальность, Губанов признаёт за собой право возвыситься над общепринятыми ценностями, встать выше общества, при этом не всегда противопоставляя ему себя, но предъявляя претензии на духовное лидерство: «Я – патриарх…» [4, с. 106], «Я – корона… я – звезда…» [4, с. 19], «Освещаю, да не падаю, / Украшаю, да не думаю, / Всеми правдами-неправдами / Я – звезда с вишнёвой дудкою [4, с. 56]. Однако общество чаще всего не хочет верить в гениальность поэта-маргинала и отказывается принимать его в качестве духовного лидера: «Только ли гений, скорее глашатай… / …Очень мне жалко, не я ваш вожатый…» [4, с. 120].
Мы»-номинация, посредством которой поэт провозглашает себя частью поколения, вводит себя в исторический и общекультурный контекст, самопровозглашаясь одновременно как носитель русской культурно поэтической традиции и как один из представителей своего поколения: «Мы – бояре, мы сгорели» [4, с. 93], «Мы – дети игральной кости / С ресницами вещего персика» [4, с. 97], «Мы, словно вишни, пойдём, / Лакомить вас не устанем…», «О, Муза! Полевые мы цветы, / кто пьёт нас, тому сладко, сладко, сладко…» [4, с. 100], «Мы – дети без надежд, / о, Господи, на зов / калитки нам нарежь / и подари засов. /…Мы – те ещё грибы, / которых не собрать» [4, с. 320–321]. Номинация «мы» связана с мировоззренческой традицией «шестидестяников» и содержит подчёркнутую установку на причисление себя к определённой группе людей, объединённых общностью нравственных, эстетических и онтологических ориентиров. Данная разновидность самономинации отражает размышления Губанова над сложностью взаимоотношений поэтов со страной, читателем, властью, что вполне объяснимо не только в ракурсе биографического контекста (вспомним о судьбе СМОГа и смогистов), но и в свете парадигмы биографического мифа о поэтах-мучениках, искусственно отчуждённых от общества. 5) Поливариантная самономинация, фиксирующая «непохожесть автоперсонажа на других» [131, с. 43]: «Я – Август гордого пера» [4, с. 302], «…я – золотая ваша осень» [4, с. 377], «Я – проданная плоть Аляски, / я – золотой подшипник сказки / и бабье лето сорванца» [4, с. 223], «Я я я – проводник завещания. / Я я я – четыре морщины перешли на сапог палача. /Я я я – провинция, в которую привезли атомную бомбу» [4, с. 193], «Я – Мелихово в лопухах, / Я шалый шёпот табака, / И тишина на барабане, / И вороньё над головой» [4, с. 44]. Губанов, таким образом, обозначает специфичность и оригинальность поэтического сознания, специфику творческой деятельности.
К поливариантной тесно примыкает игровая самономинация, рождаемая исключительно на основе языковой игры: «Я хирею, как хорал…» [4, с. 44], «Я соболь – соболезную» [4, с. 87]. Характерно, что одно из стихотворений, где встречается данная разновидность самономинации, носит соответствующее название – «Игровое»: «Я – чек на ваш череп… / я – челюсть качелей, я – чары овчарок. / Я – чёрный чеканщик черешен и чана» [4, с. 292].
Таким образом, мы рассмотрели основные самообозначения поэтической фигуры Леонида Губанова в его стихотворных текстах, выявили функциональную природу самономинации, её самоидентификационную и мифотворческую составляющие. Широкий разброс самоопределений героя фиксирует амбивалентную природу авторского сознания и поиски автором путей преодоления данной амбивалентности.
Структурные характеристики пространства
«Мир произведения – это воссозданная в нем посредством речи и при участии вымысла предметность. Он включает в себя не только материальные данности, но и психику, сознание человека, его самого как душевно-телесное единство. Мир произведения составляет реальность как «вещную», так и личностную» [184, с. 305]. Понятия «модель мира», «картина мира», «картина бытия», «художественный мир» мы рассматриваем в нашей работе как полные синонимы, отражающие одну и ту же фундаментальную литературоведческую категорию и основополагающее свойство литературы – воспроизводить творчески переосмысленную в сознании автора действительность в рамках художественного произведения.
Картина бытия в лирике Леонида Губанова представляет собой многоуровневую структуру, в центре которой находится лирическое «Я» поэта. Художественный мир Губанова включает в себя несколько основных составляющих: Бог (сакральное), вообще трансцендентное; общество (читатель, страна); творчество; смерть. Связующим звеном между этими составляющими и организующим центром поэтической картины мира становится специфический пространственно-временной континуум. Также к основополагающим принципам моделирования мира в лирике относятся особенности губановской образной системы. При этом лирический мир строится на основе национальной доминанты русского образа мира. Составляющие картины бытия соотносятся с соответствующими тематическими группами и мотивными комплексами губановской поэзии.
Одним из ключевых принципов миромоделирования в поэзии Леонида Губанова является мотив раздвоенного бытия. Основой для формирования данной фундаментальной характеристики модели мира служат уже упомянутые нами факты биографии поэта: непечатность в сочетании с высокой поэтической плодотворностью, пребывание в стенах клиник для душевнобольных и одновременное осознание собственной гениальности и др. Эти факторы породили основополагающую особенность художественного сознания Губанова – амбивалентность.
Исходя из довольно многочисленных, но, в целом, не противоречащих друг другу определений, существующих в науке, мы будем понимать термин «амбивалентность», введённый «в научный оборот швейцарским психиатром Э. Блейлером (1857–1939)» [114] как двойственность чувственного восприятия, одновременное существование в сознании личности противоположных, взаимоисключающих эмоциональных установок, когда один и тот же объект может вызывать у человека противоположные чувства.
Исследователи, начиная с Блейлера, обычно выделяют несколько основных типов амбивалентности: 1) интеллектуальная амбивалентность (предполагающая сосуществование в сознании взаимоисключающих идей, мыслей, которые наслаиваются друг на друга); 2) эмоциональная амбивалентность («позитивное и одновременно негативное чувство» [122] по отношению к одному и тому же объекту или человеку); 3) волевая амбивалентность (которая выражается «в бесконечных колебаниях между противоположными решениями» [122], вариантами действия, вплоть до полного отказа от каких либо решений или действий).
Мотив раздвоенного бытия строится на амбивалентности авторского сознания, проявляющейся на интеллектуальном, эмоциональном и волевом уровнях. Амбивалентное сознание поэта, обусловленное фактами биографии Леонида Губанова, моделирует антиномичную поэтическую картину мира и делает закономерным появление мотива раздвоенности бытия в лирике. «Об амбивалентности генеральных категорий художественного мира Губанова» [108, с. 1563] упоминает в своей статье Александр Кузнецов, отмечая, что «на каждый тезис у него можно найти антитезис, на каждую мысль есть контрмысль» [108, с. 1563]. Исследователь иллюстрирует свой тезис на примере соотношения категорий Смерти и Бессмертия в губановской лирике. Мы рассмотрим иные формы проявления амбивалентного сознания в поэзии Леонида Губанова, понимая амбивалентность как мировоззренческий фундамент модели мира в лирике поэта.
Концептуальным центром мировосприятия в лирике Губанова становится своеобразная концепция божественного и вообще трансцендентного. Сложные взаимоотношения с миром привели биографического автора к крушению аксиологической составляющей бытия и, следовательно, к пересмотру старых и поиску новых ценностных ориентиров. Таким образом, произошло смещение в сознании поэта границ сакрального. В связи с этим образы Бога и Дьявола, Рая и Ада, светлого и тёмного настолько тесно переплетаются, что порой образуют неделимый антиномичный образ Трансцендентного, составляющие которого противопоставлены и даже взаимно исключают друг друга. «В его текстах достаточно распространена оппозиция «Бог (Христос) – Сатана (Антихрист)». Но в большинстве случаев выбор делается в пользу светлого начала», – отмечает А.А. Журбин [76, с. 90]. Также характерной чертой поэтики Губанова является смешение с сакральным началом сниженных, сугубо «земных», бытовых и даже грубых, вульгарных образов. Антиномичность образа Трансцендентного проявляется на всех трёх уровнях и влияет на аспекты самономинации и самоидентификации поэта.
Особенности национального мира в лирике Леонида Губанова .
Не названная напрямую тема двойничества возникает в стихотворении «Стою у изголовья слова…»: «Стою у собственного из- / головья, ни луны, ни месяца. / Жив! Вот ещё один сюрприз, чтобы до завтра не повеситься!...» [4, с. 306]. Раздвоение лирического «Я» становится способом саморефлексии, которая даёт возможность осознать раздвоенность бытия и попытаться её преодолеть. Также двойничество выступает как способ решения проблемы выбора – преодоления (пусть и кратковременного) волевой амбивалентности по отношению к смерти и способа ухода в иное бытие. Лирический герой отказывается от самоубийства, однако этот отказ становится для него самого сюрпризом, а решение оказывается принятым только после осознания раздвоения собственного «Я», которое происходит в некоем условном, иллюзорном пространстве («ни луны, ни месяца»), где отсутствуют привычные ориентиры. Таким образом, раздвоенность бытия оказывает одновременное влияние и на трансформации субъектного уровня, и на принципиальные особенности пространственной организации текстов Губанова.
В этом смысле особенно интересны специфические формы образной репрезентации двойничества в лирике Леонида Губанова. К таковым, например, можно отнести образ души, которая в силу своей метафизической, ирреальной сущности выступает в качестве проводника в иные миры: «Ах, чтобы написать вам смысл земли, / мне не хватает лишь двенадцать точек / тех звёзд блаженных, где душа моя / студит виски и с неподдельной грустью / к последней церкви шлёт, боготворя, / слёз неземных земное захолустье» [4, с. 223]. Душа существует отдельно от авторского «Я», в ином пространстве, которое также не связано с какой-либо координатной системой в обычном понимании. Обращение к образу души позволяет сознанию поэта существовать одновременно в двух пространствах – земном и небесном, то есть формировать систему координат своего художественного мира и одновременно решать глубинные онтологические задачи, к коим относится, например, поиск Бога, выстраивание диалога с высшими силами, обозначение своего места в мире. Решению этих задач способствует диалог с самим собой в лице двойника, формальным воплощением которого становится образ души: «О, как тебя теперь зовут / Моя сбежавшая душа?» [4, с. 28]. Гармонизация бытия, однако, далеко не всегда возможна, и в этом случае мотив двойничества лишь усиливает и подчёркивает противоречия бытия автора: «Кружит, кашляет душа / и хватает шляпу даже…» [4, с. 49]. Душа уже по изначальному определению является двойником, формой иного существования человеческого сознания, а функции этого образа и особенности их воплощения в лирике Леонида Губанова (например, взгляд на собственную душу со стороны) позволяют говорить об образе души как об одной из возможных ипостасей авторского двойника.
То же самое мы можем сказать и об образе тени. Понимание тени и души человека как некоего неделимого единства восходит к древнейшему мифологическому сознанию. Об этом, в частности, в своей знаменитой «Золотой ветви» свидетельствует Дж. Фрэзер: «Одни народы верят, что душа человека пребывает в его тени, другие считают, что она пребывает в его отражении в воде или зеркале» [182, с. 207]. Мифологическое восприятие образа тени унаследовала литературная традиция. В лирике Губанова данный образ, следуя сложившейся традиции, выступает в качестве авторского двойника, но получает специфическую интерпретацию в контексте губановского автобиографического мифа. Тень чаще всего рассматривается поэтом как проводник в вечность, как проекция лирического «Я» в культурной парадигме: «Но зевает чья-то тень, / и за пазухой её / нашей славы лютый день / и кровавое бельё» [4. с. 178]; «За Мандельштамом на коляске – / моя троюродная тень» [4. с. 221]; «Мне бы любоваться на свою тень / и носить цветы к своему памятнику» [4. с. 289]. Тень, отделяясь от лирического «Я», указывает на амбивалентность авторского сознания и раздвоенность картины бытия в лирике. Двойничество способствует не только противопоставлению мира на основании пространственно-временных оппозиций «здесь» – «там», «сейчас» – «потом». Образ тени помогает Губанову обозначить свой социальный статус, так как возникновение данного образа подчёркивает маргинальность лирического героя, его стёртость в социальной реальности, указывает на принципиальную несоотносимость лирического «Я» Губанова с обыденным миром: «Я с тобой ночь и день – / как синяк, как ретушь, – / получилась тень» [4, с. 179].
Характерной в контексте мотива раздвоенного бытия формой репрезентации авторского сознания является маска. Современные исследования данного феномена отмечают, что «в формах литературно-художественного творчества «маска» получает разнообразные интерпретации» [32, с. 5], указывают на «многообразие форм художественных проявлений маски и масочности как приема в искусстве» [137], предлагают различные классификации образа. В частности, Е.Ю. Мартьянов предлагает делить маски на две основные группы на основании следующего существенного признака: «Маски могут носить имя и быть безымянными» [133]. При этом исследователь подчёркивает следующую особенность: «В случае безымянной маски автор создаёт определённый социальный тип героя ролевой лирики, который стандартизирован в человеческом сознании» [133]. Среди данных типов Мартьянов выделяет «следующие распространённые маски: раб, страж, инок, рыцарь, послушник, косарь, пахарь, удалец, пьяница, огородник, странник» [133]. Среди форм репрезентации авторского «Я» в лирике Леонида Губанова одним из наиболее распространённых «социальных типов» является маска пастуха: «Разворован куст смородины, /