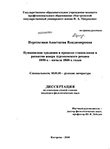Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Антиутопизм как культурно-историческое явление 13
1.1. Архетипическая модель утопии 13
1.2. Антиутопия как антижанр 22
1.3. Антиутопия и сатира 25
1.4. Антиутопические мотивы в творчестве Ф.М.Достоевского, их перекличка с идейным пафосом романа Е.И.Замятина «Мы» 37
1.5. Историцизм и утопизм 64
Глава II. Роман Е.И.Замятина «Мы» как первая классическая антиутопия 78
2.1. Литературные учителя Замятина 78
2.2. Замятин - неореалист 82
2.3. Роман «Мы» и послеоктябрьская российская действительность 94
2.4. Особенности антиутопизма и антирационализма Замятина 106
2.5. «Мы» в сопоставлении с классикой утопического жанра 112
2.6. «Антихристианство» «Мефи» и культ Благодетеля 127
2.7. Язык и знаковая символика антиутопии Замятина 135
Заключение 145
Литература 159
- Архетипическая модель утопии
- Антиутопия как антижанр
- Литературные учителя Замятина
- Замятин - неореалист
Введение к работе
XX век - век широкого распространения антиутопии. «Новой трилогией», образующей контрапункт с группой классических позитивных утопий, назвал Эрих Фромм романы «Мы» Евгения Замятина, «Прекрасный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. В этом списке антиутопистов-классиков Замятин не случайно занимает первое место. Его роман был написан в 1920 году, намного раньше других антиутопий, получивших впоследствии широкую известность, и своим появлением установил определенные каноны жанра. «Он породил целую мощную традицию, - пишет Олег Михайлов, - представление о которой дает простое перечисление имен и названий... Но главное для нас, что Замятин был первым» [52, 20 ]. Среди антиутопистов, творивших после Замятина, помимо уже упоминавшихся, можно выделить Владимира Набокова («Приглашение на казнь»), Рэя Брэдбери («451 по Фаренгейту»), Курта Воннегута («Утопия-14»), Энтони Берджеса («1985»), Владимира Войновича («Москва-2042»), Все они в большей или меньшей степени развивают те или иные мотивы замятинского романа.
Гораздо менее, чем о последователях Замятина в жанре антиутопии, прояснен вопрос о его предшественниках. С XX веком связывается только расцвет литературной антиутопии, но не ее появление. По замечанию философа Э.Я.Баталова, на фоне полного единодушия относительно классиков антиутопии - вопрос о ее первородстве остается открытым: «Историки литературы до сих пор не могут окончательно решить, когда именно появилась первая литературная антиутопия и кто из писателей был первым антиутопистом» [ 10, 274 ]. Не менее важен и вопрос о зарождении антиутопизма как явления: «Сама идея антиутопии значительно старше, - считает философ, - и я не уверен, рискнет ли кто-нибудь сейчас сказать, кто был первым ее выразителем» [ 10, 267 ]. Ситуация, когда писатель, не будучи родоначальником антиутопического жанра, в силу каких-то причин становится его первым классиком.
анализируется в настоящей работе. Делается попытка рассмотрения
романа «Мы» в русле единой многовековой утопической традиции,
включающей как позитивную, так и негативную утопию, целостного и
всестороннего подхода к истокам замятинского антиутопизма. В этом
состоит отличие данной работы от тех современных критических статей,
в которых анализ романа также не замыкается на тексте, но произведение
вводится в иной историко-литературный контекст, где «Мы» является
точкой отсчета, а не этапом большого пути. Роман Замятина в
сопоставлении с соответствующими произведениями западной
литературы рассматривается А.Зверевым, П.Палиевским,
В.Недошивиным, Э.Баталовым, Е.Панаско, В.Евсюковым. О таком контексте М.Павлова-Сильванская пишет: «В аккорде Замятин-Хаксли-Оруэлл особенно мощно и грозно прозвучали мотивы тоталитаризма и технократической угрозы. Они несколько приглушили собственные неповторимые темы Замятина, которые и сегодня для нас, соотечественников писателя, не менее важны, чем в 20-е гг.» [116, 260 ].
Внимание современной критики сосредотачивается, в основном, на непосредственных истоках антиутопии Замятина: его полемике с футуризмом и пролеткультом (Л.Долгополов, И.Доронченков), некоторых чертах российской послеоктябрьской действительности, давших пищу для романа «Мы» (В.Лакшин), пребывании Замятина в поразившей его и изменившей его творческий почерк Англии (О.Михайлов, И.Шайтанов, Т.Давыдова). Значительно меньше внимания уделяется тому обстоятельству, что русский писатель строит свое общество по образцу, задуманному классиками утопической мысли, доводит до логического завершения принципы, лежащие в основании устройства наиболее известных государств, спроектированных утопистами. На то, что спор с пролеткультом на самом деле является лишь частным проявлением полемики глобального масштаба с давным-давно зародившимися идеями, пунктирно указывают в своих работах М.Павлова-Сильванская,
Э.Баталов, В.Чаликова. Так же, не очень подробно останавливаясь на
этом вопросе, исследователи отмечают смысловую перекличку романа
«Мы» с общим идейным пафосом творчества Ф.М.Достоевского,
подготовившего почву для появления русской литературной антиутопии
(О.Михайлов, Э.Баталов, В.Туниманов, американец Г.Морсон). Этим
объясняется актуальность и научная новизна настоящей работы: от
анализа отдельных проблем, связанных с появлением у Евгения Замятина
замысла романа-антиутопии и его реализацией, совершается переход к
обоснованию цельной концепции формирования антиутопической
жанровой системы и определению места, занимаемого в ней романом
«Мы»; исследуются предпосылки появления и широкого распространения
антиутопических произведений, а также мировоззренческие особенности,
присущие их создателям, обуславливающие возможность обращения к
жанру антиутопии.
Цель работы: выяснить, насколько правомерно говорить о наличии антиутопических традиций в русской и мировой литературе до появления романа «Мы», определить, почему именно его появление ознаменовало собой новый этап в развитии антиутопизма, а его автор был признан первым классиком жанра; найти не непосредственные, а глубинные истоки замятинского антиутопизма.
Задачи: исследовать феномен утопического сознания как фактора,
порождающего в конечном счете позитивную утопию, опирающуюся на
идею государственности; разграничить такие понятия, как «утопия» и
«тоталитаризм», при этом продемонстрировать, что пересечение их в
итоге неизбежно; дать свой ответ на вопросы о появлении антиутопизма
как явления и о месте и времени рождения первой литературной
антиутопии; рассмотреть качественно новый вид антиутопизма,
реализовавшийся в творчестве Ф.М.Достоевского, показать
преемственность между идеями, заложенными в роман «Мы» и общим пафосом творчества Достоевского; ввести понятие метажанра,
соединяющего воедино утопию и антиутопию, и рассмотреть «Сон смешного человека» как модель метаутопии; разграничить сатиру и антиутопию; подчеркнуть существенные особенности антирационализма Е.И.Замятина и понимания им «утопического»; выяснить, в какой мере творческая манера Замятина толкнула его на создание антиутопии; показать сложную структуру замятинского антиутопизма, вырастающего из неприятия писателем состояния энтропии; продемонстрировать несовместимость классического антиутопизма с верой в окончание исторического процесса и в наличие цели мирового развития; философски обосновать приемлемость антиутопизма как мировоззрения и несовместимость утопизма и истинного гуманизма.
Подходом, при котором произведение, являющееся нитью, связывающей в единое целое отдельные части работы, вводится в широкий историко-литературный контекст, обусловлена методология исследования: сочетание историко-литературного и структурно-типологического принципов анализа.
Практическое значение: результаты диссертации могут быть использованы при составлении вузовского лекционного курса истории русской литературы 2-ой половины XIX века и XX века, спецкурсов и спецсеминаров по творчеству Ф.М.Достоевского и Е.И.Замятина, а также по истории русской и мировой утопической (как негативной, так и позитивной) традиции.
Отправной точкой предлагаемого исследования является проблема жанра. Что следует считать утопией и почему против нее в определенный момент вдруг приходится бунтовать? Почему в массовом сознании утопизм ассоциируется с маниловщиной? По каким причинам утопия и регламентированное бытие становятся почти синонимами? Что вызывает к жизни ориентацию одного человека или группы людей в своем мышлении и поведении на факторы, которые в реальном, современном им
бытии не содержатся? Для ответа на эти вопросы и объяснения феномена
утопического сознания, то есть такого, которое не находится в
соответствии с окружающим его бытием, необходимо ввести такую
категорию, как «счастье», более относящуюся к ведению этики и
психологии, нежели литературоведения. Стремление к обретению счастья
есть неотъемлемое свойство человеческой натуры. Аристотель, рассуждая
о том, что такое «высшее благо», пришел к следующему выводу, при
наличии у человека нескольких целей искомым благом будет самая
совершенная из них: «Цель, которую преследуют саму по себе, мы
считаем более совершенной, чем та, к которой стремятся как к средству
для другого.., а безусловно совершенной называем цель, избираемую
всегда саму по себе и никогда как средство. Принято считать, что прежде
всего такой целью является счастье. Ведь его мы всегда избираем ради
него самого и никогда ради чего-то другого, в то время как почет,
удовольствие, ум и всякая добродетель избираются как ради них самих..,
так и ради счастья, ибо они представляются нам средствами к
достижению счастья. Счастье же никто не избирает ни ради этих благ, ни
ради чего-то другого... Итак, счастье как цель действий - это, очевидно,
нечто совершенное, полное, конечное и самодостаточное» [ 6, 62-63 ].
Для Аристотеля не существует учения о счастье индивида отдельно от
учения о благе государства, поэтому между человеческим счастьем и тем,
как должно строиться человеческое объединение, он устанавливает
тесную связь. На первых страницах «Никомаховой этики» философ прямо
указывает, что вопрос о счастье находится в ведении науки о
государстве: «Надо, видимо, признать, что оно высшее благо относится к
ведению важнейшей науки, т.е. науки, которая главным образом
управляет. А такой представляется наука о государстве, или политика»
[ 6, 55 ]. Декларируя возможность достижения людьми «высшего блага»
(счастья) исключительно при помощи государства, Аристотель развивает
одну из основных мыслей своего учителя - Платона. По Платону,
совершенство человека достигается через истинное знание о сущем и добродетельное поведение; первое постигается при помощи философии, второе - при помощи практического искусства, «выправляющего деяния и направляющего души к счастью» [ 72, 52 ], т.е. политики. Философия и политика в их единстве дают и искомое знание, и искомое поведение. По этой причине должно существовать некое идеальное человеческое объединение, которого нет в действительности, но к которому нужно стремиться в идеале: «Должен возникнуть иной град, не такой как эти (существующие) города. В нем и в подобных ему будет существовать истинная справедливость и только истинное добро» [ 72, 52 ]. Социально-политическая философия Платона являет собой первую по времени из дошедших до нас апологий утопизма, порожденного индивидуальным сознанием. Только такой вид утопизма ведет, на наш взгляд, к созданию целостной утопии, а впоследствии способствует и появлению антиутопии.
За рамками нашего исследования остаются проекты, связанные с народным утопическим сознанием, рождающим предания об идеальном жизнеустройстве. Академик В.П.Волгин, изучавший генезис социально-утопических идей и историю зарождения легенд о «золотом веке», пришел к выводу: «По-видимому, идея некоего блаженного состояния в прошлом возникает в известный момент общественного развития у всех народов. Она явным образом связана с возникновением общественных классов, с первыми шагами общественной дифференциации... Страдания, которые осознаются как результат чего-то нового, вторгшегося в общественную жизнь и разрушающего исконный старый порядок, в первую очередь вызывают идеализацию этого порядка» [ 156, 16 ]. Кроме преданий о «золотом веке» К.В.Чистов в книге «Русские народные социально-утопические легенды» выделяет еще два типа социально-утопических легенд: о «далеких землях» и об «избавителях». В легендах о «далеких землях» социально-утопические идеи проецируются за географические пределы известного мира, а в легендах об «избавителях»
социально-утопический идеал еще не воплощен в действительность, однако сила, которой предназначено реализовать это воплощение -«избавитель» - уже существует.
Все эти проекты мы выносим за рамки утопического жанра. Более всего не соответствуют его канонам легенды об «избавителях», ибо утопия предназначена описывать близкое к идеальному общество, а не рассказывать о той или иной личности, которая только собирается изменить существующий жизненный уклад. Предания о «золотом веке» и рассказы о «далеких землях» рисуют вольную, сытую, благополучную жизнь людей, и все-таки причислены к утопиям быть не могут. Дело в том, что подобные представления имеют не столько социальный, сколько бытовой и экономический характер. Так, «золотой век» рисовался временем изобилия прежде всего потому, что природа была щедрее к человеку. Отсюда - предания о невероятных богатствах земли в прошлом. Такими же в общих чертах предстают в народных социально-утопических легендах и «далекие земли». Они либо являются местом сплошного отдыха, как страна Кокейн, созданная воображением народов Западной Европы, либо «мужицким раем», местом, где отсутствует всякая государственная организация и над равными тружениками никакой власти нет, как широко известное в России Беловодье. «Именно тяжкий труд, - по мнению В.Чаликовой, - с древних времен породил мечту о блаженном безделье, и люди готовы были умереть за эту мечту (и убивать тоже!)» [ 146, 11 ]. Но для нас обязательной применительно к утопии представляется идея государственности, отсутствующая в подобных легендах. По этой причине мы выносим за рамки жанра все, что связано с народным утопическим сознанием, в том числе и восходящие к нему проекты, имеющие конкретных авторов.
Однако, необходимо отметить влияние, которое народное утопическое сознание оказало на проекты известнейших утопистов. Хотя они и являются продуктами теоретического утопического сознания,
относящегося, по словам М.Золотоносова, к систематизированному
знанию, но тем не менее заимствуют либо идею преданий о «золотом
веке», который авторы по своему усмотрению помещают или в
прошлое, или в будущее, либо идею легенд о «далеких землях». Не случайно в утопических проектах идеальное государство зачастую расположено на острове или отделено от окружающего мира искусственно созданной преградой. «Поэтический образ страны благополучия, расположенной на острове, - пишет Чистов, - свойственен фольклору многих народов и генетически восходит, вероятно, к представлениям об острове, на который переселяются души умерших предков, либо первоначально - к представлению о параллельном существовании двух, трех и более миров, которые эпизодически сообщаются друг с другом. В дальнейшем своем развитии представление об острове-другом мире в ряде случаев дает материал для поэтического оформления социально-утопических учений» [ 156, 256 ]. Строить государство по некоему образцу, ничего общего с современным автору жизненным укладом не имеющему, удобнее в изолированном от внешнего мира месте, выключенном из сферы действия дурных социальных закономерностей. В частности, Платон не только обосновал предпочтительность островной модели идеального государства, но и трижды отправлялся на Сицилию к тирану Дионисию в надежде реализовать свои утопические идеи. Все эти поездки были сопряжены с риском для жизни и заканчивались для греческого философа плачевно, тем не менее он все равно пытался воплотить в жизнь свой план переустройства общества именно на острове. Моровский же Утоп, основатель страны Утопии, «распорядился прорыть пятнадцать миль, на протяжении которых страна прилегала к материку, и провел море вокруг земли» [ 144, 78 ], превратив таким образом полуостров в остров.
Расшифровка термина «утопия» существует двоякая: либо «место, которого нет» от греческого «и» - нет и «topos» - место, либо
«совершенное место, страна совершенства» от греческого «ей» -совершенный, лучший и «topos». Если совместить оба эти значения, то получится, что жанр утопии предполагает описание наилучшего места, которого на самом деле не существует. У нас в стране закрепилось понимание утопии как неосуществимого мечтания, чему способствовало следующее определение, данное Лениным: «Утопия в политике есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии, - пожелание, которое не опирается на общественные силы и которое никак не подкрепляется ростом, развитием политических, классовых сил» [ 144, 5 ]. Однако, вряд ли кто-либо из утопистов согласился с тем, что практическая реализация его проекта невозможна. Неосуществимость утопии - вовсе не определяющая ее черта. Проект идеального общества совсем не предполагает недостижимость описываемого государственного устройства.
Обратимся к толкованию, данному понятию «утопизм» русским философом Г.Флоровским: «Под этим именем мы разумеем всякую веру в возможность последних слов, в возможность имманентной исторической удачи, окончательной и предельной, хотя бы и только частичной, но такой, которая не требовала и не допускала дальнейших перемен в лучшую сторону... Безразлично, куда во времени относится действительное осуществление этого беспорочного общественного строя, - в невозвратное прошлое, в отдаленное или уже надвинувшееся будущее, или оно признается уже достигнутым в современности. Решающее значение принадлежит здесь самой формальной вере в осуществимость земного града, в эмпирическую достижимость совершенства в социальном строительстве» [ 148, 25 ]. В соответствии с таким пониманием проблемы мы принимаем за основу следующее определение утопии, данное американским специалистом Л.Сарджентом: «Утопия -это подробное и последовательное описание воображаемого, но локализованного во времени и пространстве общества, построенного на
основе альтернативной социально-исторической гипотезы и организованного - как на уровне институтов, так и человеческих отношений - совершеннее, чем то общество, в котором живет автор» [ 146, 8 ]. Сарджент несколько раздвигает границы жанра, относя к утопии системные описания обществ, не только идеальных с точки зрения их создателей, но еще и близких к идеалу, в том случае, если они кардинально отличаются от обществ, существующих в действительности в момент проектирования утопии. Таким образом, представляется возможность выделения разных видов антиутопизма, в зависимости от объекта, подвергаемого критическому рассмотрению. Объектами полемики могут быть как ориентация на достижение идеала в социальном строительстве, так и попытка создания кардинально отличающегося от современных автору проекта государства, близкого к положительному абсолюту.
Архетипическая модель утопии
В последнее десятилетие широкое распространение получило критическое переосмысление содержания классических утопий. Из наших соотечественников этому уделили внимание, в частности, М.Восленский, Д.Штурман, Р.Гальцева, И.Роднянская, М.Капустин. Основная мысль, роднящая их работы, заключается в том, что известнейшие утопические проекты Платона,Мора,Кампанеллы, Вераса, Фурье рисуют на самом деле не расцвет личности, а подавление ее государственной машиной, поэтому они антигуманны по своей сути. При этом несколько в стороне остается вопрос: а почему, собственно, так происходит? Виноваты во всем конкретные утописты или настолько плоха сама утопическая установка?
Испанский философ Хосе Антонио Маравалль утверждает: «В соответствии со своими истоками и характером создания человеческого разума, утопия стремится к регламентированию, вмешательству»[146, 224]. Э.Я.Баталов объясняет отсутствие в утопиях свободы как возможности выбора между альтернативами следующим образом: «Отсутствие свободы - плата за счастье, за осуществление вековечных ценностей - целей. Отсутствие свободы - гарантия предустановленного счастья. Предлагая в своем проекте «наилучший», как он полагает, способ организации общественной жизни, утопист стремится стабилизировать этот гипотетический статус-кво и поэтому вводит в Утопию такие механизмы, которые обеспечили бы сохранение этих «наилучших» порядков и исключили всякую возможность появления противодействующих сил. Отсюда многочисленные регламентации и предписания, которые превращают утопийцев в рабов своей «наилучшей» и «счастливой» жизни»... [10, 170]
Поиск истоков идеи обретения счастья через ущемление свободы заставляет нас обратиться к «Государству» Платона как первой по времени создания из дошедших до нас утопий, оказавшей к тому же огромное влияние на утопистов нового времени. Историк Льюис Мэмфорд, заново изучив и проинтерпретировав дошедшие до нас свидетельства о жизни Платона, пришел к выводу, что его утопические фантазии были устремлены в прошлое и имели точный географический адрес и исторический прецедент: «Путешествуя по Египту и Месопотамии, Платон набрел на руины древних городов, увидел остатки величественных сооружений, обнаружил папирусы, изображавшие слаженный коллективный труд одинаковых в своей правильности людей. Его воображение, уязвленное хаосом и беспутством окружающей жизни и жаждущее гармонии и порядка, нарисовало себе древнюю живую машину (мощностью до 10 тыс. лошадиных сил), в которой каждый винтик чувствовал себя частью Высшего Порядка. Он увидел мир, отделенный стеной от хаоса, соразмерный и подконтрольный высшим силам. Так возник платоновский город - архетип утопии на все времена» [146, 12].
Мэмфорд не случайно делает акцент на том, что город -единственный подлинный архетип утопии. Г.Гюнтер выделяет две модели, которые именует «утопическим городом» и «утопическим садом», а Баталов пишет о развитии утопической традиции в противоборстве «городской» и «сельской» тенденций. «Если в городской утопии в центре внимания находится общественно-государственный, технико-цивилизаторский аспекты жизни, то утопия-сад отводит это место непринужденной семейной жизни в кругу близких и исконной близости человека к природе. В первом случае мы имеек дело с рационально освоенным пространством, во втором - с гармонией между человеком и его окружением, существующей задолго до первых попыток планирования. Разработка городской модели ведет впоследствии к рационалистической социальной утопии, садовой - к пастушеской поэзии и идиллии» [146, 253-254]. Садовая модель исходит, как и народные социально-утопические легенды, из рассмотрения главным образом нравов и природно-географических особенностей, а не государственных форм, напоминая об античной идее «золотого века» или о Ветхозаветном рае. Если бы мы простую поэтизацию «времен Кроноса» считали принадлежностью рассматриваемого жанра, то отцом утопической литературы со своей идеей регрессивного развития вполне мог быть признан Гесиод. Однако, в силу близости подобных проектов к порождениям народного утопического сознания мы, как и Л.Мэмфорд, не считаем их утопиями. Если представления о «золотом веке» или рае, по мнению Г.Гюнтера, скорее можно отнести к мифологии, то городская модель носит ярко выраженный утопический характер: «Только механизм городской жизни, как своего рода машина, позволяет контролировать и направлять труд больших масс людей, а в итоге упорядочить всю общественную жизнь в соответствии с определенными принципами управления» [10,703] Такова утопия, разработанная Платоном. Именно древнегреческий философ своим проектом указал последующим утопистам определенное направление, по которому им следовало направлять социальные фантазии.
Утопия Платона, как и последующие утопии, слагается из двух основных элементов. Это, во-первых, элемент критический: чтобы представить себе наилучший государственный строй, необходимо уяснить недостатки государств существующих. Во всех отрицательных типах государственного устройства, которым Платон противопоставляет образцовый тип, он усматривает постоянные раздоры, насилие и принуждение, жажду власти ради низких целей, погоню за деньгами. В них главным двигателем поведения людей оказываются материальные заботы и стимулы, «в них заключены два враждебных между собой государства: одно - бедняков, другое - богачей» [121, 114]. Характеризуя истоки утопизма Платона, А.Ф.Лосев писал: «Платон... ясно увидел, что современное ему общество идет к гибели, что совершенно не за что ухватиться ни в общественной, ни в политической жизни, что нужно избрать какой-то свой путь... Поэтому Платону... приходилось использовать ту область человеческого сознания, которая всегда приходит на выручку в моменты великих социальных катастроф.
Антиутопия как антижанр
Историк литературы Труссон об эволюции жанра утопии высказался так: «С конца эллинистического периода жанр утопии обретает узаконенное и самостоятельное существование, он не возник из ничего в XVI столетии, а лишь воспроизвел то, что греческий гений дал миру два тысячелетия назад как в области формы, так и в плане содержания» [146, 102]. Про антиутопию, естественно, ничего подобного сказать невозможно - до нее еще далеко. И все же путь к антиутопизму тоже намечен в Древней Греции. Указал его в процессе полемики с Платоном Аристотель.
Проект Аристотеля, как заметил Клибанов, занял свое место в истории социальных утопий, но особое место: утопия Аристотеля научнее платоновской, она исходит из анализа социальных отношений в современных ему полисах. Если учесть еще и то, что проект Аристотеля представляет собой «контрутопию» по отношению к идеальному городу Платона, то уже можно говорить о критическом подходе к утопизму и переводе его в план социологии как о достаточно серьезном антиутопическом мотиве. Аристотель, пожалуй, первым продемонстрировал, что утопические проекты должны подвергаться тщательному критическому рассмотрению. На примере платоновской утопии он развенчал некоторые базовые посылки, ставшие впоследствии неотъемлемой принадлежностью утопической классики. Ряд критических замечаний высказан Аристотелем по поводу теснейшей сплоченности и унифицированности граждан платоновского государства. «В состав государства, - пишет Аристотель, - не только входят отдельные многочисленные люди, но они еще и различаются между собой по своим качествам, ведь элементы, образующие государство, не могут быть одинаковы. Государство - не то же, что военный союз» [7, 404]. Аристотель подвергает критике стремление Платона ввести в государстве полное единство, не считаясь с реальной природой человека, скептически относится к общности жен и детей, считая, что ничего, кроме неприятностей, перебранок и драк это не принесет: «... все это неизбежно случается, чаще в том случае, когда не знаешь своих близких, чем когда их знаешь». Метко отмечает Аристотель противоестественность такой ситуации, когда собственность все будут считать общей, а не принадлежащей каждому в отдельности: «К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается наименьшая забота. Люди заботятся всего более о том, что принадлежит лично им, менее заботятся они о том, что является общим, или заботятся в той мере, в какой это касается каждого. Помимо всего прочего люди проявляют небрежность в расчете на заботу со стороны другого» [7,406]. В вопросе о переводе новорожденных из одного сословия в другое Аристотель также усматривает много путаницы, которая неизбежно должна привести к бесчинствам, ссорам и убийствам.
Полностью освободиться от влияния Платона Аристотель все-таки не смог. Несмотря на то, что стремление Платона к полному единению граждан во всех сферах жизни вызывает у него негативную оценку,
Аристотель в «Политике»пишет: «Государство есть общение подобных друг другу людей ради достижения возможно лучшей жизни» [7, 405]. От словосочетания «Подобных друг другу» попахивает насильственным единомыслием и единообразием. В «Никомаховой этике» Аристотель заявляет: «Даже если для одного человека благом является то же самое, что для государства, более важным и более полным представляется все-таки благо государства, достижение его и сохранение. Желанно, разумеется, и благо одного человека, но прекраснее и божественней благо народа и государств» [6, 55], -ставя этим самым общественное благо выше личного, как будто не из совокупности личных благ складывается благо общественное. Подобную ситуацию можно назвать «незащищенностью от утопизма», в нее попадали и более последовательные антиутописты, чем Аристотель. Тем не менее, Аристотель впервые явил миру феномен антиутопического мышления, критически оценив конкретный проект наилучшего государственного устройства.
Американский исследователь Г.Морсон определяет антиутопию как антижанр. «Антижанровые сочинения, - пишет Морсон, - должны пародировать высмеиваемый жанр - не отдельное произведение, а жанр в целом... Я не считаю текст антижанровым, если его автор не имел намерения высмеять саму традицию, в которой написан объект его разоблачений. Например, я не отношу к антиутопии произведения, пародирующие специфическую утопическую программу (типа «Глядя назад») без обращения к утопии как таковой» [146, 234]. С таким определением соглашается В.Чаликова: «Антиутопия - это карикатура на позитивную утопию, произведение, задавшееся целью высмеять и опорочить саму идею совершенства, утопическую установку вообще» [146, 10]. Э.Я.Баталов вводит разграничение понятий «антиутопия» и «негативная утопия»: «Негативная утопия (какотопия, дистопия) - это изображение нежелаемого, больного мира, причем она может выступать в качестве контрутопии, а может и не выступать» [10, 265]. Автор полагает, что если в произведении нет прямой атаки на утопическую установку в целом, то это не антиутопия, и здесь он пересекается с Морсоном и Чаликовой. Антиутопия, по Баталову, - часть негативной утопии, отрицающая саму идею утопии, саму утопическую ориентацию, ставящая под сомнение не отдельные идеи утопистов, а сам дух социального утопизма. «Антиутопия - не просто спор с утопией, -определяет автор, - это ее принципиальное отрицание. Отрицание самой возможности построения совершенного общества (как реализации идеи социального прогресса), а значит, и желательности ориентации на осуществление утопического идеала, который имел бы общезначимый характер» [10, 264]. При такой трактовке термина антиутопий в мировой литературе почти совсем не остается, зато рамки дистопии расширяются чрезвычайно. Отделяя дистопию от антиутопии, Чаликова так оценивает их объективное содержание: антиутопия рисует враждебный личности механизированный рай, дистопия - откровенный ад. Тогда произведения, скорее относящиеся к антиутопии, чем к дистопии, но развенчивающие определенные утопические представления, а не идею достижения совершенства в социальном строительстве в целом, просто зависают в воздухе. Поэтому несколько расширим рамки антиутопии, определив ее так: это произведение, в котором дано системное описание плохого с точки зрения автора общества, стремящееся показать несостоятельность либо утопической установки вообще, либо конкретной утопической установки. Негативная же утопия выступает родовым понятием, объединяющим все подробные описания альтернативных мироустройств со знаком « - ».
Литературные учителя Замятина
Замятин «сознавал себя автором другого жанра, творцом новой модели воображаемого мира» [152, 18] по сравнению с утопическими проектами. При этом ориентировался он не на отечественные, а на зарубежные образцы, в частности на сочинения горячо любимого им Герберта Уэллса.
В статье «Генеалогическое дерево Уэллса» Замятин по сути дела объявляет английского писателя своим непосредственным учителем. Социальная и научная фантастика Уэллса представляется Замятину единым руслом, почти не имеющим аналогов в мировой литературе. Если Уэллс-реалист имеет «много знатной родни», он «только одна из ветвей от мощного ствола Диккенса" [54, 604], то Уэллс-фантаст «с предками связан очень отдаленными родственными узами, и он почти один создал новый литературный жанр», «тут он скорее начинает, чем завершает; тут у него - нет прямых предков и, вероятно, будет много потомков» [54,604]. Замятин развенчивает возможность поиска родственных Уэллсу мотивов в утопической литературе, негативно оценивая как идейный пафос, так и художественный уровень утопических проектов. Фантастика же Уэллса не просто не вписывается в утопические каноны, а противостоит им. «Есть два родовых и неизменных признака утопии, - считает Замятин. -Один - в содержании: авторы утопии дают в них кажущееся им идеальным строение общества, или, если это перевести на язык математический, утопия имеет знак «+». Другой признак, органически вытекающий из содержания, - в форме: утопия - всегда статична, утопия -всегда описание, и она не содержит или почти не содержит в себе -сюжетной динамики» [54, 604-605]. Но к социальной фантастике Уэллса данные положения не применимы, главным образом потому, что в ней вычленяется памфлетное начало: «...в огромном большинстве случаев его социальная фантастика - несомненно со знаком «-», а не «+». Своими социально-фантастическими романами он пользуется почти исключительно для того, чтобы вскрыть дефекты существующего социального строя, а не затем, чтобы создать картину некоего грядущего рая» [54, 605]. Этот критический аспект творчества английского писателя, сплавленный с элементом научной фантастики, вполне можно рассматривать как мотив, близкий к антиутопическому, ибо сатира в определенные моменты, выходя на уровень широких обобщений, сближается с антиутопией. Антиутопизм романов Уэллса Замятин охарактеризовал следующим образом: «Вообще же социально-фантастические романы Уэллса от утопий отличаются настолько же, насколько +А отличается от -А» [54, 605]. Не надо быть математиком, чтоб понять: изменение знака на противоположный превращает позитивную утопию в негативную. «Замороженному благополучию, окаменело-райскому социальному равновесию» [54,607], обуславливающим статичность сюжета утопий и отсутствие в них фабулы, романы Уэллса противопоставляют динамичность и занимательность. В результате Замятин делает вывод, что Уэллс создал новую, оригинальную разновидность литературной формы, и зачисляет себя в разряд тех, кто идет за пионером - Уэллсом. В восприятии Замятина одним из основных составляющих этой формы является внутренняя полемика с утопией, то есть антиутопизм. Но «идиллического типа переход от «Века смятения» к счастливой утопии» [54, 590] Замятиным даже Уэллсу не прощается, поэтому стремление англичанина переустроить человеческую жизнь на разумных основаниях «с целью замены беспорядка порядком» [54, 588] энтузиазма у русского писателя не вызывает. Замятин довольно скептически оценивает проекты, нарисованные Уэллсом в романах «Освобожденный мир» и «Современная утопия», связанные с учреждением единого Всемирного Государства, руководимого духовной аристократией - классом «способных людей». В романах «В дни кометы» и «Люди как боги» Уэллс рисует «эпоху цветения», когда подавляющее большинство населения занято искусством, а Замятин, видя в них «слащавые, розовые краски утопий» [54, 605], называет их наиболее слабыми социально-фантастическими романами Уэллса.
Новая социальная фантастика - то направление, в русле которого видел Замятин свой роман, и традиции которого были заложены Уэллсом. Отсчет произведений, по жанру своему родственных «Мы», Замятин вел с романов английского фантаста, но корни генеалогического дерева Уэллса, выражающиеся в одинаковом подходе к сюжету, он нашел у Свифта. Любовь Замятина к Свифту как к одному из своих литературных учителей наводит на мысль, что отсчет антиутопических текстов нужно начинать с «Путешествий Гулливера», а точнее с их третьей части. Близость к идеалу того или иного государства для Свифта определяется использованием разума по назначению, которое Свифт видит в принесении населению материальных выгод. Его бробдингнежцы презирают «идеи, сущности, абстракции и трансценденталии», а так любимые им гуигнгнмы не понимают, «каким образом существо, притязающее на разумность, может вменять себе в заслугу знание домыслов других существ, притом относительно вещей, где это знание, даже если бы оно было достоверно, не могло бы иметь никакого практического значения» [132, 777]. От "неимения практического значения" и отталкивается Свифт, доводя в третьей части «Путешествий...» до абсурда несимпатичные ему проявления интеллектуальной жизни Англии. Критике подвергаются оторванные от жизни научные исследования и философские изыскания, центром которых предстает Большая Академия в Лагадо.
Лапутяне скверно строят дома, неумело шьют одежду, что объясняется их презрительным отношением к прикладной геометрии; жители Лагадо плохо возделывают поля, а весь их вид свидетельствует о нищете и лишениях. Дело в том, что несколько жителей столицы, побывавших в свое время на Лапуте, возвратившись на землю «начали составлять проекты пересоздания науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад» [132, 119], в чем весьма преуспели.
Конечно, сатира Свифта достаточно конкретна. Им пародируются некоторые представления Декарта, Галлея, Кеплера, даже самого Ньютона, а основным объектом издевки избрано «Лондонское Королевское общество для расширения естественных знаний». Однако неправильно было бы думать, что критика современного автору общества -приоритет исключительно позитивных утопий или чисто сатирических произведений. Антиутопия вовсе не исходит из приятия действительности. Именно в современности она подмечает те опасные черты, которые, развившись, могут повести общество в нежелательном для автора направлении. Мир третьей части «Путешествий...» не простой слепок с определенного социального устройства, он, как и Гуигнгнмия, построен на основе альтернативной социально-исторической гипотезы. Поэтому третья часть «Путешествий...» вполне может быть отнесена к жанру антиутопии-сатиры.
Замятин - неореалист
Подобно тому, как Замятин говорит о двух Уэллсах, мы можем сказать о двух Замятиных - русском и англичанине, - переадресовав на его счет им же написанное об Уэллсе. Первый - «обитатель нашего, трехмерного мира, автор бытовых романов», другой - «обитатель мира четырех измерений, путешественник во времени» [54, 604]. У первого -прямая связь с лесковскими традициями русской литературы, второй ориентируется на западную социальную фантастику, отвергает бытописание, как мешающее развиваться новой философской прозе. Замятин до поездки в Англию рисовал быт и нравы российской глубинки, поскольку знал их не понаслышке; будучи последователем Лескова, он «новых земель не открыл» [54, 604]. Да и ниша эта уже настолько прочно была занята Алексеем Ремизовым, что явно не случайна реакция на появление «Уездного», о которой Ремизов вспоминает в некрологе Замятину: «Почему Вы взяли себе псевдоним «Замятин»? - педагогически выговаривая все буквы, спросил меня Сологуб. Отзыв Сологуба был общим литературным мнением» [128, J18]. Б.Эйхенбаумом было сказано, что автор этой повести не рассказчик, а сказитель. Блок, ожидая в 1918 году увидеть Замятина соответствующим его русским повестям, удивился: «А я думал, что вы - непременно с бородой до сих пор, вроде земского доктора. А вы - англичанин... московский» [54, 554]. Англия действительно родила совсем другого Замятина, с иной манерой и тематикой, отвергающего конкретику и переводящего бытовые явления в план философии. В «Островитянах», «Ловце человеков», созданных по английским впечатлениям, вдруг угадываются зерна будущей антиутопии. Именно здесь проявляется протест против попыток упорядочить и механизировать жизнь человека, пока на уровне в основном повседневных взаимоотношений. Вне всякого сомнения, Англия просто поразила Замятина-человека и, как следствие, оказала огромное влияние на Замятина-писателя. «До этого, - читаем в его автобиографии, - на
Западе был только в Германии. Берлин показался конденсированным, 80%-ным Петербургом. В Англии другое: в Англии все было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме» [54, 8]. Уход с русской почвы в корне меняет образную систему писателя. Теперь он ориентирует новую литературу на иные маяки - «от быта - к бытию, от физики - к философии, от анализа - к синтезу» [54, 527]. В 1923 году Замятин определяет ту точку, к которой движется современная ему литература, словом «синтетизм». Он призван совместить в себе две школы в искусстве - утверждение (+) и отрицание (-), - явив третью -отрицание отрицания, или синтез (--). Плюс, по Замятину, это - грубая плоть, реализм, натурализм, где мир - только глина. Минус - «нет» всей плоти, всему глиняному миру, идеализм, символизм. Третье направление должно примирить в своих рамках два предыдущих: «Большак русской литературы, до лоску наезженный гигантскими ободами Толстого, Горького, Чехова - реализм, быт: следовательно, надо уйти от быта. Рельсы, до святости канонизированные Блоком, Сологубом, Белым, -отрекшийся от быта символизм: следовательно - надо уйти к быту» [54, 514]. Замятин не включает Достоевского в список великих реалистов, ибо чувствует, что он как раз и продемонстрировал синтетические образцы новой прозы, где присутствовали одновременно «и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла символизма» [54, 528]. Н.А.Бердяев считал, что фабулы романов - трагедий Достоевского лишь по недоразумению могли казаться реалистическими. Отвечая на вопрос, был ли Достоевский реалистом, философ писал: «Искусство Достоевского все - о глубочайшей духовной действительности, о метафизической реальности, оно менее всего занято эмпирическим бытом. Конструкция романов Достоевского менее всего напоминает так называемый «реалистический» роман. Сквозь внешнюю фабулу, напоминающую неправдоподобные уголовные романы, просвечивает иная реальность... Достоевский не может быть назван реалистом и в смысле психологического реализма. За жизнью сознательной у него всегда скрыта жизнь подсознательная...
Конечно, он никогда не был реалистом в том смысле, в каком наша традиционная критика утверждала у нас существование реалистической школы Гоголя. Такого реализма вообще не существует, менее всего им был Гоголь, и уж, конечно, не был им Достоевский» [11, 775]. Реализм, видевший мир простым глазом, - тезис, от которого отталкивается Замятин; антитезис - символизм, отвернувшийся от мира. Синтез же, или неореализм, как иногда именует его писатель, «подошел к миру со сложным набором стекол и ему открываются гротескные, странные множества миров; открывается, что человек - это вселенная...» [54, 506] И в Англии Замятин начинает создавать «живую литературу», основным признаком которой считает «сход с канонических рельс» [54, 514]. Теперь для него «плоскость быта - то же, что земля для аэроплана: только путь для разбега - чтобы потом вверх - от быта к бытию, к философии, к фантастике» [54, 514]. Теперь он решает задачи «Демокрита и Канта», задачи «пространства, времени, вселенной» [54, 527].
Если в «русской» прозе Замятина Россия, а точнее Русь, - четко географически и социо-культурно определенное место действия, то замятинская Англия на самом деле - не совсем Англия. И дело здесь не в том, что в «Островитянах» не конкретизировано, какой именно остров имеется в виду - понятно, что эту повесть, как и «Ловца человеков» породили английские впечатления Замятина. Просто это уже тот «синтетический» мир, в котором присутствуют отдельные реалии английской жизни, служащие лишь средством для осмысления глобальных проблем человеческого бытия. Роман «Мы» можно назвать вершиной «английской» прозы Замятина, так как в нем получили свое логическое завершение мотивы вышеназванных повестей, но уже на качественно ином уровне; «синтетический» мир антиутопии еще более абстракционизируется, и хотя элементы на сей раз новой российской действительности легко узнаваемы, они в этом ином мире выполняют вспомогательные функции. По замечанию И.Шайтанова, в повестях Замятина место действия относится не к миру географии, а к художественному миру. Правда, по мнению критика, это справедливо и для «русских» повестей писателя. При таком подходе «Уездное», «На куличках», «Алатырь» оказываются в одном ряду с «Островитянами». Думается, это не совсем правильно, ибо в первых трех повестях все-таки важно, что место действия находится в пределах России, где-то далеко, почти в глуши, автор стремится схватить основные черты этого провинциального мира, чтобы дать о нем целостное представление. Здесь именно характеристике места действия принадлежит определяющая роль. А вот в «Островитянах» и в «Ловце человеков» действительно действие происходит не в каком-то конкретном месте Британии, даже если оно и названо.