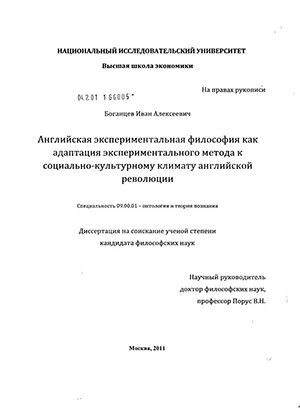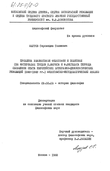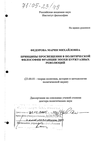Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Происхождение и структура английской экспериментальной философии
1.1 Происхождение и самобытность экспериментальной философии
1.2 Понятие эксперимента в Англии первой половины XVII века
1.3 Структура экспериментальной философии
1.3.1 Исследовательская свобода
1.3.2 Утилитаризм
1.3.3 Широта интересов
1.3.4 Коллективизм
1.4 Хронологические и социальные границы экспериментальной философии
Глава 2. Распространение экспериментального метода в Западной Европе
2.1 Фрагментарность успехов нового знания
2.2 Интеллектуальный климат Западной Европы конца XVI века
2.2.1 Великие географические открытия
2.2.2 Опыт против книги
2.2.3 Натуральная магия
2.3 Распространение экспериментального метода в Англии
Глава 3. Три лица английского экспериментального естествознания: Уильям Гильберт, Фрэнсис Бэкон, Уильям Гарвей
3.1 Уильям Гильберт
3.2 Фрэнсис Бэкон
3.3 Уильям Гарвей
Глава 4. Социально-экономическая история экспериментальной философии
4.1 Гессен, Мертон и зарождение экстерналистской истории науки
4.2 История Англии 1600-1660
4.3 Социально-экономическая привлекательность экспериментальной философии
4.3.1 Практический характер экспериментальной философии
4.3.2 Новизна и свободолюбие
4.3.3 Публичность
4.3.4 Аполитичность
4.3.5 Монистические тенденции экспериментальной философии
Глава 5. Пуританство и экспериментальная философия
5.1 Наука и религия
5.2 Наука и протестантство
5.3 Пуританство и английская наука
5.4 Пуританство и экспериментальная философия
Заключение
Библиография
Иллюстрации
- Происхождение и самобытность экспериментальной философии
- Фрагментарность успехов нового знания
- Уильям Гильберт
- Гессен, Мертон и зарождение экстерналистской истории науки
Введение к работе
Актуальность темы исследования
Английская экспериментальная философия никогда не становилась предметом отдельного исследования. Несмотря на то, что английская научная литература середины XVII века повсюду превозносит «экспериментальную философию», ее почти никогда не выделяют как отдельное философско-историческое явление, требующее анализа или оценки. Это тем более удивительно, потому что в целом английское естествознание этого периода изучено чрезвычайно хорошо, что объясняется, безусловно, ключевым значением исследований, проведенных в этот период.
Такое пренебрежение можно объяснить тем, что философы науки часто приравнивают понятия «экспериментальная философия» и «английская наука середины XVII века», а «экспериментальными философами» считают всех английских ученых этого периода. Иногда экспериментальными философами считают всех сколько бы то ни было прогрессивных ученых XVII и даже XVIII века. Так, профессор Сокулер хотя и ставит экспериментальную философию в кавычки, приравнивает ее к новой философии вообще, без уточнения хронологических или географических границ:
«с начала XVII в. в образованных слоях общества по всей Европе распространяются кружки любителей «новой», т. е. «экспериментальной философии», объединяющие людей, которые стремились, вырвавшись из плена пустых словесных сплетений, в опытах непосредственно наблюдать сами вещи и тайны природы»1.
Отчасти, историков и философов оправдывает то, что интеллектуальные, социальные и хронологические границы экспериментальной философии действительно размыты. Тем не менее, эти границы существуют, и с ними, безусловно, должны были считаться современники. Так, не каждый ученый середины XVII века мог, или даже хотел, считаться экспериментальным философом. Некоторые из самых крупных исследователей этого периода, такие как Уильям Гарвей или Томас Гоббс, либо отказались примыкать к новому
Сокулер 3.А. Знание и Власть: Наука в Обществе Модерна. Санкт-Петербург, 2001, стр. 84
интеллектуальному течению, либо были заведомо из него исключены по совокупности научных и социальных факторов.
Так или иначе, но экспериментальная философия играла огромную роль в английском обществе в момент зарождения в нем всей современной науки. Именно поэтому она заслуживает отдельного исследования. Но помимо чисто исторической, в каком-то смысле описательной составляющей, в диссертации затрагиваются более общие проблемы, лежащие в плоскости философии, социологии и даже экономики науки. Среди этих проблем можно назвать развитие европейского экспериментального метода, этапы институциализации современного естествознания, адаптация интеллектуального течения к конкретному политическому и религиозному климату, взаимоотношения фундаментальной науки и прикладной.
Степень разработанности проблемы
Протонаучные исследования XVI века и особенно естествознание XVII века изучены сегодня чрезвычайно хорошо. Если говорить о возрожденческой науке, следует указать работы Александра Койре, исследование Рандалла, ряд работ современных исследователей во главе с исполнительным директором Института Истории Науки Макса Планка Лорэн Дастон2. Сборник статей Sciences de la Renaissance дает представление о многогранности науки в эпоху Ренессанса и о сложных взаимоотношениях между зарождающимся естествознанием и вырождающемся ренессансном гуманизме. Институциональная история науки этого периода отражена в сборнике Patronage and institutions. Science, Technology, And Medicine at the European court 1500-17503, а также работы отдельных исследователей, например, Уильяма Имона.
2 Daston L, Park К. Wonders and the order of Nature. New-York, 1998
3 Moran B.T. (ed.) Patronage and institutions. Science, Technology, And Medicine at the European court 1500-
1750. The Boydell Press, 1991
По мере углубления в XVII век количество работ посвященных истории науки неизбежно увеличивается. В диссертации автор специально опирался на те из них, которые касаются английского естествознания. Одним из самых ранних и знаменитых авторов в этой области является, конечно, Ричард Джонс4, посвятивший свою карьеру становлению английского научного движения. Отдельный интерес вызвали у историков науки работы Уильяма Гильберта, Уильяма Гарвея, Фрэнсиса Бэкона. Роль последнего, в особенности, становилась предметом изучения философов от Вольтера до Фейерабенда. Так, в XX веке Лорд-канцлеру были посвящены работы Паоло Росси, Фаррингтона, Джона Лири и многих других. Но больше всего внимания (и заслуженно) получило Королевское Общество - его истоки, история его основания и его структура. Этому посвящены работы Майкла Хантера, Теодора Хоппена, Дугласа МакКи, Р. X. Сифре и многих других.
Исследование английской науки в социально-политическом контексте тоже проводились зарубежными учеными достаточно регулярно. Но для нас особенно важно, что интерес к этой тематике вспыхнул после доклада советского ученого Бориса Гессена5. Основным предметом интереса, к счастью, стали не столько провокационные выводы советского физика или его методология, сколько обещание новой истории науки, озвученное в его докладе, истории, построенной на принципах экстернализма. В этом отношении важны работы Роберта Мертона, Кристофера Хилла, Стивена Шапена, Саймона Шаффера, Теренса Кили.
Наконец, если говорить о влиянии религиозного климата на зарождение и развитие современного естествознания, то основополагающей здесь стоит считать работу Макса Вебера Протестантская Этика и Дух Капитализма, чье значение для науки показала докторская диссертация Роберта Мертона Science, Technology and Society in Seventeenth
Jones, R.F. Ancients and Moderns. A Study of the Rise of the Scientific Movement in Seventeenth-Century England. St. Louis, 1961 Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. Ленинград, 1933
Century England6. Именно благодаря откликам на работу американского социолога, импульс данный науке пуританством, оказался подробно изучен как сторонниками, так и противниками экстерналистского подхода к истории науке. В данном случае мы имеем в виду работы Абрагама, Рабба, Мэйсона, а главное Чарльза Вебстера7.
Объект работы
Объектом исследования является английская экспериментальная философия -когнитивно-практическая система воззрений на цели науки и средства их реализации, вместе с социально и культурно значимыми условиями, в которых она возникла и развивалась на протяжении XVI-XVII вв.
Предмет работы
Предметом исследования является философско-эпистемологическое содержание процессов возникновения и развития английской экспериментальной философии, ее адаптации к социальному, политическому и религиозному климату английской революции и реставрации.
Цель исследования
Цель работы - показать связь идей английской экспериментальной философии с экономическим, социально-политическим, религиозным контекстом (экономические структуры, институты, морально-религиозный климат, умонастроения интеллектуальной элиты и т.д.) Англии революционного и пост-революционного периодов. Эта связь выступает совокупностью условий, при которых экспериментальный подход к решению
6 Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, Osiris, Vol. IV, pt. 2, pp. 360-632. Bruges: St. Catherine Press, 1938
Webster С The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002// Webster С Richard Towneley, the Towneley Group, and Seventeenth-Century Science. Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire, 118 (1966)
научных проблем получает преимущество в конкуренции методов и становится прочной основой научной практики.
Задачи исследования
Основываясь на данных историко-культурных и историко-научных исследований, относящихся к указанному периоду, показать, что английская экспериментальная философия явилась логическим продолжением общеевропейской тенденции обращения к опыту как единственно надежному источнику знаний о мире, ставшей определяющей для дальнейшей судьбы европейской и мировой науки Нового времени.
Установить роль социально-культурных условий, в которых формировались статус и ценностные основания экспериментальной философии. Эта роль определяется как совокупность исторически необходимых, но не достаточных факторов.
Уточнить и специфицировать роль выдающихся ученых данного периода (Гильберта, Бэкона, Гарвея) в становлении английского естествознания и в формировании экспериментальной философии.
Определить совокупность причин, по которым, с одной стороны, именно экспериментальная (а не «картезианская» или «галилеевская», базировавшиеся на рационалистических, дедуктивно-аналитических методах) философия оказалась созвучной идейным течениям, преобладавшим в период английской революции; с другой стороны, каким образом и в какой степени сама эта философия «подстраивалась» под эти течения, «революционизируясь» под воздействием революционных социально-политических и экономических лозунгов эпохи.
Подвергнуть критическому анализу «тезис Мертона», а также сделать следующий шаг в социологическом анализе английской науки середины XVII века, т.е. показать, что пуританство оказалось особенно благоприятной идейной средой именно для экспериментальной философии.
Методологическая основа исследования
Диссертационная работа носит междисциплинарный характер. В ней использованы результаты, полученные в области истории, философии, социологии и экономики науки. Таким образом, ее методологическую базу составляют эвристические инструменты разного профиля: методы компаративного анализа (в том числе в отношении методологических и философских установок основных представителей английской экспериментальной философии (Бойля, Пауэра, Гука), а также их предшественников, в особенности Фрэнсиса Бэкона.); исторический метод; методы лингвистического и герменевтического анализа, и другие элементы методологии историко-философской науки (дедукция, индукция, аналогия и т.д.).
Научная новизна исследования
На основании проведенного анализа получено целостное представление об английской экспериментальной философии XVII вв. как о чрезвычайно характерном, уникальном явлении, демонстрирующем единство культурных, когнитивных, социологических и социально-психологических факторов своего образования и действия в специфических исторических условиях. Таким образом преодолено распространенное среди философов науки представление о том, что экспериментальная философия есть простая совокупность когнитивно-познавательных практик XVIl-XVI11 века, основанных на обращении к эксперименту.
Показано, что расцвет экспериментального естествознания в Англии XVI-XVII вв. можно рассматривать как результат особого взаимодействия указанных факторов, приводившего к перестройке методологических и мировоззренческих установок ученых так, чтобы они соответствовали «вызову времени»; «адаптация» методологического и концептуального оснащения науки к социально-политическому и религиозному контексту исследована как последовательность осознанных и нерефлексивных действий ученых, входящих в научную элиту своего времени и
формирующих ее. По сравнению с изученной автором научно-исторической, историко-культурной и социологической литературой по данному вопросу, впервые проведена попытка комплексного, «многомерного» анализа этого процесса, выявлен ряд взаимовлияний его различных (социологических, когнитивных и культурологических) сторон, что открывает новую перспективу философско-методологического анализа науки в социальном и культурном контексте.
3. Введено в научный оборот большое количество иностранной научной литературы. Развита и углублена методология исторического и социологического анализа науки за счет привлечения фактического материала, свидетельствующего об исторической конкретности влияния религиозной доктрины на формирование интеллектуального климата, благоприятного для того, чтобы определенная научно-методологическая «парадигма» получила преимущество и первенство в споре со своими конкурентами. Таким образом преодолевается узкая «интерналистская» методология историко-научного исследования, по которой к истории науки относится только то, что может быть отнесено к «спору научных идей», искусственно отделенного от влияния «внешнего» по отношению к этому спору социального и культурного контекста.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Английская экспериментальная философия XVI-XVII вв. является сложным, многофакторным историко-культурным явлением, которое можно представить как систему мировоззренческих, ценностных, и методологических установок, центральным элементом которой (остающимся инвариантным при перемене других элементов или их взаимовлияний) является «методология эксперимента», которая впоследствии стала приобретать относительную независимость от других элементов этой системы, постепенно терявших свое системное значение (секуляризация науки, обособление религиозной, политической и экономической сторон культуры и т. д.). Чтобы понять эту перспективу, необходимо понять как возникала и функционировала эта система, что
позволило ей привести к расцвету европейскую науку в конкретный исторический период позднего Возрождения и раннего Нового времени.
«Методология эксперимента», если она трактуется в самом широком («бэконианском») смысле, как это делали английские ученые рассматриваемого периода, образует «ядро» этой системы, не противопоставляясь, а органически сращиваясь с другими ее элементами. Это сращивание получает конкретную форму явных или неявных установок или условий продуктивной и перспективной работы этого «ядра» (утилитаризм, коллективизм и пр.). Это означает, что между «ядром» и его окружением в рассматриваемой системе образуются устойчивые связи, проникающие «вовнутрь» как ядра, так и его окружения. Так «экспериментальный метод» получает интерпретацию, зависимую от социально-культурного контекста, а сам контекст пронизывается научными идеями.
Названные установки выполняют роль «защитного пояса» для «ядра», охраняя его от атак со стороны тех представителей религиозной и политической власти, которые не смогли или не захотели принять целостность «экспериментальной философии» как интеллектуального центра эпохи, но относились к ее «ядру» как к тому, что, по их мнению, не вписывалось в культурный контекст, а скорее разрушало его. В этом смысле такие установки защищают не только «экспериментальную философию», но и сам контекст от разрушения, которое могло бы произойти из-за взаимной неадаптированности. Исследуемый феномен можно считать «парадигматическим» в том смысле, что он дает пример взаимного приспособления науки, философии и культурного контекста, имеющий значение для исследования различных историко-научных явлений.
Один из важнейших способов адаптации «экспериментальной философии» к социально-политическим и социально-экономическим условиям Англии XVI-XVII вв. стало подчеркивание утилитарного характера науки и научного знания. Это вызывало сочувствие в умонастроениях этой эпохи, нуждавшейся в материальном подкреплении своих новых притязаний. Чтобы способствовать усилению этого сочувствия, ученые этой эпохи были склонны преувеличивать «полезность» своих изысканий даже тогда,
когда это касалось фундаментального теоретического исследования. Таким образом, в диссертации делается методологический вывод, имеющий значение для важнейшей связи между философией и социологией науки: идеология новой науки базируется не только, а часто и не столько на экспериментальных результатах или теоретических интерпретациях, но и на потребностях адаптации науки к социокультурному контексту. 5. Такая адаптация не должна пониматься прямолинейно, как ряд предумышленных действий научной элиты. Напротив, в исследуемый в диссертации исторический период она часто происходила как неосознанное влияние политических или религиозных факторов на решения ученых. Не ученые выбирали культурно-исторический контекст своей деятельности, в частности, преобладание протестантизма и особенно пуританства в Англии в эпоху революции. Но именно это преобладание создавало условия, благоприятствующие развитию экспериментальной философии. В то же время нельзя сбрасывать со счетов те случаи, когда адаптация происходила вполне осознанно или, во всяком случае, понималась как прямое взаимовлияние науки и социокультурного контекста. Это открывает возможность исследовать взаимовлияния английской экспериментальной философии и европейской (континентальной) науки и философии, учитывая различия социокультурных контекстов, а также исследуя постепенное высвобождение методологического ядра из-под влияния этих контекстов.
Научно-практическая значимость исследования
Исследование экспериментальной философии помогает более полно восстановить историю английского естествознания середины XVII века. При этом нельзя забывать, что именно в этот промежуток (1645-1670) был заложен фундамент, благодаря которому Англия станет в последующем столетии безоговорочном лидером в области европейского естествознания. Более того, если верить Теренсу Кили, именно после Реставрации между властью и учеными (как в Англии, так и во Франции) были оформлены договоренности, которые сыграют ключевую роль в экономической и политической истории этих
государств. Если согласиться с тем, что английская аграрная и особенно промышленная революция стала результатом государственной политики laissez-faire, то нетрудно связать решение французских властей в 1666 году прибегнуть к бэконианскому финансированию науки с французской революцией 1791 года. Нельзя не заметить, что проблема финансирования науки как нельзя остро стоит сегодня в нашей стране, где большинство научных учреждений финансируются из государственного бюджета.
Материал и выводы диссертации могут быть использованы при чтении курсов по истории, философии или социологии науки, а так же по отдельным проблемам теории познания.
Апробация результатов работы
Положения диссертации излагались автором на семинарах, организованных в НИУ-ВШЭ и в Политехническом музее Москвы, на профильных научных конференциях, в том числе, на общероссийских конференциях, организованных философским факультетом СПБГУ, «Какая история и философия науки нам нужна?» (Петербург, июнь 2007) и «Рациональные реконструкции истории науки» (Петербург, июнь 2009). Положения диссертации использовались при проведении семинарских занятий со студентами философского факультета НИУ-ВШЭ.
Структура диссертации
Диссертация разделена на пять глав. Первая глава посвящена непосредственно экспериментальной философии - ее интеллектуальному содержанию, ее структуре и ее адептам. Во второй главе речь идет о том, как в Европе, на протяжении XVI-XVII веков, классическая исследовательская парадигма постепенно уступала дорогу новой эпистемологии - экспериментальному методу. В Англии ключевую роль в ассимиляции экспериментального метода сыграли публикации Уильяма Гильберта, Фрэнсиса Бэкона и Уильяма Гарвея. Каждый из них в своих работах ознаменовал новый этап в становлении экспериментального естествознания в Англии и определил многие грани зарождавшейся
экспериментальной философии. Им и посвящена третья глава. Четвертая глава описывает социально-политическое измерение экспериментальной философии. В пятой главе показано, что определенную роль в становлении экспериментальной философии сыграл религиозный климат пуританской революции.
Происхождение и самобытность экспериментальной философии
Конец XVI века был отмечен интеллектуальным кризисом, затронувшим почти все области западноевропейской культуры. Устаревшее, средневековое мировоззрение, с его понятными и привлекательными представлениями о месте человека в мире, о его взаимоотношениях с природой и Богом, перестали казаться убедительными значительной части образованной элиты; в то же время новое, современное мировоззрение еще не было сформировано, и не могло дать опору тем, кто пытался самостоятельно разобраться в хаосе окружающего мира. В религии кризис был следствием немецкой реформации. Здесь он выразился наиболее остро, став, к концу XVI века, причиной непрекращающихся религиозных войн, самой разрушительной из которых будет, конечно, Тридцатилетняя Война. В философии кризис получил название «скептический» или «пирронистический», и выразился в потере общепринятого критерия истинности суждения. Самыми яркими философскими событиями этой эпохи стали Essais Монтеня, обозначившие наступление кризиса, и Discours de la Mthode Декарта, попытавшееся его разрешить. В науке, которая была еще тесно связана с философией и, чуть менее тесно, с религией, результатом кризиса стали многочисленные конфликты между охранителями традиционного научного знания – Сорбонной, Ватиканом и т.д. – и энтузиастами-одиночками, считавшими себя, хотя и не всегда оправданно, первооткрывателями новой науки. Говоря о кризисе в философии и науке, нельзя не вспомнить о похожем понятии, выделенном Томасом Куном в его The Structure of Scientific Revolutions. Разумеется, в нашем случае речь идет не о замене одной научно-философской парадигмы на другую, а о более значительном мировоззренческом сдвиге. Поэтому, проводя аналогии и параллели стоит проявить осторожность. Тем не менее, некоторые из них на лицо: античная эпистемологическая парадигма перегружена аномалиями и не способна удовлетворительно объяснять все большее количество явлений; доверие к ней подорвано; но реального конкурента ей пока не существует; неизбежно, за этим следует появление конкурирующих эпистемологических стратегий, которые борются не только и не столько с общим врагом, сколько друг с другом. Именно в этом контексте стоит рассматривать научно-философский феномен, который можно предварительно обозначить формулой «английская экспериментальная философия».
Слово философия употреблялось в XVII веке чрезвычайно широко. А именно, оно могло быть использовано применительно практически к любой умозрительной дисциплине. Так, натуральной философией называлось то, за чем сегодня закреплено звание естественных наук. Слово «экспериментальная» в формуле «английская экспериментальная философия» обозначает лишь методологическую или процессуальную сторону исследования. Оно подчеркивает, что ядром данной философии был экспериментальный метод, т.е. некоторый эпистемологический инструмент, применявшийся в широком спектре познавательных дисциплин, вышедших на первый план в XVI-XVII веках. В частности, им были объединены такие, на первый взгляд, разные формы знания, как врачевательная медицина Парацельса, наблюдательная астрономия Тихо Браге или магнетизм Уильяма Гильберта. У этих дисциплин, в действительности, было мало общего, но каждая из них основывалась не столько на традиции и не столько на силе чистого разума, сколько на данных, полученных непосредственно опытным путем. Более того, каждая стремилась, в той или иной степени, чувственный опыт превзойти, т.е. не только регистрировать явления окружающего мира, но и объяснять их через ненаблюдаемые напрямую причины. Экспериментальная философия, о которой пойдет речь в нашей работе, стала английской преемницей этого общеевропейского увлечения опытом. Поиски истоков английской экспериментальной философии неизбежно приведут нас на континент, но к середине XVII века она приобрела вполне самостоятельную, независимую стать. В первую очередь, она стала «философией», т.е. помимо экспериментального метода стала восприниматься в контексте определенных методологических, социальных и даже нравственных атрибутов. Кроме того, она, в отличие от своих континентальных аналогов, сумела собрать под свои знамена практически все научное сообщество Англии и стала – пусть и на короткое время – методологической парадигмой научного исследования.
Самобытность английской экспериментальной философии была связана, в первую очередь, с любопытной особенностью европейского интеллектуального ландшафта: континентальные философские работы, традиционно, были хорошо известны в Англии, тогда как английское наследие, в целом, с трудом перебиралось через Ла-Манш. Так, Галилей был настольной книгой каждого английского философа середины XVII века – либо непосредственно в оригинале, либо в многочисленных переложениях, выполненных, например, отцом Мерсенном. В то же время, даже такая крупная фигура как Бэкон, не говоря уже о Дигби, Геллибранде и др., была довольно плохо известна на родине Галилея . Сам флорентийский философ никогда не упоминал в своих работах Фрэнсиса Бэкона , но, если верить Марко Беррета, нетрудно показать, что даже члены Академии дель Чименто (Accademia del Cimento), основанной в 1657 году, зачастую не читали работ Лорд-канцлера . Можно говорить о том, что, как и в живописи, научные ветра до второй половины XVII века дули на европейском континенте с юга на север. Предпосылки интеллектуальной обособленности британских островов, ставшей залогом своеобразия английской экспериментальной философии, лежат в плоскости политики, культуры и, конечно, географии. Еще в средневековье, когда центральная Италия стала центром интеллектуального и экономического «пробуждения» Европы, Англия была поставлена в положение «отстающей», что и определило весь культурный фон британских островов вплоть до XVII века. Если взять пример образования, то в этом отношении Англия никогда (и вполне заслуженно) не пользовалась популярностью среди европейской интеллектуальной элиты. Наоборот, многие из англичан традиционно стремились получить полноценное образование на континенте. Самым крупным английским ученым, получившим образование за рубежом, был, безусловно, Уильям Гарвей. Проучившись несколько лет в падуанском университете, он вернулся в Англию в 1602 и впоследствии сделал, возможно, больше других для укоренения экспериментального метода в Англии. Интересно, что, публикуя в 1628 году свою революционную Exercitatio Anatomica de Motu Cordis, Гарвей выбрал в качестве издателя некого Фитцера, чей печатный дом находился во Франкфурте. По всей видимости, выбор Гарвея объяснялся именно тем, что напечатанная в Лондоне книга не получила бы распространения, на которое рассчитывал автор . Но даже те из англичан, чье формальное образование ограничивалось оксбриджем, имели обычай проходить своеобразную культурную инициацию на континенте. Зачастую она осуществлялась посредством знаменитого Grand Tour – многолетнего путешествия, маршрут которого лежал на территории современной Франции, Швейцарии и, конечно, Италии. Такое путешествие предпринял в 1641-1644 годах молодой Роберт Бойль, успевший, по легенде, познакомиться во Флоренции с самим Галилеем. В конце 1650-х по Европе путешествовал Исаак Барроу и племянник Бойля Ричард Джонс. Последний – в компании будущего пожизненного секретаря Королевского Общества (The Royal Society) Генри Ольденбурга. Многие из англичан предпочитали путешествию проживание в одной из европейских столиц – факт, имевший место в биографии Бэкона, Гоббса, а, возможно, и Гильберта. При этом ни один из крупных европейских ученых до второй половины XVII века никогда не посещал Англию, за (достаточно спорным) исключением Джордано Бруно.
Фрагментарность успехов нового знания
Трансатлантические путешествия португальцев, испанцев и итальянцев в Индию и Америку стали решающим фактором не только в изменении отношения к древним, и в частности к Аристотелю, но и в изменении самосознания европейцев. Во-первых, они показали, что греко-римский мир был чрезвычайно ограничен, и что, в действительности, современный человек во многом превосходит его в знании. Наиболее дальновидные философы делали благодаря этим открытиям амбициозные эпистемологические заключения. Так, 23 марта 1523 года итальянский философ Пьетро Помпонацци комментировал в Болонье вторую книгу Meteore. После дежурного изложения доктрины Аристотеля и приложенных к ней Аверроэсом четырех аподектических причин невозможности существования жизни в южном полушарии Помпонацци неожиданно заявил, что у него есть приятель в Венеции, некий Пигафетта, который путешествовал по южному полушарию и видел там таких же людей, как и европейцы. Поэтому, говорит Помпонацци, выводы Аристотеля sunt fatuitates – глупости и пустословие. Откуда выводится более общее правило о том, что стоит предпринимать в случае конфликта между regionamento e l esperienza sensibile , а именно – standum est sensui et dimittenda est ratio .
Другим важным следствием эпохи открытий стало появление на европейском рынке множества артефактов из Индии, Африки и Нового Мира: образцов минералов, диковинных растений, животных и даже болезней. Все это не только вновь заставляло задуматься об авторитете и компетентности древних, но и поставило перед европейцами проблему каталогизирования знания. Здесь можно вспомнить Historiae animalium, 1551-1558 Конрада Гесснера, болонский ботанический сад Улисса Альдрованди (1568), многочисленные кабинеты диковинок, чье появление датируется серединой XVI века. Изучение многих из уникальных артефактов не могло быть основано на универсалиях и первых принципах , но толкало европейских ученых в сторону коллективного эмпиризма и формирования натуральной философии, основанной на понятии научного объекта или факта . Необходимость упорядочивания знания неизбежно приводит к зарождению наблюдательной, а не спекулятивной науки. Этому, безусловно, способствовала и концептуальная революция, уже произошедшая в живописи, где к XV веку стало высоко цениться умение рисовать с натуры и писать вещи такими, какие они есть, а не такими, как их диктует традиция. Не зря Андреас Везалий, подготавливая иллюстрации своей знаменитой De humani corporis fabrica,1543 нанимал художников из мастерской Тициана. Эрвин Панофски считает, что «подъем естественнонаучных дисциплин, которые можно назвать наблюдательными или дескриптивными – зоологии, палеонтологии, некоторых отделов физики и, самое главное, анатомии – … напрямую зависел от подъема в изобразительной технике». Постепенно, благодаря тесному контакту между придворной, университетской и наукой религиозных орденов, интеллектуальная жизнь больших городов становится все более интенсивной. Теперь здесь доминирует городская элита, многие представители которой имеют профессиональное образование (врачи, аптекари, юристы), то есть люди, в работе которых имеется сильный практический компонент. Именно эта «разночинная» среда, вместе с отдельными представителями аристократии и торговли, и предоставила основных реципиентов нового протонаучного эмпиризма, гораздо менее популярного в среде университетских профессоров.
Мало-помалу интеллектуальный климат в Европе начинает характеризоваться конфронтацией между классической, книжной формой знания, за которую, выступают университеты и многие из гуманистов; и новыми формами знания, эпистемология которых опирается в той или иной степени на чувственный опыт. Мореплаватели, придворные инженеры и ремесленники, аристократы-натуралисты, алхимики – все они, напрямую или косвенно, ведут войну со спекулятивной философией, основанной на мертвых источниках, а не на живом знании. Каждый из них, в своих дневниках или популярных трактатах, написанных, как правило, на родном (т.е. не латинском) языке, занижает значение схоластической философии и восхваляет чувственный опыт. Конечно, на практике, им еще долго не удастся полностью избавиться от классического наследия, но во всем, что касается способа познания мира, т.е. эпистемологии per se, они не принимают книжного знания, а в отдельных случаях позволяют себе отзываться о нем весьма высокомерно:
«Хорошо знаю, что некоторым гордецам, потому что я не начитан, покажется, будто они вправе порицать меня, ссылаясь на то, что я человек без книжного образования. … Скажут, что, не будучи словесником, я не смогу хорошо сказать то, о чем хочу трактовать. Не знают они, что мои предметы более, чем из чужих слов, почерпнуты из опыта, который был наставником тех, кто хорошо писал; так и я беру его себе в наставники и во всех случаях буду на него ссылаться» .
Дневники Леонардо были опубликованы лишь в XIX веке и потому (в отличие от самого Леонардо) не оказали ровным счетом никакого влияния на современников. Но он был одним из многих, кто в XVI веке предпочитает книгам непосредственный опыт. В похожем ключе, например, говорит французский естествоиспытатель и гончар Бернар Палисси в обращении к читателю своего Discours admirable de la nature des eaux et fontaines tant naturelles qu artificielles, 1580. Здесь он не только обесценивает классическое образование, но и делает смелые, эпистемологические выводы, похожие, впрочем, на те, что сделал и Леонардо в своих неопубликованных дневниках. Именно опыт и практическая работа, говорит Палисси, должны стать основанием теоретической, книжной науки: «I ay mis ce propos en auant, pour clorre la bouche ceux qui disent, comment est il poible qu un homme puisse savoir quelque chose & parler des effects naturels, sans auoir veu les liures Latins des philosophes? un tel propos peut auoir lieu en mon endroit, puis que par practique ie prouue en plusieurs endroits la theorique de plusieurs philosophes fause, mesmes des plus renommez & plus anciens ... te pouuant asseurer (lecteur) qu en bien peu d heure, voire dens la premiere iournee, tu apprendras plus de philosophie naturelle sur les faits des choses contenues en ce livre, que tu ne saurois apprendre en cinquante ans, en lisant les theoriques opinions des philosophes anciens.» Еще более определенно высказывается итальянский гуманист Джироламо Русчелли в прологе к своей Secreti nuovi, 1567. Рассказывая о целях одной из первых научных академий, основанной им предположительно в 1541-1542 году, он говорит, что основной задачей было «перепробовать» и «доказать» наибольшее количество рецептов, найденных в старинных рукописях, напечатанных книгах или полученных напрямую через посредников. Иман и Пао не без основания отмечают историческое значение данной эпистемологической стратегмы :
«Здесь важно отметить, что Русчелли считал эту процедуру осознанным применением экспериментального метода. Будучи неудовлетворен знанием и методиками, полученными из книг, академия настаивала на том, чтобы каждый рецепт был «доказан» три раза, прежде чем его можно было бы считать заслуживающим доверия. И хотя метод, использовавшийся в данном случае, был, очевидно, достаточно примитивен, его историческое значение довольно велико. Он иллюстрирует этап становление понятия эксперимента, на полпути между средневековым понятием experimenta как обыкновенного опыта и методом Галилея, использовавшего эксперимент для проверки гипотезы».
Уильям Гильберт
Три человека сделали особенно много для ассимиляции экспериментального естествознания в Англии первой половины XVII века – Уильям Гильберт (1603), Фрэнсис Бэкон (1626) и Уильям Гарвей (1657). Несмотря на то, что их имена, поставленные в этой последовательности, составляют, как будто, хронологический и идейный континуум, роль каждого из них в истории экспериментальной философии была своеобразной. Так, в отличие от Бэкона, Гильберт и Гарвей были, прежде всего, учеными самого большого калибра, т.е. не только популяризировали экспериментальное естествознание, но и развивали его. В то же время Бэкон, и чуть в меньшей степени Гильберт, оказали непосредственное влияние на предмет нашего исследования, английскую экспериментальную философию, тогда как Гарвей во многом остался в стороне от этого явления. Нам известны лишь контуры биографии Уильяма Гильберта, человека, заложившего основы английского и отчасти европейского экспериментального естествознания – почти весь его архив пропал в лондонских пожарах XVII века. Гильберт родился в 1544 году, в Колчестере, а в 1558 (в возрасте 14 лет, что было, в то время, обычным делом) поступил в колледж Святого Джона Кембриджского университета. Здесь он получил степень бакалавра, магистра, а потом и доктора медицины. Почти всю жизнь он проработал в Лондоне лечащим врачом, став в 1573 году членом Королевского Медицинского Колледжа, института, о котором мы подробно расскажем в следующей главе. Четырехлетний промежуток между окончанием кембриджской академической карьеры (1569) и началом лондонской (1573) натолкнул некоторых ранних биографов Гильберта на предположение, что тот провел их на континенте, возможно в Италии. Это позволило бы установить связь между английской и европейской экспериментальной традицией. К сожалению, эту крайне интригующую гипотезу сегодня невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Тем не менее, нельзя согласиться с исследователями, которые, в отсутствии твердых фактов, считают возможным относиться к этой гипотезе как фантазиям биографов. Дело в том, что, как указывает Чарльз Вебстер , обязательным условием членства в Королевском Медицинском Колледже было наличие диплома английского университета, четырехлетней врачебной практики, а также стажа в европейском университете. Разумеется, одно это лишь косвенно свидетельствует в пользу объявленной гипотезы – в отдельном случае запрет, возможно, удалось обойти. Но, в отсутствии дополнительной информации, этого достаточно, чтобы предположение о континентальных корнях английского экспериментального эмпиризма, по крайней мере, не выглядело неправдоподобным. Так или иначе, начиная с 1573 года, Гильберт постепенно поднимался по карьерной лестнице, наивысшей ступенью которой стало назначение его президентом Королевского Медицинского Колледжа в 1600 г. и личным врачом Елизаветы I в 1601 г. В это же время Гильберт опубликовал свою De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure, 1600, книгу ставшую кульминацией и, возможно, raison d tre всей английской магнетической традиции. Ее появление многим обязано и Роберту Норману, которого высоко ценил Гильберт, и Эдварду Райту, написавшему к ней предисловие, и целой плеяде английских ученых, среди которых автор перечисляет Томаса Хэриота, Роберта Хьюза, Абраама Кендаля, Уильяма Борроуа и Уильяма Барло. В то же время Гильберт пошел гораздо дальше своих предшественников; в действительности, он продвинулся так далеко в изучении магнетизма, что в XVII веке его не превзошел ни один ученый. Среди открытий, за которыми по праву будет навсегда закреплено его имя, стоит разделение магнетического и электрического эффекта (сам термин электричество, electricus, т.е. янтарность или янтароподобие, ввел именно Гильберт), а также предположение, что Земля имеет самостоятельный магнитный потенциал, который и является причиной поворота магнитной стрелки. Для нас больший интерес представляет методологическая, процессуальная сторона исследований Гильберта. Здесь, прежде всего, стоит отметить Гильберта, как первого крупного английского ученого на деле отбросившего преклонение перед античностью и «книжными» авторитетами. Мы уже сказали, что довольно обрывочные знания древних о магнетизме несколько упростило эту задачу: быть новатором в этой области было несравненно легче, чем, например, в астрономии. Тем не менее, не стоит преуменьшать значение многочисленных опровержений Аристотеля, Платона, Плиния Старшего, Птолемея, а также многих современных Гильберту авторов, таких как Агрикола, Джованни делла Порта или Кардан. С их помощью Гильберт отвоевывал бесценное право ученого доверять лишь собственному опыту, без оглядки на какие бы то ни было авторитеты. Более того, в хвалебном обращении , открывавшем De Magnete, Эдвард Райт отдельно обсуждает проблему противоречия научной гипотезы и текста Священного Писания. Обращение замечательно уже тем, что написано за много лет до так называемого первого процесса Галилея и, судя по всему, в момент, когда процесс Джоржано Бруно близился к своему трагическому завершению. Не менее примечателен и его вывод: на примере гипотезы суточного обращения Земли Райт утверждает, что текст Писания не стоит понимать буквально, поскольку в намерения Моисея и других пророков вряд ли входило «to promulgate nice mathematical and philosophical distinctions» . Таким образом, Райт и Гильберт фактически предлагали то же, что предложит Галилей в письме отцу Кастелли 21 декабря 1613 – интерпретировать спорные пассажи священного писания в свете научного прогресса и освободить ученого от необходимости подгонять результаты своих исследований к богословским. Разумеется, в елизаветинской Англии этот вопрос стоял не так остро, как в католической Италии. Ни инквизиции, ни даже Списка запрещенных книг у Елизаветы не было. Но некоторые из наиболее острых научных публикаций все же подвергались цензуре, и проблема независимости ученого оставалась открытой. Эпистемология Уильяма Гильберта почти полностью основывается на чувственном опыте и эксперименте, и он не только не смущается своего новаторства, но и говорит о нем с оттенком гордости и высокомерия: «To you alone, true philosophers, ingenuous minds, who not only in books but in things themselves look for knowledge, have I dedicated these foundations of magnetic science – a new style of philosophizing. But if any see fit not to agree with the opinions here expressed and not to accept certain of my paradoxes; still let them note the great multitude of experiments and discoveries – these it is chiefly that cause all philosophy to flourish; »
Существенно, что экспериментальная практика Гильберта уже далеко ушла от хаотичного экспериментирования Ренессанса. Во-первых, он исследует одно, достаточно узкое поле, что было нехарактерно как для адептов натуральной магии, так и для экспериментальных философов середины XVII века. Во-вторых, в его работe почти отсутствуют элементы случайного, игрового экспериментирования: каждый эксперимент призван подтвердить, либо опровергнуть заранее оговоренную гипотезу. Некоторые из этих экспериментов весьма изысканы, например, позаимствованный у Роберта Нормана для демонстрации того, что магнитная сила Земли лишь направляет магнитную стрелку, но не притягивает ее. Обыкновенная пробка протыкается небольшим куском металлической проволоки, который затем фиксируется в ней и маркируется – например, из одного конца проволоки делается стрелка (илл.2). С помощью ножа, массу пробки постепенно уменьшают до величины, при которой пробка и прикрепленная к ней проволока могут находиться в свободном плавании в стакане воды, т.е. не будут ни всплывать на поверхность, ни тонуть. Далее, пробку вынимают из резервуара, а проволоку намагничивают. При повторном размещении в стакане воды, пробка разворачивается в направлении магнитных полюсов Земли, но не тонет, что говорит о том, что Земля не притягивает намагниченную проволоку.
Гессен, Мертон и зарождение экстерналистской истории науки
Темпы и «качество» развития науки в том или ином историческом промежутке зависят от сложной комбинации причин, которые можно разбить на два независимых кластера. В первый попадают причины, продиктованные внутренней логикой развития науки, в первую очередь развитием научных теорий как таковых. Так, мы можем сказать, что многочисленные наблюдения за движением Марса, осуществленные Тихо Браге, были необходимым условием для позднейшего развития эллиптической астрономии Кеплером и его последователями. Т.е. если бы кто-то спросил, почему Коперник или Ретик не изобрел, или хотя бы не наметил основы эллиптической астрономии, ему можно было бы смело ответить, что в отсутствии соответствующих научных условий этого попросту не могло бы быть. Во второй кластер попадают вненаучные причины. связанные, прежде всего, с политическим, экономическим и технологическим этапом развития общества. В том, что роль этой «вненаучной» составляющей для науки крайне велика, сегодня уже не сомневается никто. Но ее значение, а также механизмы, при помощи которых ей удается влиять на магистральную научную мысль, остаются во многом непонятыми, даже несмотря на то, что этому вопросу были посвящены в XX веке сотни научных работ.
Одним из мощнейших импульсов для изучения социально-экономических факторов в истории науки стала, конечно, марксистская теория. Уже сам Карл Маркс призывал к «материалистическому пониманию истории» и этот призыв был услышан его сторонниками, сформулировавшими теорию так называемого «диалектического материализма», согласно которой «бытие определяет сознание», а не наоборот. В этой связи неудивительно, что первым и наиболее влиятельным апологетом марксистского понимания истории науки стал советский физик Борис Гессен . Согласно Гессену, лицо английского естествознания XVII века определили запросы нового поднимающегося класса – буржуазии – поставившей перед наукой три типа задач: развитие транспорта для торговли (улучшение грузоподъемности судна, ориентирование в открытом море, таблицы приливов и отливов, строение каналов), развитие горнодобывающей промышленности (подъем руды из шахт, вентиляция, откачка воды) и развитие военной промышленности (мощность орудия, его легкость и прочность, изучение траектории). Таким образом, главные достижения XVII века в области механики и аэро/гидростатики представлялись Гессеном как элементарное осуществление социального заказа господствующего класса. Гипотеза, озвученная советским физиком на лондонской конференции 1931 года, лишь отчасти отражала убеждения самого Гессена. Это понимали, видимо, уже некоторые из его современников, такие как Жоравски и Уэрски. Сегодня же не вызывает сомнения тот факт, что во многом она был продиктована политическим климатом сталинской России, страхом за собственное благополучие и, таким образом, намеренно соответствовала «линии партии» (к сожалению, в данном случае бытие действительно определило сознание). Тем не менее, благодаря емкости и блестящей аргументации работы Гессена, она оказала огромное влияние на развитие истории науки, в том числе за счет большого количества работ, посвященных ее опровержению. Одним из самых знаменитых откликов на доклад Гессена стала большая работа американского социолога Роберта Мертона Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, опубликованная в 1938 году . Сегодня она известна, прежде всего, за то, что здесь впервые подробно обсуждался вопрос о влиянии пуританизма на английскую науку XVII века. К этой гипотезе мы вернемся в следующей главе. Другая, менее известная часть работы Мертона, развивала основной тезис Гессена. Провокационные и откровенно идеологические элементы работы советского физика уступили скрупулезному социологическому анализу американского ученого. Мертон ставит вопрос: какова связь между экономическими потребностями общества, его технологическими возможностями и чистой наукой? Ответом, по всей видимости, должно служить следующее положение. Хотя экономические потребности и технологические возможности не способны сами по себе провоцировать научные исследования в конкретной области – исторически, необходимость и возможность изобретения не обязательно реализовывались в изобретении – они способны направить усилия научного сообщества на решение тех или иных практических задач. Хорошо известно, например, что изучение гидростатики Галилеем и Торричелли было вызвано необходимостью работы с флорентийскими фонтанами Козимо Медичи. А исследование множества проблем в области математики и астрономии в XVII веке было связано с необходимостью нахождения метода измерения долготы в открытом море. Последний случай особенно показателен, так как этой проблемой занималось большинство крупных ученых столетия. В 1714 году английское правительство даже создало Комиссию по Определению Долготы в Море (Board of Longitude), которая обещала огромное вознаграждение тому, кто сможет найти метод определения долготы хотя бы с погрешностью в сто километров. Однако, несмотря на неоспоримость влияния экономических потребностей на научную мысль, Мертон вынужден признать, что оценить степень этого влияния оказывается достаточно трудно. С одной стороны, по его оценкам , около 40% исследований во второй половине XVII века велись в области чистой науки. Но если к этому прибавить исследования, которые имели лишь косвенное практическое значение – например, изучение атмосферного давления – то эта цифра может возрасти до 70%. В конце концов, необходимо ставить вопрос о наборе критериев, по которым то или иное исследование можно считать прикладным или фундаментальным. Научно-историческая традиция, вышедшая из Гессена и Мертона, сделала упор на влияние социально-экономических факторов на развитие науки в целом. Для нас же интерес представляет другой вопрос: насколько эти факторы поспособствовали укреплению отдельного философского течения, экспериментальной философии, и вытеснению ею конкурирующих методологических парадигм, например, картезианства. Для ответа на него нам необходимо вернуться к вопросу структуры английской экспериментальной философии. В ее центре, как мы указали в первой главе, находился экспериментальный метод, окруженный рядом философских и методологических конвенций. Что представляли собой эти конвенции и откуда они появились? Во-первых, стоит указать на их условный характер. С точки зрения внутренней логики науки они не были необходимой составляющей для ее развития. Отсюда нетрудно догадаться и об их происхождении – они были продуктом собственно научного сообщества. На это указывает и тот факт, что в отличие от самого экспериментального метода, известного и востребованного по всей Европе, такие конвенции, как утилитаризм или коллективизм формировались и приживались лишь в отдельных странах и с разной степенью успешности. Это приводит нас к гипотезе, что выделенные нами конвенции представляли собой некую идеологическую надстройку, призванную вписать экспериментальный метод в конкретный социально-политический контекст. Эта гипотеза кажется нам интересной еще и потому, что она обещает ответить на важнейший вопрос: почему, при достаточно свободном обращении и относительно равной доступности научной литературы в Европе, отстававшая в XVI веке Англия, к концу XVII века, неожиданно оказалась лидером в области естествознания? Не потому ли, что английскому научному сообществу удалось сделать то, что не получилось у Галилея – не только обезопасить экспериментальное естествознание от неприязни со стороны различных политических элит, но и уверить их в необходимость поставить его себе на службу?
Итак, в конвенциях, упомянутых нами, можно видеть форму адаптации естествознания к интеллектуальному климату середины XVII века. Это, разумеется, не значит, что они были просто формальной реакцией на социально-политический климат. В данном случае речь не идет о ситуации, которая имела место в Советском Союзе, где даже лучшие из ученых были вынуждены приводить в своих работах марксистские источники для демонстрации идеологической ортодоксальности. Конечно, в работах таких ученых, как Бойль или Гук риторический и даже оппортунистический компонент играл немаловажную роль. Но даже в середине XVII века английское философское поле все-таки было гораздо шире советского и оставляло определенный простор для маневра. Идеологическая надстройка в каждом конкретном случае оставалась, до некоторой степени, вопросом свободного выбора и правильной расстановки акцентов. Если взять пример научного свободомыслия, то призывы к нему звучали по всей Европе и оно, кажется, являлась органичным, а может быть и неотъемлемым компонентом экспериментального метода. Но в Англии на него был сделан акцент именно потому, что в политическом климате середины XVII века оно приобрело совершенно особенное значение.
Прежде чем перейти к механизмам адаптации экспериментального метода в Англии, нам необходимо вкратце ознакомиться с ее историей. Английский XVII век начался в 1603 году с воцарения новой королевской династии – Стюартов. Елизавета, правившая до этого 45 лет, не оставила наследника, и престол занял Яков I, сын казненной Марии Стюарт. Смена династии сыграла огромную роль в английской истории. Именно она объясняла особенные надежды, возложенные на Якова I угнетаемыми Елизаветой религиозными меньшинствами – католиками и пуританами. Первые требовали ослабление преследований, вторые – проведение дополнительных религиозных реформ. Новый монарх не оправдал надежд ни тех, ни других, что в одном случае привело к Пороховому заговору (1605), а в другом – к формированию оппозиции, институциональным оплотом которой стала Палата Общин, т.е. нижняя палата Парламента. При Елизавете парламент существовал лишь формально, но теперь он начинает постепенно проявлять независимость. Так, в 1621 году, законодательно собрание впервые более чем за 200 лет воспользовалось правом импичмента и сняло с поста Лорд-канцлера самого Фрэнсиса Бэкона.
Постепенно недовольство пуритан растет. Парламент требует все больше независимости, возмущается существованием исключительных судебных инстанций, таких как Суд Верховной Комиссии (Court of High Сommission) или Звездная палата (The Star Сhamber), а позже и правом короля на помещение в тюрьму и обвинение в государственной измене. Но у Якова не оказывается ни силы, ни авторитета для того, чтобы с этим бороться. С одной стороны, парламент собирается и распускается только по воле короля. Но с другой – только парламент может выделить королю средства, например, на ведение войны. При сыне Якова, Карле I, конфликт между парламентом и королем обостряется. Карл I не собирает парламент целых одиннадцать лет – самый длинный промежуток в английской истории. Это приводит к гражданской войне, которая фактически идет между двумя религиозными фракциями – пуританами, поддерживающими парламент и англиканами, стоящими за короля. После поражения и казни Карла I (1649), власть полностью переходит к пуританам, которые, так или иначе, буду править содружеством и протекторатом до смерти Оливера Кромвеля в 1658 году и бескровного восстановления монархии в 1660, когда на престол входит Карл II, сын казненного монарха. После этой даты многие из радикальных пуритан лишаются своих позиций, но в некоторых сферах, например, в науке и образовании, их влияние будет сохраняться еще очень долго.