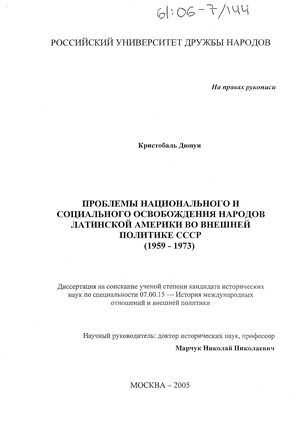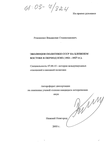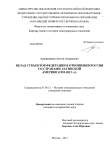Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Формирование советского видения Латинской Америки 13
1. Представление в СССР о путях развития Латинской Америки 13
2. Советские анализы социально-политического расклада в латиноамериканских обществах 20
3. СССР и теоретические разработки компартий Латинской Америки 35
ГЛАВА II. Место компартий во внешней политике СССР в Латинской Америке 59
1. Советская внешняя политика: между интересами государства и интересами революции 59
2. Место латиноамериканских компартий в предоставлении советской финансовой помощи международному коммунизму 67
3. Другие виды помощи компартиям Латинской Америки 86
ГЛАВА III. Дипломатическая и пропагандистская политика СССР в отношении Латинской Америки 93
1. Проблема экономической независимости Латинской Америки в советской дипломатии 93
2. Культура как средство внешней политики СССР в Латинской Америке 108
3. О состоянии Пропагандистская работа Агентства печати Новости в странах Латинской Америки 118
4. Ситуация в Латинской Америке после государственного переворота 11 сентября 1973 г. в Чили 138
Заключение 144
Список источников и литературы 149
- Советские анализы социально-политического расклада в латиноамериканских обществах
- Советская внешняя политика: между интересами государства и интересами революции
- Место латиноамериканских компартий в предоставлении советской финансовой помощи международному коммунизму
- О состоянии Пропагандистская работа Агентства печати Новости в странах Латинской Америки
Введение к работе
Актуальность темы. За последние пятнадцать лет и Латинская Америка, и Россия претерпели глубокие изменения, которые сильно сказались на состоянии латиноамериканского и российского общества. В начале 1990-х годов большинству государств Латинской Америки удалось выйти из двадцатилетнего периода политической и экономической нестабильности, отмеченного во многих странах длительной и жесткой диктатурой. Распад Советского Союза тоже спровоцировал серьезные изменения, которые, среди прочего, повлекли за собой основательный пересмотр и даже отказ от многих направлений во внешней политике его «правопреемницы» — России.
К счастью, сегодня Россия намерена не сдавать, а наоборот, возвращать утраченные тогда позиции, и потому, несмотря на дистанцию, разделяющую ее с Латиноамериканским континентом, ситуация в этом регионе очень благоприятна для активизации и расширения взаимных связей. В сущности, эти процессы уже начались, о чем свидетельствовали сначала визит министра иностранных дел Е.М. Примакова в ряд стран Латинской Америки, а затем и историческое турне президента В.В. Путина по Латиноамериканскому континенту. Эти поездки показали ярко выраженное желание России развивать сотрудничество с континентом в изменившемся мире. Во всяком случае, отвечая на вопрос о значении латиноамериканского направления во внешней политике России, Е.М Примаков тогда говорил: «Приоритеты внешней политики России мы строим с учетом новых международных реалий. Сегодня на смену биполярному миру идеологического противостояния и военной конфронтации приходит многополярный мир, в основе которого
взаимозависимость и многостороннее сотрудничество. Латинская Америка - один из наиболее динамично развивающихся регионов планеты с богатейшими людскими и природными ресурсами, с возрастающим весом в международных делах. В силу этих факторов отношения с Латинской Америкой - самостоятельное, неподверженное конъюнктуре направление внешней политики России. Как великая держава мы добиваемся многовекторной системы связей с международным сообществом. Латинская Америка также стремится к диверсификации своих отношений с внешним миром, его основными центрами. Это нас сближает. С обеих сторон проявляется заинтересованность к взаимодействию на международной арене и обоюдовыгодному экономическому сотрудничеству. Для этого имеются все необходимые предпосылки: взаимные симпатий народов, отсутствие спорных проблем, взаимодополняемость экономик» . После турне В.В. Путина министр иностранных дел России С.В.Лавров на встрече с латиноамериканскими послами в Москве по праву отметил, что в последнее время для российско-латиноамериканских контактов характерна тенденция к расширению политического диалога в двустороннем и многостороннем формате, в т.ч. на высшем уровне, к активизации торгово-экономических, научно-технических, культурных и гуманитарных связей2. Ждут Россию и в Латинской Америке, которая устами министра иностранных дел Чили Игнасио Уокер Прието в интервью «Времени новостей» посылает ей многозначительное приглашение: «Латинская Америка - это мир, который России стоит для себя открыть»3.
Но для того, чтобы успешно развивать эти отношения на современном этапе, необходимо не только поскорее оставить в прошлом недавнее самоустранение России с Латиноамериканского континента, но
и глубоко осмыслить тот огромный опыт, который был накоплен за почти 80-летний период развития советско-латиноамериканских отношений.
Таким образом, избранная диссертантом тема представляет не только значительный научно-познавательный, но и немалый практико-политический интерес, позволяя строить российско-латиноамериканские отношения с учетом сильных и слабых сторон, которые были присущи советской внешней политике в отношении стран Латиноамериканского континента.
Историография проблемы. Многие зарубежные, прежде всего англосаксонские, исследователи склонны видеть проявление советского влияния или его отсутствие исключительно в торгово-экономических отношениях СССР с латиноамериканскими странами/. Однако, на взгляд диссертанта, такой подход создает ограниченное и искаженное представление об этих отношениях. В самом деле, с 1955 по 1975 г. торговый оборот СССР с некоммунистическими странами Третьего мира (Азии, Африки и Латинской Америки) вырос с 304 млн., или 5,5% от его общего торгового оборота СССР, до 1.743,6 млн. рублей, или 11,9%. Но большая часть этого прироста происходила за счет Среднего Востока и Юго-Восточной Азии, доля которых в торговом обороте СССР с развивающимися странами увеличилась в 1955-1972 гг. с 42% до 81%. Со странами же Латинской Америки данный показатель выглядит куда
скромнее, составив в период с 1972 по 1973 г. 79,7 млн. рублей1, что не выдерживает никакого сравнения с товарооборотом между США и Латинской Америкой.
Чаще других в западной литературе встречается мнение, согласно которому в конце 60-х гг. Москва придерживалась одной из двух политических линий - политики военного пути и так называемой «правоверной», т.е. идеологической, политики". Конечно, неуступчивость Москвы по отношению к Вашингтону в период «Карибского кризиса» едва не ввергла в термоядерный конфликт весь мир. Но если сравнить последующее советское военное присутствие на Кубе (даже в сумме с советскими военспецами в Перу) с таким же американским присутствием во всей остальной Латинской Америке (в том числе в Гуантамо на Кубе), то вряд ли можно говорить о серьезном ослаблении позиций США. Нечего говорить и об определяющей роли идеологической политики СССР, которая многократно уступает активности американского идеологического проникновения в Латинскую Америку .
Некоторые западные ученые стремятся сочетать оба названных подхода, выделяя в качестве важнейших методов советского проникновения в Латинскую Америку как торгово-экономические, так и военно-идеологические средства . Но и в данном случае можно найти немало аргументов, противоречащих такой позиции.
По-видимому, более научный подход к проблеме наметился в советско-российской историографии, в особенности у тех авторов,
которые наряду с экономической, политической, дипломатической или военной уделяют внимание и культурной составляющей внешней политики СССР. Правда, исследований, осуществленных в таком ключе,
крайне мало1, и они писались тогда, когда не были еще открыты очень ценные источники (особенно РГАНИ). Невзирая на это, а также на то, что сфера культурных отношений еще не признана равнозначной другим внешнеполитическим сферам, этот подход обладает неоспоримым достоинством. Он позволяет «нащупать» многообразие советского внешнеполитического арсенала, а стало быть, и лучше понять, почему, несмотря на неизмеримо меньшие, чем у США, экономические и другие возможности СССР, Москве удавалось составлять на Латиноамериканском континенте возрастающую конкуренцию Вашингтону.
Цель данного исследования состоит в продолжении подхода, намеченного советско-российской историографией, и в попытке максимально полно реконструировать картину советско-латиноамериканских отношений, в том числе за счет изучения тех их аспектов, которые прежде освещались учеными мало либо не освещались вовсе.
Для достижения этой цели автор ставит в работе следующие задачи:
• рассмотреть аналитические разработки советских ученых, внесших решающий вклад в формирование общего представления в СССР об уровне развития, политических ориентациях и путях развития латиноамериканского общества;
• выявить воздействие данных разработок на формирование
теоретических постулатов компартий Латинской Америки;
• раскрыть «двойственность» советской внешней политики в Латинской Америке в зависимости от выдвижения на первый план проблем национального или социального освобождения народов континента;
• выявить основной советский инструментарий в реализации внешнеполитических задач, в том числе роль финансовой и иной материальной помощи латиноамериканским компартиям, пропагандистской и культурной работы советских учреждений в странах Латинской Америки.
Источники, которыми располагает любой специалист по истории международных отношений после Второй мировой войны, и в особенности интересующего нас периода, как правило, очень скудны. Это объясняется тем, что архивные документы в Латинской Америке открываются для исследователей не раньше, чем по прошествии 40 лет, а если в них содержатся государственные секреты, то не раньше, чем по прошествии 100 лет. Примерно так же обстоят дела с допуском исследователей к архивам в США и России. Поэтому, чтобы осуществить данное исследование, автору пришлось собирать материал буквально по крупицам.
Отчасти информацию дают опубликованные документы МИД СССР и мемуары его наиболее видного руководителя А.А. Громыко .
Диссертанту удалось также получить доступ к документам архивов Министерства иностранных дел Российской Федерации и МИД Франции2. Их сведения, хоть и разрозненные, но, как оказалось,
взаимодополняющие, позволили понять, насколько это возможно, внешнюю политику разных фигур мировой арены. Автор пытался также воспользоваться документами архивов министерств иностранных дел различных латиноамериканских стран, но столкнулся с серьезной проблемой, ибо документы МИД Аргентины, так же как и МИД Чили, по интересующему нас периоду по большей части были сожжены во время государственных переворотов 70-х годов.
Поскольку немалое место в работе уделено. взаимоотношениям Москвы с компартиями региона, самостоятельную группу источников составляют документы этих компартий или труды их руководителей3.
Но главный источник информации, без которого данное исследование было бы невозможно, автор получил в двух специальных российских архивах. С одной стороны, это Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), где находятся, в частности, культурные
фонды и фонды Министерства образования1. С другой стороны, это Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ)2, который содержит фонды ЦК КПСС.
Правда, фонды, о которых идет речь, неполны, многих документов в разных архивах советской эпохи не хватает, да и сами архивы открыли исследователям далеко все свои досье. Поэтому в целом мы располагаем лишь фрагментарными данными. Однако, сравнивая и анализируя различные данные из разных архивов, автору все же удалось выстроить более или менее полную документальную базу исследования.
Научная новизна. Эта работа входит в ряд. тех исследований, которые появились в последнее десятилетие и посвящены обновленному изучению истории советской внешней политики. Однако 1960-е годы в трудах такого рода были изучены лишь частично, и данная работа ставит целью восполнить этот пробел. Автор видит оригинальность избранного подхода в том, что в данной работе международные отношения изучены сквозь призму культуры, большое внимание отводится значению пропаганды, и не только в области политики и экономики, а сами эти области как бы отходят на второй план, что нетипично для большинства исторических трудов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается также в том, что оно впервые вводит в научный оборот неопубликованные архивные документы, которые прежде были недоступны большинству ученых.
Методологическая основа. В основу исследования положены принципы общенаучного и исторического познания - объективность, историзм и системность.
Вместе с тем, чтобы проводить политику, которая была бы выгодна не только Советскому Союзу, но также и латиноамериканским странам, Москва нуждалась в достаточно точном представлении об интересах, сложностях и перспективах, открывавшихся на Латиноамериканском континенте. Перейти к действию и наметить последовательную политику по отношению к своим новым партнерам Советскому Союзу во многом позволил глубокий анализ состояния континента в борьбе за национальное и социальное освобождение, проведенный советскими специалистами. Результаты проделанного ими анализа оказались столь точными, что им было суждено оказать решающее влияние на становление латиноамериканского направления в советской дипломатии. Поэтому методологические наработки советских ученых в изучении как экономических и политических, так и социальных проблем Латинской Америки вполне заслуживают того, чтобы быть названы еще одной отправной точкой данного исследования.
Научная и практическая значимость диссертации заключается в том, что использованный в ней актуальный и малоизученный материал, авторские оценки и выводы могут быть применены для дальнейшей научной разработки проблем истории внешней политики СССР в Латинской Америке, которая может оказаться полезной для ведомств, формирующих латиноамериканское направление российской внешней политики в современных условиях.
Данное исследование может быть также использовано при подготовке вузовских курсов и написании учебников и учебных пособий по теории и истории международных отношений.
Апробация диссертации. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов и была рекомендована к защите. Основные положения диссертации были изложены на научных и научно-практических конференциях: на конференции французских аспирантов Франко-Российсого центра общественных и гуманитарных наук.(2003-2004). Кроме того, результаты исследования нашли отражения в трёх научных публикациях во Франции.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка используемых источников и литературы.
Советские анализы социально-политического расклада в латиноамериканских обществах
Мучительные поиски советских исследователей адекватного объяснения латиноамериканской действительности и научного обоснования внешнеполитического курса СССР в Латинской Америке оказались особенно плодотворными в 1960-1970-е годы. Конечно, эти разработки начинались не на пустом месте. К тому времени у советских ученых уже имелись концепции национально освободительного движения, компрадорской и национальной буржуазии, слабости рабочего класса и громадного преобладания крестьянства в странах Азии и Африки. Следы их влияния обнаруживаются и на латиноамериканских исследованиях, проводившихся с 1961 года. Так, буржуазия рассматривалась как разнородная масса, имеющая множество противоречий между различными составляющими ее группами (индустриальная буржуазия, латифундистская буржуазия, монополистическая буржуазия). Если для некоторых советских авторов она в целом еще оставалась националистической, то все они были единодушны касательно ее «потенциала предательства». В том или ином виде эти тезисы встречаются у всех авторов. Но в наибольшей мере они характерны для В.В. Вольского, который продолжал выявлять там противоречия между местной буржуазией и иностранным империализмом .
Однако большинство советских ученых прекрасно уловило, что многие реалии Латинской Америки никак не вписывались в теоретические разработки для стран Азии или Африки. Поэтому их анализ роли различных социальных классов в Латинской Америке отражает, особенно в конце 60-х - начале 70-х гг., с одной стороны, традиции анализа 50-х гг., ас другой - новые элементы, с которыми этот анализ сталкивается в почти неведомой ученым части мира. Наиболее последовательным в отрицании «азиатско-африканской» традиции оставался А.Ф. Шульговский, который, в частности, давал более жесткие оценки классу буржуазии в Латинской Америке и даже обвинял ее (экс-«национальную») в тесных связях с монополиями. По его мнению, буржуазия как таковая окончательно утратила свою революционную роль даже там, где слабость рабочего класса еще значительна .
В анализе различных социальных классов советские специалисты всегда обращали особое внимание на рабочий класс. Сравнивая же латиноамериканскую ситуацию с ситуацией в остальном развивающемся мире, они приходили к заключению, что, несмотря на кажущееся сходство, социально-экономические структуры Азии, Африки и Латинской Америки сильно варьируют от одного континента к другому. И одно из главных отличий состояло в большей численности и лучшей организованности латиноамериканского пролетариата. Если в Латинской Америке рабочие и служащие в начале 70-х гг. составляли не менее 60% экономически активного населения, то в Южной и Восточной Азии -лишь треть, а в Тропической Африке - всего 12%2. Хотя латиноамериканские рабочие, по данным Шульговского, составляли 1/10 мирового пролетариата, на их долю приходилось 50% забастовок в мире .
Такие расчеты вносили коррективы в оценки латиноамериканистов по сравнению с оценками положения в странах Азии и Африки. Наименьшее расхождение1 между теми и другими оценками наблюдалось у таких авторов, как Гонионский, по мнению которого латиноамериканской национальной буржуазии еще было что сказать в качестве элемента «революционной демократии», а коммунистические партии в качестве местного авангарда с успехом могло заменить международное рабочее и социалистическое движение1. Согласно иным советским исследованиям, крупная национальная буржуазия пыталась поддерживать рабочий класс в борьбе против феодальной олигархии и одновременно сдерживать его борьбу как независимого класса. Несмотря на это, увеличение классового сознания пролетариата привело к тому, что рабочие стали определяющей силой в революционном процессе. Это случаи Кубы, Перу и Панамы . Однако наибольшую поддержку завоевала точка зрения Шульговского, который полагал, что, несмотря на достаточно высокий уровень развития, латиноамериканские рабочие должны были действовать в контексте, еще полном «феодальных пережитков», которые делали классовую борьбу одновременно антикапиталистической, антифеодальной и антимонопольной3.
Уже в данной точке анализа можно выделить некоторые базовые концепции советского представления о Латинской Америке. Этот континент, будучи наиболее развитым регионом Третьего мира, всё ещё был подвержен докапиталистическим противоречиям. А потому ему предстояло пройти антиимпериалистический и антифеодальный этапы, прежде чем подойти к этапу, где социалистический путь оказался бы жизнеспособным. В социально-политическом плане это означало, что, несмотря на уже существовавшие капиталистические противоречия, в повестке дня (и на неопределённое время) всё ещё стоял «многоклассовый» фронт.
Советская внешняя политика: между интересами государства и интересами революции
Минуло уже несколько лет со дня окончания короткого XX века. Период между Первой мировой войной и Октябрьской революцией, с одной стороны, и развалом Советского Союза и его системы «реального социализма» — с другой, рассматривался как борьба между коммунизмом и капитализмом, в которой основанием принадлежности к тому или иному лагерю являлось противопоставление одного другому, начиная с определённых идеологических постулатов.
Эта идеологическая дихотомия, воспринимаемая обоими лагерями как выражение борьбы между добром и.злом, определяла как внутренние политические процессы большей части стран земного шара, так и миропорядок в целом. Как никогда прежде в истории, внутренние политические процессы даже в периферийных странах, далёких от центров принятия глобальных решений, оказались в тесном кругу идеологической борьбы на международном уровне. Политическое мессианство и прозелитизм за рамками национальных границ, международная политика разной окрашенности и различной степени сплочённости, практика поддержки политических и идеологических сподвижников из центров идеологических блоков как на мировом, так и на региональном уровнях - всё это составляет неотъемлемую часть истории эволюции мировой системы на протяжении неспокойного XX века.
Возросший интерес Советского Союза к Латинской Америке после Второй мировой войны свидетельствовал о той важности, которую первое в мире социалистическое государство придавало развитию контактов с развивающимися странами в целом. Однако определяющими для его позиции оказывались текущее состояние и объективный потенциал конкретных развивающихся стран, варьировавший в зависимости от исторического момента и региональной ситуации. Если борьба в Африке или Азии наблюдалась советским руководством с неослабевающим интересом и, можно сказать, крупным планом, начиная с эпохи падения колониальных режимов, то Латинская Америка, похоже, не представляла для СССР и толики подобного интереса.
Объяснением этому служит наличие ряда факторов. Во-первых, латиноамериканский континент обрел независимость ещё в начале XIX века. Поэтому влияние освободительной борьбы, системного кризиса правящих режимов и сопровождающего его хаоса в обществе, т.е. та самая «освободительная» волна, которая позволяла СССР распространять свое влияние на новые регионы, на Американском континенте второй половины XX века уже казалась неактуальной.
С другой стороны, Латиноамериканский континент долгое время, практически начиная с момента провозглашения в 1823 г. «Доктрины Монро», рассматривался как эксклюзивная сфера влияния США. Иными словами, удаленность континента от СССР и господствующее положение США в этой части мира порождали нечто, подобное географическому фатализму. Однако первые попытки нарушить географическую предопределенность Москва предприняла, хотя и не очень удачно, едва ли не сразу после Октября 1917 г.
Октябрьская революция рассматривалась на Латиноамериканском континенте как событие первостепенной важности. Ее одобряла все возраставшая масса рабочих и крестьян континента, потому что она воплотила в себе те важнейшие социальные, политические и культурные требования, которые выдвигались и по всему континенту. Она манила креольских пролетариев, потому что они начинали осознавать себя как класс, и благодаря этому . профсоюзное рабочее движение политизировалось и вышло на международный уровень. Да и создание коммунистических партий в Латинской Америке вскоре после Октября являлось доказательством существенного уровня политизации нижних слоев общества, которые быстро группировались .вокруг конкретной политической программы, сулившей народам скорое социальное освобождение1. В свою очередь, и большая часть латиноамериканского общества наперекор зависимости от США начинала добиваться более важной роли для своих стран, чем роль основного поставщика сырья для индустриализации и создания богатства своего северного соседа.
Однако с момента Октябрьской революции и до последних дней СССР в конце 1991 года советская внешняя политика характеризовалась двойственностью, в основе которой лежало сочетание прагматических, и идеологических расчётов.
С одной стороны, речь шла о территориальном государстве, наследнике Российской империи, которое как таковое должно было строить свои международные отношения с другими территориальными государствами независимо от их политических и экономических укладов. Такая политика на советском идеологическом лексиконе получила название «мирного сосуществования», и при определении поведения
СССР на международной арене её реальный вес постоянно возрастал на протяжении всей его истории.
Но, с другой стороны, Советский Союз не мог мыслить себя иначе, чем «первым социалистическим государством на Земле» и «оплотом социализма», по пути которого, как тогда считалось, пойдут все народы земного шара. Ведь после захвата власти большевики еще долго воспринимали свою революцию как преамбулу к европейской и мировой революции. И, хотя позднее другие страны не последовали немедленно за Россией, содействие пришествию «мировой революции» оставалось одной из приоритетных задач внешней советской политики, а созданный в 1919 году Коммунистический Интернационал - одним из инструментов «образования по всему миру коммунистических партий», их «обучения» и оказания помощи на путях мировой революции.
Место латиноамериканских компартий в предоставлении советской финансовой помощи международному коммунизму
Из этой материальной и финансовой помощи лишь наличные выдачи, часть приглашений и стипендий официально и напрямую исходили из средств Центрального комитета КПСС. Остальной частью формально распоряжались профсоюзы, молодёжные, женские, театральные, писательские организации, институты культуры, общества дружбы и т.д., адресатами которых являлись идентичные организации, связанные с покровительствующими партиями. Сравнительно недавно, в эпоху Горбачёва, эти советские организации приступили к установлению своих международных контактов вне рамок «братских партий»; до этого даже приглашения видных иностранных общественных деятелей осуществлялись исключительно с согласия или по рекомендации коммунистических партий своих стран.
Поскольку стоимость значительной части операций по линии этого сотрудничества исчислялись в рублях и в искусственных советских ценах (включая полёты на советских самолётах, пребывание в СССР, изготовление пропагандистского материала на советских предприятиях, экипировочные подарки и т.д.), трудно выразить эту стоимость в единицах международного измерения. Одним из немногих случаев, где можно прооперировать точными цифрами, является, следовательно, прямая финансовая помощь. Эта форма отношений между КПСС и коммунистическими партиями уходит корнями во времена создания Коминтерна и на протяжении его существования осуществлялась по собственным каналам.
Используемые в этой главе документы заимствованы из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ). Оба центра являются составной частью системы архивов Российской Федерации. Первый из них является бывшим архивом Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и хранит документацию, относящуюся к периоду, который ведёт отсчёт с момента возникновения первых социалистических кружков России середины XIX века до смерти Сталина в 1953 г. В него были переданы на хранение архивные материалы Коммунистического Интернационала (Коминтерна) после его роспуска в 1943 г. Второй - это архив текущей документации ЦК КПСС, расположенный территориально в одном из зданий, составлявших комплекс Центрального Комитета. В нём собраны документы, касающиеся политической истории советского времени, которые отражают повседневную жизнь ЦК партии, а также материалы, поступившие в адрес этого директивного советского органа со стороны других институтов страны в период с 1953 по 1991 год.
Оба архива вплоть до начала 90-х годов являлись совершенно секретными и недоступными для иностранных и даже большинства своих и исследователей. В обстановке хаоса и вакуума власти, вызванных фатальным кризисом СССР во второй половине 1991 и начале 1992 годов, все советские архивы оказались открытыми и этим моментом воспользовались исследователи и журналисты, которые выдали первые громкие публикации, основанные на данных этих архивов. Однако уже к концу 1992 г., по мере того как институировалось новое правительство Российской федерации, .архивная служба была подвергнута более строгому контролю специально принятым постановлением. Новый советский закон о государственных архивах установил 30-летний период сокрытия секретных данных, по истечении которого все документы подпадают под право на опубликование.
Тем не менее, некоторые учреждения, в первую очередь связанные с внешней деятельностью страны, потребовали право на использование его по своему усмотрению, аргументируя это национальными интересами России. Таким образом, получается, что большая часть документов, связанных с деятельностью Министерства иностранных дел СССР, Международного отдела ЦК Коммунистической партии СССР и других аналогичных институтов, вновь оказалась «закрытой» для исследователей.
Итак, по мере отхода «мировой революции» на второй план советской внешней политики, Одновременно с «интернациональными эмиссарами» и чистками, направляемыми из Москвы, остаются в прошлом чрезвычайные «вклады», предназначенные коммунистическим партиям для особых целей, одобряемых каждый раз особым образом руководящими органами Коминтерна или Коммунистической партией Советского Союза. Вместо этого, для оказания финансовой помощи коммунистическим партиям капиталистических стран с 1948 года был создан так называемый «Международный профсоюзный фонд помощи рабочим организациям левого движения» (который мы далее будем именовать как Фонд или Международный фонд) с первичной штаб-квартирой в Бухаресте, который начал ежегодно перечислять определённые суммы в конвертируемой валюте коммунистическим партиям. Деньги на это шли якобы от всего «социалистического лагеря» и помощь осуществлялись от его имени. Однако подавляющая часть годового бюджета Фонда поступала от КПСС и в меньшем объёме, до конца 50-х годов, - от Коммунистической партии Китая1. Вклад коммунистических партий восточноевропейских социалистических стран был меньшим и к тому же сопровождался обилием объяснительных записок в оправдание невыполнения обещанных взносов со ссылками на ту или иную внутреннюю проблему, что обнаруживает их слабую заинтересованность в том, чтобы «оплачивать революционную дань» и принимать участие в политике советских интересов. Дух отношений КПСС с правящими коммунистическими партиями Восточной Европы проявлялся в том, что размеры взносов каждой партии-донора определялись ЦК КПСС и «предложениями» других вовлечённых партий. Лишь в отношении КП Китая имеются упоминания о необходимости «обсуждения» предложенных средств через посредство советского посла в Пекине2.
О состоянии Пропагандистская работа Агентства печати Новости в странах Латинской Америки
В различных публикациях, посвященных тому почти 30-летнему периоду советской внешней политики, когда ее возглавлял А.А. Громыко, его имя напрямую мало связывалось с Латинской Америкой. На первый взгляд, такая постановка вопроса, возможно, могла бы иметь свои основания: за период 1957— 1985 годов, будучи министром иностранных дел, Громыко только один раз побывал в Латинской Америке— в 1974 году, когда в составе советской делегации сопровождал Л.И. Брежнева на Кубу. Он не посвятил ни одного из своих выступлений специально Латинской Америке (если1 не считать таковых во время визитов в СССР его латиноамериканских коллег). Скромно проходит латиноамериканская тема и в его воспоминаниях. Этот далекий регион, по мнению очень многих зарубежных авторов , не входил у Громыко в систему его внешнеполитических приоритетов. Однако со всеми этими точками зрения можно и следует, на наш взгляд, с полным основанием поспорить.
Во-первых, важно подчеркнуть, что Советский Союз проводил свою внешнюю политику, исходя не только из значимости и влияния в мире тех или иных держав, но и из учета своих реальных возможностей, ресурсов, позиции тех или иных стран. Это положение в полной мере применимо и к Латинской Америке. Во-вторых, Латинская Америка не была для Громыко «терра инкогнита». Еще на заре своей дипломатической деятельности— не только в силу профессиональных знаний и подготовки, но и потому, что не раз встречался с латиноамериканскими дипломатами, начиная с военных лет, во время работы в Вашингтоне. Андрей Андреевич имел хорошие возможности видеть и слышать их на учредительной сессии ООН в Сан-Франциско в 1945 году. Наверняка еще тогда у него сложилось определенное мнение о представителях латиноамериканской дипломатии. Впоследствии он более близко познакомился со многими из них. Малоизвестно, что, будучи назначенным послом СССР в США,. Громыко по совместительству исполнял обязанности и посла на Кубе и ездил в декабре 1943 года в Гавану вручать свои верительные грамоты.. Это была первая, хотя и кратковременная, из двух поездок в Латинскую Америку1.
Громыко занял пост министра иностранных дел СССР в феврале 1957 года, когда в холодной войне намечались только первые и слабо ощутимые признаки оттепели.
Что касается состояния тогдашних советско-латиноамериканских отношений, то они в полной мере испытали на себе пагубное влияние этой войны. К началу 1957 года СССР поддерживал дипломатические отношения только с Мексикой, Аргентиной и Уругваем (в то время как в 1946 г.- с 14 странами Латинской Америки).
Перед Советским Союзом и его внешнеполитическим ведомством стояла задача приступить к укреплению позиций СССР в мире, начать уходить от «холодной войны», а для этого один из наилучших путей заключался в налаживании и расширении дипломатических отношений с зарубежными странами, в поиске каналов взаимопонимания. Под руководством Громыко такой подход стал в полной мере претворяться в жизнь и на латиноамериканском направлении. Первым шагом здесь стало налаживание с 1958 года межпарламентского обмена: в Бразилию и Уругвай направились первые делегации Верховного совета СССР. Хотя такой обмен являлся прерогативой Верховного Совета, условия для его осуществления были созданы благодаря деятельности МИД СССР, возглавлявшегося А.А Громыко. Именно при Громыко и под его руководством начался процесс восстановления того, что было утеряно во время «холодной войны», затем реализация ранее установленных дипломатических отношений, и. наконец, к концу его пребывания на посту министра иностранных дел, СССР имел развитые отношения практически со всеми государствами Латинской Америки, последовательно восстановил дипломатические отношения с Кубой (1960 г., а до этого он одним из первых — в начале 1959 г. — признал ее новое революционное правительство), Бразилией (1961 г.). Чили (1964 г.), Колумбией (1968 г.). Венесуэлой (1970 г.). Далее состоялся обмен посольствами с Боливией (1969 г.), Коста-Рикой (1970 г.), были установлены дипломатические отношения с Перу (1969 г.), Гайаной (1970 г.). Тринидадом и Тобаго (1974 г.), Суринамом и Ямайкой (1975 г.). После кончины А.А. Громыко дипломатические отношения были восстановлены с Чили в 1990 г. и установлены с Парагваем в 1992 г. т.е. всего с двумя странами.
В нормализации всех этих отношений — несомненная заслуга Громыко. В этом ему помогали огромный опыт, знание международных отношений и, видимо, интуиция. Так, он не побоялся пойти на установление дипломатических отношений с Перу вскоре после того, как к власти там пришло правительство военных, которых на первых порах не только за рубежом, но и в СССР по привычке воспринимали как очередных «военных горилл». В действительности же это правительство представляло патриотически настроенных военных.
Благодаря работе, проделанной Министерством иностранных дел именно при Громыко, начались официальные визиты в СССР высоких латиноамериканских гостей. (Мы здесь не говорим о социалистической Кубе, руководители которой неоднократно бывали в СССР с начала 60-х гг.). Начало было положено первым в истории визитом в Советский Союз из капиталистической Латинской Америки министра иностранных дел Мексики Каррильо Флореса (1968 г.). А спустя пять лет, в 1973 году, в СССР также впервые состоялся официальный визит главы латиноамериканского государства — президента Мексики Луиса Эчеверрии. Потом такие визиты латиноамериканских президентов проходили уже не раз, и всегда в переговорах с ними Громыко принимал самое активное участие.
Именно Громыко ввел в постоянную практику регулярные встречи со своими зарубежными коллегами на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, которые в полной мере относятся и к латиноамериканским представителям. И после него эта практика претворяется в жизнь уже российскими дипломатами. Такой же регулярный характер приобрела во времена Громыко и система консультаций со странами Латинской Америки по линии МИД.