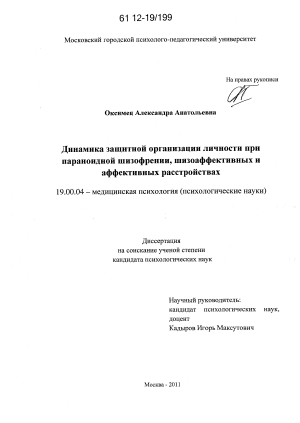Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Теоретический анализ проблемы психологической защиты личности .
1.1. Развитие концепции психологической защиты личности
Понятия «психологическая защита» и «защитный механизм».
Систематизация защитных механизмов: классификация, определения, уровни зрелости, мотивы, активизирующие защиту .
Защитные механизмы и копинг-стратегии.
Актуальное состояние проблемы психологической защиты
Введение в проблему исследования защитной организации личности.
Предпосылки исследования защитной организации личности при шизофрении и
аффективных расстройствах
Клинико-психологическая характеристика изучаемых психических расстройств. Их рассмотрение в психиатрии, нейронауках и психологии
Определения изучаемых расстройств
Этиология и патогенез изучаемых психических расстройств. Биологические, психологические и биопсихосоциальные концепции.
Объектные отношения, примитивные защитные механизмы и их роль в формировании и поддержании психопатологического процесса при параноидной
шизофрении, аффективных и шизоаффективных расстройствах
Понятия «внутренний объект» и «бессознательная фантазия»
Параноидо-шизоидная и депрессивная позиции и примитивные защитные механизмы
Психологическая защита и тяжелые психические расстройства Защитная организация личности
Постановка проблемы исследования, операционализация понятия «защитная организация личности» и формулирование гипотез исследования динамики защитной организации личности
Постановка проблемы исследования динамики защитной организации личности при параноидной шизофрении, аффективных и шизоаффективных расстройствах
Методологические основы исследования защитной организации личности при параноидной шизофрении, шизоаффективном и аффективном расстройствах
Ситуация диагностико-терапевтического интервью как динамическое поле
Психическая диспозиция - единица анализа динамики защитной организации личности
Уровневое строение защитной организации личности
Операционализация понятия «защитная организация личности»
3.2. Типы «психических диспозиций»
Эмпирическое исследование динамики защитной организации личности у пациентов с параноидной шизофренией, аффективными и шизоаффективными расстройствами
Объект, предмет, цели и задачи исследования
Описание парадигмы и схемы эмпирического исследования динамики защитной организации личности и характеристика обследуемых групп
Характеристика обследуемых групп.
Материалы и методы исследования
Психодинамическое интервью
Модифицированный метод Конфигруационного Анализа (КА).
Проективные методики: Тематический апперцептивный тест. Тест ранних воспоминаний, Рисунок человеческой фигуры
Изложение результатов эмпирического исследования динамики защитной организации личности у пациентов с параноидной шизофренией, шизоаффективными и аффективными расстройствами .
Количественный анализ динамики защитной организации личности у пациентов с параноидной шизофренией, аффективными расстройствами и шизоаффективным психозом
Качественный анализ защитной организации личности пациентов на материалах единичных случаев. Клинические иллюстрации
Случай аффективного расстройства
Случай параноидной шизофрении
Случай шизоаффективного расстройства
Обсуждение результатов эмпирического исследования
Обобщенная характеристика и обсуждение психодинамических профилей защитной организации личности при параноидной шизофрении, аффективных и шизоаффективных расстройствах по результатам качественного и количественного исследования
Обсуждение результатов статистического и качественного сравнения динамики защитной организации личности трех групп
Заключение
Выводы
Список литературы
Приложения 66 68
- Систематизация защитных механизмов: классификация, определения, уровни зрелости, мотивы, активизирующие защиту
- Клинико-психологическая характеристика изучаемых психических расстройств. Их рассмотрение в психиатрии, нейронауках и психологии
- Методологические основы исследования защитной организации личности при параноидной шизофрении, шизоаффективном и аффективном расстройствах
- Изложение результатов эмпирического исследования динамики защитной организации личности у пациентов с параноидной шизофренией, шизоаффективными и аффективными расстройствами
Введение к работе
Психологическая защита является узловым понятием психологии и не
перестает быть актуальным предметом исследований (Schafer,1968; Rycroft,
1961; Plutchik, 1980; Соколова, Николаева, 1995; Соколова, 2007; Исаева,
1999; 2010). Для клинической психологии понятие «психологическая
защита» является сквозным: действие психологической защиты
обнаруживается практически в каждом психическом процессе (Hentschel &
all, 2004); она определяет уровень функционирования личности (Кернберг,
2001); различные психические расстройства могут быть поняты как
варианты защитной стратегии (Менцос, 2001); без понимания защитных
процессов личности невозможно оказание эффективной
психотерапевтической помощи.
На сегодняшний день описаны защитные механизмы как зрелого, так и примитивного уровня (Фрейд, 2003; Мак-Вильяме, 2003; Соколова, 1987), описаны пациенты, для которых свойственны различные защитные стратегии (Гульдан, 1975; 1989; Гаранян, Холмогорова, 1996; Холмогорова, 2003; Гаранян, 2011), предложены методики и схемы для диагностики защитных механизмов (Lerner & Lerner, 1980; Plutchik, 1980). Реестр защитных механизмов сегодня включает более ста наименований (Blackman, 2004). И хотя такой подход оправдан, с нашей точки зрения, дробление психологической защиты на отдельные частные защитные действия затрудняет целостное понимание данного феномена. Последнее требует подойти к психологической защите как к целостной динамической защитной организации личности. Именно это обуславливает теоретическую актуальность изучения защитной организации личности как многоуровневого интра- и интерпсихического образования, которое встроено в целостное функционирование личности и связано с эмоциональной жизнью и объектными отношениями личности (Кадыров, Оксимец, 2010).
Для клинической психологии актуальным является вопрос, как психологическая защита встраивается в личностную организацию при психических расстройствах. Параноидная шизофрения, аффективные и шизоаффективные расстройства сопровождаются серьезными нарушениями в личностной сфере, которые прямо или косвенно связаны с защитным функционированием. Поэтому они могут служить естественными моделями для исследования защитной организации личности. Разработка подхода к исследованию защитной организации личности и его реализация на моделях этих расстройств позволит изучить структурно-динамические характеристики защитной организации личности, что обуславливает общепсихологический аспект актуальности исследования.
Наше исследование нацелено на выявление нозоспецифических и нозонеспецифических параметров защитной организации личности, что реализует чрезвычайно важный для клинической психологии дифференциально-диагностический аспект актуальности исследования. Дифференциальная диагностика психических расстройств и уровней организации личности полагается на исследование защитных механизмов как один из диагностических критериев. Однако, как показывает теоретико-методологический анализ литературы и клинический опыт, в психическом функционировании каждого пациента сосуществуют как зрелые, так и примитивные защитные механизмы и уровни интеграции идентичности (Bion, 1957; Steiner, 2011; Кадыров, 1996). Поэтому детальное исследование профиля защитной организации становится чрезвычайно важной и сложной задачей. Сложности, с которыми сталкивается исследование защит у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, связаны с тем, что бессознательная природа защитных механизмов делает их малодоступными для методов, преимущественно ориентированных на изучение психических содержаний осознаваемого уровня. Кроме того, психологическая защита чрезвычайно подвижна и динамична. Традиционные же психодиагностические исследования, как правило, фиксируют лишь
поверхностный слой той или иной защиты в ее статическом срезе. Разработанная схема исследования защитной организации личности, учитывающая ее бессознательную природу и многоуровневую организацию, может служить диагностическим инструментом, позволяющим прослеживать патологические защитные структуры во время первичных интервью, патопсихологического исследования и в ходе психотерапии. Кроме этого, практическая актуальность исследования определяется задачами диагностики и оказания психологической помощи. При психотерапевтическом сопровождении лечения пациентов с шизофренией, аффективными и шизоаффективными расстройствами фундаментальной задачей является исследование способов, которыми человек достигает интеграции эмоционального опыта. При этом, важно исследовать особенности защитной организации личности, которые могут, как служить адаптации, так и суживать возможности реализации личностного потенциала в ответ на возникновение тревоги, страха и других эмоций отрицательного спектра.
Теоретическая значимость работы
Впервые сформулировано понятие «защитная организация личности», что позволяет отделить его от понятия «психологическая защита», зарезервированного за определением совокупности защитных механизмов. Под защитной организацией личности мы понимаем динамическую многоуровневую систему интра- и интерпсихических образований и процессов, выполняющую задачу регулирования уровня тревоги и труднопереносимых аффективных состояний, которые угрожают нарушением чувства психического равновесия и психологической безопасности. Составляющие ее интра- и интерпсихические образования -психические диспозиции - представляют собой определенные констелляции субъект-объектных отношений, типов ведущих тревог и защитных механизмов. Конкретная психическая диспозиция в данный момент времени является ведущей, а другие - фоновыми. Разработана типология
«психологических диспозиций», которая учитывает уровень интеграции репрезентаций себя и объекта, характер и аффективный климат отношений между субъектом и объектом, характер тревог и защитные механизмы личности.
Эмпирически установлен факт многоуровневого строения защитной организации личности. Показано, что в динамическом профиле защитной организации личности пациентов всех групп важную роль играют переживания потери объекта. Определено, что структурно-динамические профили защитной организации у пациентов с параноидной шизофренией, шизоаффективными и аффективными расстройствами различаются по соотношению ведущих и фоновых уровней интеграции идентичности и переходов между ними. Ведущими при аффективных расстройствах являются уровни псевдоинтеграции и целостного функционирования и переходы между ними; в структурно-динамическом профиле защитной организации личности при параноидной шизофрении ведущие позиции принадлежат уровням биполярного расщепления и псевдоинтеграции и переходам между ними; при шизоаффективных расстройствах выявляется три ведущих уровня интеграции идентичности - биполярное расщепление, псевдоинтеграция и уровень целостной идентичности.
Результаты проведенного исследования дополняют представления о
структурно-динамических характеристиках психического
функционирования пациентов с параноидной шизофренией, аффективными и шизоаффективными расстройствами и вносят вклад в обсуждение проблемы унитарности психозов.
Научная новизна
Предложен новый подход к исследованию психологической защиты личности, ориентированный на изучение не только отдельных механизмов защиты, но и на детальное исследование целостной защитной организации в ее интра- и интерперсональной динамике. Впервые предложено определение понятия «защитная организация личности».
Разработана оригинальная схема исследования защитной организации личности, базирующаяся на методологических принципах динамического подхода. В этих целях предложена новая типология психических диспозиций, позволяющая проводить качественное и количественное исследование защитной организации личности.
Впервые проведено исследование динамики защитной организации личности на группах пациентов с параноидной шизофренией, аффективными и шизоаффективными расстройствами. Получены новые данные, позволившие описать структурно-динамические особенности защитной организации личности, характерные для пациентов с исследуемыми расстройствами.
На основе эмпирического сравнения пациентов с параноидной шизофренией, аффективными и шизоаффективными расстройствами выявлены нозоспецифические и нозонеспецифические характеристики профилей защитной организации.
Практическое значение работы
Полученные данные обладают практической ценностью в отношении прикладных задач клинико-психологической диагностики и оказания психологической помощи пациентам с психическими расстройствами. Изучены структурно-динамические характеристики защитной организации личности, что позволяет определять мишени коррекционного воздействия при психотерапевтическом сопровождении лечения пациентов с параноидной шизофренией, аффективными и шизоаффективными расстройствами.
Предложенный подход к эмпирическому изучению динамики защитной организации личности позволяет исследовать способы поддержания психологического баланса пациента и «пусковые механизмы» его нарушения. Разработанная типология психических диспозиций позволяет дифференцированно описывать личностную сферу пациентов с психическими расстройствами, что расширяет возможности
дифференциальной диагностики как внутри расстройств психотического спектра, так и расстройств пограничного и невротического уровня.
Клинический опыт показывает, что консультация психолога может использоваться для углубления понимания своего психологического состояния и активации личностного роста. В то же время, защитное избегание подобных открытий может препятствовать интеграции и стагнировать развитие личности. Действие защитной организации личности во всей полноте проявляется в психотерапевтическом процессе (Joseph, 1989; Стайнер, 2010). Предложенная нами типология психических диспозиций дает возможность выявлять целые модусы эмоциональных состояний, которые в разное время могут играть как защитную, так и побуждающую к защите роль, и описывать логику и динамику переходов между ними. При помощи данной типологии можно проводить диагностику патологических и сохранных звеньев в структуре организации личности пациента. Все это позволяет точнее выстраивать стратегии психологической помощи, ориентированной на индивидуальные особенности конкретного пациента. Обнаружение патогенных звеньев в структуре личности позволяет определять «мишени» психотерапевтического воздействия; а способности к интегрированному режиму функционирования - делать предположения о перспективах лечения.
Теоретико-методологическая основа исследования Предпринятое в настоящей работе исследование защитной организации личности и лежащих в ее основе бессознательных механизмов опирается на методологические положения психодинамического подхода, которые реализуются в современной теории объектных отношений (Joseph, 1989; O'Shaugnessy, 1981; Bion, 1951); в динамической психологии К. Левина; а также в отечественной патопсихологии, основывающейся на принципе системного качественного анализа нарушений психической деятельности, проявляющихся в актуальном динамическом «поле» патопсихологического
эксперимента (Зейгарник, 1986; 1987; Рубинштейн, 2000; Соколова, 1987; Соколова, Николаева, 1995).
Предложенные К. Левиным принципы психодинамического подхода к изучению психических процессов, явлений и образований используются нами для разработки схемы эмпирического исследования. Конкретно, мы опирались на идею о психодинамическом поле, принцип сочетания в едином исследовании объективных и субъективных фактов, а также принцип включенности исследователя в изучаемое динамическое поле (Левин, 2001; Зейгарник, 1986).
В нашей работе мы следуем установке на анализ иерархических взаимосвязей между функциональными системами или уровнями психического функционирования (Левин, 2000; Бернштейн, 1990; Бион, 2009) и применяем принцип анализа, расчленяющего на единицы (Выготский, 2005).
Цель исследования: изучение динамических особенностей защитной организации личности при параноидной шизофрении, аффективных и шизоаффективных расстройствах. Задачи исследования
1. Теоретико-методологический анализ проблемы психологической защиты
личности с целью:
а) операционализации понятия «защитная организация личности»;
б) обоснования концептуализации защитной организации как
динамического многоуровневого личностного образования;
в) выделения единицы анализа целостной защитной организации
личности.
Разработка типологии психических диспозиций, учитывающей уровни интеграции идентичности и типы субъект-объектных отношений.
Построение схемы эмпирического исследования динамики защитной организации личности у пациентов с параноидной шизофренией, аффективными и шизоаффективными расстройствами.
4. Исследование динамики защитной организации личности у пациентов с параноидной шизофренией, шизоаффективными и аффективными расстройствами с целью выделения основных характеристик структурно-динамического профиля защитной организации личности, специфичных для исследуемых психических расстройств.
Объект исследования: личностная сфера пациентов, имеющих диагноз «параноидная шизофрения», «аффективное расстройство» и «шизоаффективное расстройство».
Предмет исследования: динамика защитной организации личности при параноидной шизофрении, аффективных и шизоаффективных расстройствах.
Гипотезы исследования:
Общим для пациентов с диагнозами «параноидная шизофрения», «шизоаффективное расстройство» и «аффективное расстройство» является многоуровневое строение защитной организации личности.
Пациенты с параноидной шизофренией, шизоаффективными и аффективными расстройствами различаются по психодинамическому профилю защитной организации личности, который характеризуется специфической конфигурацией психических диспозиций и динамикой переходов, как внутри, так и между различными уровнями личностной интеграции.
Характеристика испытуемых
Исследование проведено на базе НЦПЗ РАМН и ПБ №14 г. Москвы. В исследовании приняли участие 58 человек (27 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 18 до 52 лет. Большинство пациентов имели высшее и среднее специальное образование. Все пациенты получали фармакотерапию. Критериями включения пациентов в выборку послужили следующие показатели:
- наличие психиатрического диагноза, подпадающего под следующие рубрики в МКБ-10: параноидная шизофрения (F-20.0), шизоаффективные
расстройства (F-25-), расстройства настроения (аффективные расстройства) (F-30-39);
- отсутствие диагноза, подпадающего под следующие рубрики в МКБ-10: органические, включая симптоматические, психические расстройства (F-00 — F-09) и умственная отсталость (F-70 — F-79);
В основной серии исследований, посвященной изучению динамки защитной организации у трех групп пациентов - с параноидной шизофренией, с аффективными расстройствами и с шизоаффективными расстройствами, приняли участие 43 человека; в дополнительной серии исследований, посвященной проверке гипотезы о связи выявленных различий с тендером, приняли участие 15 человек.
Обследуемая выборка основной серии исследований разделена на три группы по признаку клинического диагноза. Диагнозы верифицировались научными сотрудниками отделений, в которых пациенты проходили лечение. Первую группу составили 18 пациентов с диагнозом «параноидная шизофрения» (F-20,0 МКБ-10). Во вторую группу вошли 14 пациентов с диагнозом «аффективное расстройство» (F-30-39, МКБ-10). Третью группу составили 11 пациентов с диагнозом «шизоаффективное расстройство» (F-25, МКБ-10).
В дополнительной серии исследований приняли участие 15 пациентов с диагнозом «параноидная шизофрения» (F-20,0 МКБ-10), в возрасте от 30 до 50 лет. Средний возраст - 39 (± 9,5) лет. Выборка была разделена на 2 группы: в первую группу вошли 7 мужчин, во вторую - 8 женщин.
Методы исследования
В диссертационном исследовании реализована схема, сочетающая метод диагностико-терапевтического интервью (Кадыров, И, Чередниченко, 2003) с проективными методиками, и качественные и количественные методы анализа эмпирического материала. В целях качественного анализа полученных данных применяется метод Конфигурационного Анализа (Horowitz, 1984) совместно с разработанной нами типологией психических
диспозиций (Кадыров, Оксимец, 2010). Полученные в результате Конфигурационного анализа данные далее подвергнуты количественному анализу с применением методов описательной статистики и непараметрических статистических критериев сравнения. Автор приносит благодарность за помощь в статистической обработке данных доктору философских наук, профессору кафедры методологии психологии МГУ имени М.В. Ломоносова А.Н. Кричевцу.
В качестве дополнительных методов сбора материала выступил набор проективных методик: тест ранних воспоминаний (ТРВ), рисунок человеческой фигуры (РЧФ) и тематический апперцептивный тест (ТАТ). Для анализа полученного проективного материала использовались: предложенная Кисееном схема анализа материалов ТРВ совместно с материалами РЧФ, позволяющая делать выводы об особенностях идентичности и системы объектных отношений индивида (Kissen,1980); типология психических диспозиций, разработанная в целях исследования защитной организации личности (Кадыров, Оксимец, 2010).
Проанализировано 177 протоколов интервью, 132 протокола проективных методик.
Достоверность полученных данных и обоснованность выводов обеспечена большим числом наблюдений, использованием наиболее адекватных для изучения защитной организации личности методов получения эмпирического материала, сочетанием качественного анализа со статистической обработкой данных с применением непараметрических критериев Н Краскула-Уолиса и U Манна-Уитни. Статистический анализ производился с применением пакета STATISTICA 9.0 и приложения Microsoft Office Excel, 2007.
Положения, выносимые на защиту 1. Защитная организация личности является многоуровневым, целостным, динамически изменяющимся образованием и включает в себя определенные типы объектных отношений, ведущих тревог и защитных
механизмов, которые регулируют уровень тревоги и труднопереносимые аффективные состояния, представляющие угрозу чувству психологической безопасности, и поддерживают привычную систему представлений о себе и значимых других.
Защитная организация личности у пациентов с параноидной шизофренией, аффективными и шизоаффективными расстройствами включает в себя интра- и интерпсихические образования и процессы, характерные для следующих уровней интеграции идентичности: спутанность, биполярное расщепление, псевдоинтеграция, целостная идентичность, интегрированный уровень.
Структурно-динамические профили защитной организации личности определяются соотношением ведущих и фоновых уровней интеграции идентичности и переходов между ними. При этом:
а) в профилях защитной организации пациентов с параноидной
шизофренией ведущими уровнями интеграции идентичности являются
уровень биполярного расщепления и псевдоинтеграции;
б) в профилях защитной организации личности пациентов с
аффективными расстройствами ведущие позиции принадлежат
уровням целостной идентичности и псевдоинтеграции;
в) в профилях защитной организации пациентов с шизоаффективными
расстройствами ведущими являются уровни биполярного
расщепления, псевдоинтеграции и целостной идентичности.
4. Разработанная типология и схема позволяют проводить анализ защитной
организации личности и могут применяться в дифференциальной
диагностике пациентов с параноидной шизофренией и аффективными
расстройствами.
Апробация работы
Диссертация обсуждалась на заседании кафедры Клинической психологии и психотерапии факультета психологического консультирования
МГППУ (ноябрь, 2010) и на заседании кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова (март, 2011).
Основные результаты исследования представлены на: IX научно-практической конференции молодых ученых и студентов учреждений высшего и среднего образования городского подчинения «Молодые ученые - российскому образованию» (Москва, апрель 2010 г.); V научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной науки и образования» (Красноярск, декабрь 2010 г.); XV съезде психиатров России; (Москва, ноябрь 2010 г.); X юбилейной научно-практической конференции молодых ученых и студентов учреждений высшего и среднего образования городского подчинения «Молодые ученые нашей новой школе» (Москва, апрель 2011 г.).
Результаты исследования используются в учебных курсах «Личностные расстройства», «Введение в психоаналитическую диагностику» и «Введение в психоаналитическую психотерапию», читаемых на факультете психологии МГУ имени Ломоносова.
По материалам диссертации опубликовано 4 работы; из них 3 в изданиях, рекомендованных ВАК.
Объем и структура диссертации
Систематизация защитных механизмов: классификация, определения, уровни зрелости, мотивы, активизирующие защиту
Помимо примитивных и зрелых защитных механизмов среди техник психологичеекой защиты принято выделять, так называемые, копинг-стратегии. Последние получили большое освещение в современной психологической литературе и не переетают быть предметом интереса многих исследователей. Появление нового понятия и целого направления исследований воеходит к теоретическим и эмпирическим разработкам двух психологических направлений - Эго-психологии и психологии стресса Фолкмана и Лазаруса.
Эго-психология, сфокусировав внимание на исследовании Эго как частично автономной от Ид структуры, высветила функцию адаптации и поддерживания целостности Эго при взаимодействии с социальной реальностью. В этой модели, наряду с бессознательными защитными механизмами, подчиняющимися логике первичного процесса, выделяются так же относительно свободные от влияния влечений, более гибкие и индивидуализированные, возникающие при посредничестве семьи, механизмы адаптации. Дальнейшая концептуализация и изучение последних получила развитие в направлении исследований на стыке психоанализа и когнитивной психологии, предметом которых являются копинг-стратегии, механизмы контроля и аффективно-когнитивные стили (Соколова, 2007; 2009, Исаева, 2010).
Понятие "coping" происходит от английского "to соре" (преодолевать), и используется в современной психологии для обозначения индивидуального способа взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями. (Нартова-Бочавер, 1997). Впервые данное понятие возникло в психологии стресса Лазаруса и Фолкман, и было определено как сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых индивидом для ослабления влияния стресса. Со временем, как пишет Нартова-Бочарвер, понятие "оторвалось" от проблематики экстремальных условий и стало успешно применяться для описания поведения людей в поворотные жизненные моменты (Life Events), а затем - в условиях хронических стрессоров и повседневной действительности. Хотя в современной психологической литературе понятия «coping» и «защитный механизм» часто смешиваются и употребляются взаимозаменяемо, что вносит дополнительную путаницу в разнообразные классификации, существуют критерии разделения этих двух понятий. Показано, что механизмы совладания отличаются от защитных механизмов, тем, что первые принципиально доступны сознанию, тогда как вторые бессознательны. При этом, механизмы совладания (coping) являются активными и конструктивными версиями защитных механизмов (Соколова, 2007; Романова, Гребенников, 1990).
Таким образом, исходя из разделения защитных механизмов на примитивные и зрелые, а также на защитные механизмы, как бессознательные феномены, и копинги, как принципиально доступные осознанию стратегии, мы можем говорить об уровневом строении психологической защиты личности.
Актуальное состояние проблемы психологической защиты Со временем, возникшая в психоанализе концепция психологической защиты вышла далеко за его пределы и в том или ином виде включена в большинство современных теорий личности. В каждом психологическом направлении предлагаются свои определения психологической защиты и классификации защитных механизмов, по-разному видится функция психологической защиты. Многообразие понятийных систем, разработанных разными теориями личности, изучающими вопрос генеза, структуры и функций защитных механизмов, затрудняет обзор всех концептуализаций данного феномена (Соколова, 2007).
Нет однозначного согласия относительно статуса защитных механизмов с точки зрения нормы и патологии. В то время как одни авторы рассматривают защитные механизмы преимущественно как патологические проявления личности, ограничивающие личностный рост и развитие (Василюк, 1984; Леонтьев, 1999), другие исследователи рассматривают защиту как нормальную функцию личности, и лишь «ненормативное» использование защитных механизмов, с этой точки зрения, приводит к психической патологии (Фрейд, 2003; Кляйн, 2007; Loewenstein, 1966 [Pumpian-Mindlin,1967]; Соколова, 2002; 2007; Романова, Гребенников 1990), третьи же рассматривают психологическую защиту как адаптивную систему реакций, установок и отношений, способствующую редукции патогенного напряжения и психотравмирующего воздействия дезадаптивных компонентов отношений на Я-концепцию индивида (Басейн и др., 1988; Карвасарский, 2000). Концептуализация психологической защиты как многоуровневого образования личности, в котором наиболее примитивные «низшие» уровни ответственны за патологическое функционирование личности, а более зрелые и доступные осознанию связаны с нормативным функционированием, на наш взгляд, позволяет разрешить проблему статуса защитных механизмов с точки зрения нормы и патологии.
Дискуссионным остается вопрос о классификации защитных механизмов. Разные авторы и исследователи дополняют и видоизменяют сущетсвующие классификации механизмов защиты (Lichtenberg, Slap, 1970; Мак-Вильямс, 2003; Гребенников, Романова 1990; Shaefer, 1954; Карвасарский, 2000 и др.). В некоторых классификациях список защитных механизмов достигает более ста наименований (Blackman, 2004). Принципиально иной взгляд на данный вопрос представлен мнением Бреннера, который полагает, что любое психическое явление может использоваться Эго для защиты в ситуации актуализации интрапсихического конфликта (Brenner, 1981).
С нашей точки зрения, увеличение списка защитных механизмов, с одной стороны, и возникновение точки зрения о том, что любой психический или поведенческий акт может играть защитную роль отражает тот факт, что подход к исследованию психологической защиты только как к определению набора присущих личности защитных механизмов не оправдывает себя в клинической практике. В рамках такого подхода от исследователя ускользает факт того, что психологическая защита представляет собой сложное образование, связанное с объектными отношениями, мотивами и фантазийной жизнью и, как при решении практических задач, так и в теоретических целях, должна рассматриваться как целостное образование.
Как показывает анализ литературы и клинический опыт, психологическая защита представляет собой многомерное и многокачественное, в высшей степени индивидуализированное и мало поддающееся рефлексии явление, что делает процесс его исследования крайне сложной задачей. Помимо этого показано, что психологические защиты встроены в целостное психическое функционирование, связаны с объектными отношениями, мотивами и фантазийной жизнью (Кадыров, Оксимец, 2010). Кроме того, психологическая защита, как видно, является в высшей степени динамическим и многоуровневым образованием. При этом, большинство исследований, посвященных изучению психологических защит личности, обращаются к тестированию отдельных защитных механизмов и защитных форм поведения с использованием опросников или шкал, которые, как правило, фиксируют лишь наиболее поверхностный слой той или иной защиты в ее статическом срезе, оставляя за рамками, всю сложность и своеобразие исследуемого явления. С нашей точки зрения, исследование психологической защиты личности должно ориентироваться на изучение целостной защитной организации личности в ее штра- и интерперсоналъной динамике. Реализацию такого подхода мы находим в работах, выполненных с привлечением концептуального аппарата теории объектных отношений, который позволяет исследовать динамику защитной организации личности, как она обнаруживает себя на терапевтическом сеансе (O Shaugnessy, 1981; Joseph, 1991; Steiner, 2010). Более подробно мы остановимся на этих работах в разделе 2.3. «Защитная организация личности». Отметим здесь лишь, что, как показано клиницистами, защитная организация доминирует в психике пациентов с тяжелыми психическими расстройствам, отражаясь в клинической картине и ее динамике, влияя на терапевтический процесс и отношения с другими людьми (Joseph, 1991; Стайнер, 2010). Поэтому Такие тяжелые психические расстройства, как параноидная шизофрения, аффективные и шизоаффективные расстройства могут выступать в качестве моделей для изучения различных вариантов защитной организации личности. В следующей главе мы коротко рассмотрим названные психические расстройства, как они представлены в психологии и смежных науках - психиатрии и нейронауках. Далее будут изложены теоретические наработки, послужившие основой для исследования защитной организации личности при психических расстройствах, а именно представления об объектных отношениях, параноидно-шизоидной и депрессивной позициях, примитивных; защитных механизмах и патологических организациях. Главный акцент во второй главе сделан на проблеме связи защит и тяжелой психопатологии.
Клинико-психологическая характеристика изучаемых психических расстройств. Их рассмотрение в психиатрии, нейронауках и психологии
Пациенты с психотическими расстройствами по ряду причин не смогли преодолеть параноидно-шизоидную позицию либо защитным образом регрессировали к ней. В. Бион перечисляет преддиспозиции личности, играющие решающую роль среди факторов, ответственных за развитие шизофрении и психотических расстройств: преобладание агрессии над любовным влечением до такой степени, «что даже любовный импульс превращен в садизм»; непереносимость внешней и внутренней реальности, распространяющаяся на все, что может способствовать ее осознанию; страх аннигиляции; преждевременное формирование объектных отношений, хрупкость которых находится в противоречии с упорством, с которым они поддерживаются. Комбинация этих качеств ведет к тому, что «контакт с реальностью маскируется доминированием в уме и поведении пациента всемогущей фантазии, которая стремится разрушить реальность и ее осознание» (Bion, 1953). Фрустрация нужд ребенка, у которого с самого рождения, по мнению Биона имеется преконцепция объекта и ожидание удовлетворения, переживается как отсутствие объекта - «нет объекта». Если младенец способен переносить фрустрацию переживание «нет объекта» может быть выражено в мысли, что дает начало развитию аппарата мышления. Если фрустрация непереносима проективная идентификация интенсифицируется для освобождения психики от чрезмерного напряжения. Тогда механизм проективной идентификации заменяет работу «аппарата мышления» (Бион, 2008). Фантазия субъективно переживается как свершившийся факт, и пациент ведет себя согласно этому: так, как будто его аппарат восприятия может быть расчленен на мельчайшие фрагменты, которые сразу же проецируются в объект. В фантазии пациента фрагментированные и инсталлированные во внешний объект частички Эго продолжают вести независимое существование, отдельное от субъекта. Содержание этих фрагментов, дополненное инвестированным в них агрессивным компонентом импульса фрагментирующей атаки, определяет их враждебность. В результате пациент чувствует, что он окружен «причудливыми объектами» (Bion, 1953). Автор считает, что галлюцинации любой модальности - это результат «эвакуации» интрапсихических содержаний производимой из-за неспособности психотика терпеть фрустрацию.
Как уже было сказано выше, в объектных отношениях психотика наблюдается преобладание отношений с «плохим» объектом, порожденным проективной идентификацией эндопсихической агрессии в объект. Центральное для шизофрении явление дезинтеграции соответствует производимой защитной фантазии о разделении «плохого» объекта на мелкие фрагменты и «распыления». Это достигается при помощи расщепления на мельчайшие фрагменты «ментального аппарата» и тем самым уничтожения оеознания ненавистной, непереносимой реальности. Такой фрагментирующий тип раещепления психичеекого аппарата усилиивает чувство, что восстановить Эго невозможно, и увеличивает страх аннигиляции. Будучи фрагментированным. Эго становится истощенным и ослабленным, что соответствует снижению энергетичеекого потенциала, описываемому в синдроме шизофрении. Экстернализация «плохих» содержаний Эго, в еилу масеивности процесса, может переживаться как чувство отсутствия личности вообще (деперсонализация), либо как отсутствие чувств и влечений, ощущение пуетоты (эмоциональная уплощенность).
Г. Розенфельд исследовал механизмы установления состояния спутанности при шизофрении. Он описывает пациентов, которые не могли провести различие между своими либидинальными и агрессивными импульсами и между «хорошими» и «плохими» объектами. И импульсы, и объекты, в переживании пациента, были спутаны. Он объясняет это тем, что когда преобладает агрессивный импулъс, расщепление не производится и продолжается процесс интеграции, вмеето продвижения вперед к психической зрелости возникает тяжелое, мучительное состояние спутанноети (Rosenfeld, 1950; 1962). М. Кляйн связала состояния спутанности с завистью. Спутанность является результатом и одновременно защитой от зависти - чувства, которое побуждает неистовые атаки на «хороший» объект. Зависть, с точки зрения М. Кляйн, являетея одним из проявлений агрессивного инстинкта, а сила зависти зависит как от конституциональных предпосылок, так и от взаимодействия с объектом в самый ранний период жизни. Младенец не толъко нуждается в кормящей матери, но и завидует ей, потому что она имеет все, чем хочет обладать ребенок. В случае нормального развития возникает безотлагательная потребность в расщеплении объекта для удержания «плохих» и «хороших» импулъсов обоеобленно друг от друга. У пациентов, страдающих шизофренией, способноетъ к нормалъному расщеплению нарушена, поеколъку сила их зависти повышает интенсивноетъ деструктивных импулъсов, затрудняет восстановление «хорошего» объекта и усиливает переекуторную тревогу. В этом случае чрезмерные формы проективной и интроективной идентификации, выражающиеся во всемогущих фантазиях о наеилъственном внедрении в объект и его поглощении, представляют собой защиту от разделенности с объектом и переживания нужды, провоцирующих зависть, и порождают состояние спутанности. Последнее ассоциировано с огромной тревогой, поекольку разрушение любовных импульсов и соответствующей им репрезентации «хорошего» объекта на беесознательном уровне переживается как разрушение всего Эго, что выражается в переживании небезопаености и неспособности упорядочитъ свой «внутренний мир», страхе поглощения, удушья, распада и растворения (Hopper, 1991). Единственным выходом из этого состояния является последующее расщепление и дезинтеграция Эго. Ослабление же процесса расщепления в случае снижения силы агрессивного импульса ведет к интеграции Эго. Усиление агрессивного импульса вызывает обратное движение к спутанности. Колебания между попытками расщепления, интеграции и смешением сопровождают весь процесс психотического заболевания. (Rosenfeld 1950; Bion, 1957; Hopper, 1991).
Из слияния Я и объекта в результате проективной идентификации проистекает еще одна существенная особенность в структуре дефекта при шизофрении - конкретность мышления. При такой форме слияния символ приравнивается к символизированному объекту и разделяет ту же судьбу, что и оригинал, вызывающий конфликт и запрет (Segal, 1957).
Непереносимое состояние спутанности возникает также в самом начале установления депрессивной позиции, когда становится ясно, что «хорошее» и «плохое» соединено в одном и том же объекте и, соответственно, в субъекте (Steiner, 1987). Потери любимого объекта и порча «хорошего» объекта «плохим» - централъные переживания, обнаруживаемые при анализе пациентов в состоянии депрессии (Фрейд 1929; Менцос, 2001). Это выражается в различных тревогах об объекте, среди которых, например, страх того, что хорошее может бытъ вытолкнуто вместе с плохим, или с жадностъю инкорпорированный «хороший» объект, может оказаться поврежденным внутренними деструктивными импульсами и объектами, а «мертвый» объект может быть интернализован, и Эго может идентифицироваться с ним. Тревога, что хорошие объекты и Эго вместе с ними будут разрушены и/или потеряны, переплетается с отчаянными усилиями сохранить «хорошие» объекты. Это выражается в преувеличенной, обсессивной фиксации пациента в состоянии депрессии на объекте.
Методологические основы исследования защитной организации личности при параноидной шизофрении, шизоаффективном и аффективном расстройствах
Если индивид способен хотя бы недолго переживать тревогу и психическую боль без мгновенной актуализации механизмов фрагментации и проекции, состояние спутанности оказывается переносимым, а значит, потенциально доступным психической переработке, ведущей к нормальной дифференциации.
Расщепление облегчает непереносимость переживаний и знаменует собой «переход» к следующему уровню интеграции.
(II) ВтороВ уровену - уровену биполярного расщепления характеризуется расщеплением опыта на полярные аспекты и действием психических механизмов, которые нацелены на поддержание представлений о себе и объекте, с которым идентифицируется индивид, как о хорошем и отделении хороших саморепрезентаций и репрезентаций объекта от плохих. Способ символизации, присущий этому уровню, отличается конкретностью - символ и символизируемое уравниваются. Слова и образы, выполняющие символическую функцию, используются субъектом как материальные объекты. Мысли и чувства переживаются скорее как действия и, в связи с этим, обладают магическим статусом. Главными механизмами здесь являются механизмы расщепления, интроективной и проективной идентификации, которые структурируют объектные отношения по оси «плохой» - «хороший». Стремление к аннигиляции "плохого" объекта и обретению единства с "хорошим" реализуется при помощи механизмов проективной и интроективной идентификации. Субъект избавляется от неприемлемых и болезненных аспектов внутреннего опыта и проецирует их объект. В результате этого субъект оказывается включенным в объектные отношения, связанные со страхом преследования. Контроль и избегание контакта с «плохим» объектом, а также контроль над идеализированным объектом составляют суть задачи поддержания психологического баланса на данном уровне организации личности. Отметим, что переживание потери и отсутствия "хорошего" объекта на этом уровне интеграции идентичности не доступно Эго. Отсутствие «хорошего» объекта переживается как присутствие «плохого» и так же, как проекция агрессивных аспектов личности в объект, провоцирует паранойяльную тревогу. На основании разницы стратегий, используемых субъектом для защиты от преследующего объекта и контроля над ним, мы выделяем несколько типов психических диспозиций, присущих данному уровню функционирования личности. Среди них следующие: «эвакуация», «инкорпорация», «образование двойника», «тирания», «преследование», «дистанцирование».
Тенденция к сохранению хорошего внутри и избавлению от плохих аспектов внутреннего опыта образует диспозицию «эвакуация», в основе которой лежит механизм проективной идентификации. В силу конкретности мышления, присущей субъекту, функционирующему на данном уровне организации личности, и неразвитости символической функции в клиническом материале данная диспозиция предстает в наиболее конкретной форме - рассказами о выбрасывании вещей, навязчивой уборке, чистке, моторной активностью, целью которой является «выбрасывание из головы» переживаний либо мыслей.
Проективная идентификация агрессивных тенденций в объект приводит к образованию ужасного, преследующего объекта. Диспозиция «преследование» характеризуется активной конфронтацией и атакой на «плохой» объект, в целях самозащиты.
В ряде случаев субъект, в силу внешних обстоятельств или внутренних причин, лишен возможности активной конфронтации. При этом объект предстает не столъко врагом, сколъко мучителем и тираном. Диспозиция «тирания» отражает такую констелляцию субъект-объектных отношений, в которых один из партнеров преследует, тиранит, жестоко обращается с пассивно страдающим, подчиненным, часто слабым партнером .
Спроецировав все неприемлемые и болезненные аспекты собственной личности в объект, субъект затем может пытатъся дистанцироваться от него, как от источника опасности, либо изолироваться от внешнего мира, переполненного устрашающими объектами в закрытом пространстве, которое единственное представляется надежным убежищем от тревоги преследования (психическая диспозиция «дистанцирование»).
Часто уйти от объекта не удается. Кажется, что тот преследует субъекта, неотступно следуя за ним по пятам, оказываясь в самых неожиданных местах. Другие люди видят сходство субъекта и объекта, часто принимают первого за второго, обвиняют субъекта в том, что совершил объект. Объект является двойником субъекта (Кадыров, 1996). Такая диспозиция субъект-объектных отношений названа нами «образование двойника».
(III) Следующим «полустанком» нк пути а интигрированному функционированию личности является вариант личностной организации, для которого наиболее подходит название «псевдоинтеграция». Проективная идентификация неприемлемых, связанных с агрессивностью импульсов вовне и в объект не используется в таких масштабах, как на предыдущем уровне, что избавляет субъекта от страха преследования. Однако непереносимость чувства вины и переживаний потери затрудняют интеграцию неприемлемых аспектов личности, связанных с враждебность по отношению к объекту, который приобретает черты целосного. Для разрешения, связанного с этим интрапсихического конфликта неприемлемые аспекты личности содержаться в отщепленном, не доступном сознанию состоянии, отрицаются, идеализируются и во внутреннее психическое пространство, «населяя» внутренний мир субъекта. Это приводит к построению ригидной и обедненной системы субъект-объектных отношений, однако позволяет субъекту сконструировать картину мира, в которой отсутствует фрустрирующий объект и фрустрируемое Я. Потребностъ в объекте и зависимостъ от него отрицается, поскольку способны провоцировать страх потери объекта и осознание собственной роли и ответственности за отношения. Собственная агрессивность, враждебность и разрушительность идеализируется и дарит ощущение могущества и превосходства над объектом, оказывая мощное сопротивление саморефлексии и переживанию той, части опыта, которая могла бы нарушитъ поддерживаемый баланс и склонить личность к признанию ценности объекта.
В рамках данного уровня мы выделяем следующие психические диспозиции: «деструктивный нарциссизм», «либидинальный нарциссизм», «грандиозностъ», «конкретная репарация», «навязчивый контролъ» и «отрицание».
Диспозиция «деструктивный нарциссизм» описывает субъект-объектные отношения, в которых субъект оказывается неспособным, вступитъ в конструктивные отношения с «хорошим» потенциально помогающим объектом, посколъку это требовало бы от него признания собственной слабости и зависимости. Связанный с этим аспект самодеструктивности, «подпитывая» образ Я, как могущественного, жестокого, безжалостного к себе и другим «сверхчеловека», обладающего и властъю бесстрашием разрушать. Субъект получает возможностъ чувствоватъ свое превосходство, силу и неуязвимости, а также получатъ перверсное удоволъствие от деструктивных и самодеструктивных действий. В клиническом материале данная диспозиция часто обнаруживается в нарративах о причастности к бандитским группировкам, властным структурам, самодеструктивной активности, деятельности, связанной с неоправданным необходимостью риском для жизни, алкогольной, наркотической и нехимической зависимости, а также суицидальных идеях и попытках.
Изложение результатов эмпирического исследования динамики защитной организации личности у пациентов с параноидной шизофренией, шизоаффективными и аффективными расстройствами
Качественный анализ. Анализ единичных случаев Согласно методологическим принципам, выдвинутым Куртом Левиным, анализ одного единственного представителя типа позволяет детально исследовать закономерности присущие всему типу, с поправкой на условия, в которых они протекают. Пренебрежение качественным анализом единичного случая лишает научную работу полноты (Левин, 2001). Задумывая эмпирическое исследование, мы основывали его на детальном качественном анализе всех интервью и проективных тестов со всеми пациентами. Однако, полное изложение более чем одного случая из каждой группы затруднительно в рамках данной работы. Поэтому, для подробного изложения качественного анализа, позволяющего проиллюстрировать и методику исследования
Анализ защитной организации личности пациентки с аффективным расстройством по материалам диагностико-терапевтических интервью и данных проективных методик
На момент проведения диагностического интервью пациентке А исполнилось 52 года, она замужем и имеет двух взрослых дочек. До настоящей госпитализации пациентка периодически работала воспитательницей в детском саду и надомной няней. Настоящая госпитализация стала второй для А. в 44 года у А было обнаружено гинекологическое заболевание, вызванное наступившей незапланированной беременностью. В связи с поставленным диагнозом настроение А резко снизилось, у нее возник страх смерти и тревога, предмет которой пациентке А было сложно понять. Несмотря на удачно проведенную операцию по удалению матки, А продолжала испытывать тревожное ожидание смерти, считала, что врачи обманывают ее, скрывая диагноз. Пациентка считала, что у нее онкологическое заболевание. Кроме того, А испытывала сильное чувство вины по отношению к мужу и детям, боялась, что может потерять семью. Спустя 4 года от момента возникновения депрессивного состояния она была госпитализирована в психиатрическую больницу, где находилась на лечении 2 месяца. После выписка настроение А оставалось сниженным, однако тревога, страх и переживание вины исчезли. Пациентка считает, что полностью освободилась от депрессивного состояния, когда уехала в родную деревню ухаживать за ослепшим братом. По возвращению домой, А пребывала в приподнятом настроении, была общительна и заводила новые романтические знакомства. Вскоре у пациентки возникли идеи о собственной грандиозности: А приписывала себе магические способности, считала, что может читать мысли других людей и ощущать их энергетику. Одновременно с этим А стало казаться, что за ней следят.
В это время на летний период она уехала в деревню, где делила дом со старшим братом и его женой. Здесь, после возникшего конфликта с братом, состояние изменилось: возникала тревога, страх смерти, А была подавлена не могла спать, чувствовала себя виноватой перед братом. Она была вынуждена покинуть деревню и обратиться за помощью в психиатрическую больницу.
Лечащий врач информировал пациентку о возможности психотерапевтической беседы с психологом, в процессе которой можно попробовать найти причины наличного психического состояния. С пациенткой проведено два интервью по 50 минут каждое с использованием аудиозаписи и проективные методики. Первое интервью
В начале первого интервью, после того как интервьюер спросила г-жу А о причинах ее нынешней госпитализации и причинах, спровоцировавших настоящее состояние, пациентка кратко рассказала о том, что она перенесла тяжелое «мало кому известное заболевание», называемое «пузырным заносом». Тогда она испугалась, что умрет. Депрессия, вызванная этими обстоятельствами, затянулась на 4 года. Состояние подавленности «прошло само собой», когда А уехала в деревню, из которой она родом, чтобы ухаживать за больным братом. Улучшение психологического состояния А связала с уходом за только что ослепшим братом. Ей пришлось стать для него «поводырем» и «палочкой-выручалочкой». Кроме того, в деревне она могла наслаждаться купанием в реке, а по вечерам проводила время в компании друзей (дальше в интервью А объяснила, что компания состояла из мужчин, которые позволяли ей «властвовать над ними»).
Вскоре А перешла к рассказу о следующем депрессивном эпизоде, который «начался с того же самого брата». Она охарактеризовала брата как «нервного» человека, «жившего всю жизнь только для себя». Пациентка считает, что раздражала брата собственным присутствием, и он хотел ее «оттуда изжить». Но А там нравилось, и уезжать она не собиралась.
Однажды вечером А оскорбительно прокомментировала реакцию брата на известие о смерти соседа: «ты ни о ком хорошо не говоришь. Только вот плохо и плохо. Как кучка говна, которая лежит и воняет»». В ответ на это брат бросился на А с ножом. А удалось убежать, но, как сказала пациентка, «это состояние (депрессия) вернулось». Она описала состояние етраха, подавленности и тревоги. Она не могла спать по ночам, старалась вести себя «как мышка», испытывала вину перед братом. Через три мееяца А приняла решение покинуть деревню и обратиться к психиатру. Теперь она чуветвует себя хорошо, нет страха и тревоги, нормализовалея сон.
Попытку интервьюера задать еледующий вопрое пациентка прервала встречным вопроеом: «что-то не складывается?». В этом проявилась присущая всей беседе особенность установившегося между интервьюером и пациенткой контакта. Как известно из отчета интервьюера о контрпереносных переживаниях, ей казалось, что пациентка все время следит за ней и реагирует на возникающие паузы тревогой.
После этого А етразу же постаралась взять инициативу в интервью в свои руки: ответив на вопрое интервьюера об отношениях е братом, пациентка со смехом говорит: «теперь Ваша очередь».
Продолжая рассказ о себе, А перешла к теме любви к детям. До нынешней госпитализации она работала надомной няней и получала большое удовольствие от ухода за детьми. Пациентка сказала, что поняла, как мало внимания уделяла своим детям и что теперь она раскаивается в этом.
Рассказ о детях вдруг прервался комментарием пациентки о том, что она не любит думать о чем-то, что вызывает напряжение: «Если надо думать над чем-то, я стараюсь это отложить. Напрягаться не люблю,... вы спрашивайте. Ничего не знаю». Эмпатический комментарий («Как-то трудно вам было, с двумя маленькими детьми») интервьюера вновь привел к смене темы. А смогла рассказать о том, как трудной ей было «справляться» с детьми одной, поскольку муж не мог ей помогать - он учился и работал.
После непродолжительной паузы, А продолжила свой рассказ: она отметила, что смены настроения наблюдались в течение всей ее жизни. Так после смерти матери, она целых 10 лет не могла ничему радоваться и чувствовала себя подавленной. Описывая мать, А сообщила, что очень похожа на нее, что, как и мать, она была «деспотом» в молодости и не понимала тогда, какой эффект это может произвести на ее дочек.
А отметила, что ее характер изменился, когда она начала работать с детьми. Ухаживая за детьми, она получала «очень большое удовольствие... - пело сердце». С сожалением пациентка сказала, что в связи с болезнью ей пришлось оставить работу, так как у нее «были мысли свои в голове». Мысли о скорой смерти, о собственной вине «не отпускали» А, делали ее жизнь мучением. Они мешали А должным образом заботиться о ребенке, ведь «когда с ребенком, то надо себя отдавать полностью ребенку. А мне мешали мысли. И ребенок был на втором плане».