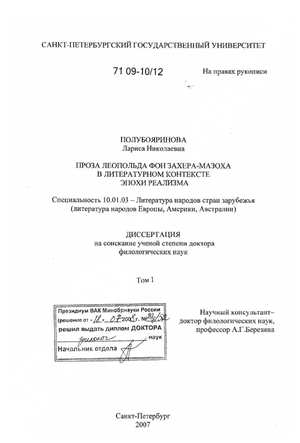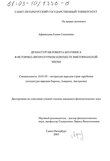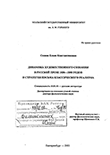Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Начало литературной карьеры 57
1. Захер-Мазох в системе литературного ноля 58
2. К особенностям немецкоязычного реализма 67
3. Литература Австрии в 1860-1870-е гг. 72
4. Первые шаги в литературе и журналистике 76
5. «Так молодой писатель стал героем дня» 88
6. Захер-Мазох и Фердинанд Кюрнбергер 92
7. Захер-Мазох и славянство 102
8 .«Австрийский Тургенев» и проблема медиальности 117
9. Дарвинизм и шоленгауэрианство 131
10. «Реализм» Захера-Мазоха 136
Глава II. «Наследие каина» 143
1. Замысел и структура цикла 143
2. «Наследие Каина» и «Человеческая комедия» 146
3. «Странник» и внутренняя структура цикла 154
4. К семантике заглавия 164
5. Воплощенные разделы цикла 171
6. Первая часть цикла: «Любовь» 181
7. «Коломейский Дон Жуан» 204
8. «Отставной солдат» 221
9. Теоретическая интерлюдия: Проблема женской идентичности и конструкция женственности. Женское письмо 230
10. «Лунная ночь» 241
11. «Любовь Платона» 262
12. «Марцелла, или Сказка о счастье» 295
Глава III. «Венера в мехах»: реализм и мазохизм 306
1. Сюжет «Венеры в мехах» в свете реализма и мазохизма 309
2. Реальные воплощения фантазма 316
3. Рихард фон Крафт-Эбинг: рождение термина 321
4. Мазохизм в учении З.Фрейда 327
5. К проблеме «русского мазохизма» 333
6. Три признака мазохизма по Т.Рсйку 359
7. Ж.Делбз; «Представление Захера-Мазоха» 362
8. Образ глаз и феномен взгляда в новелле 370
9. «Венера» в историко-культурной перспективе 382
10. «Венера в мехач» и реализм 391
11. «Венера» и fin de siecle 397
12. Кафка и мазохизм 401
Глава IV. Захер-Мазох и Тургенев 418
1. «Непослушное дитя» Тургенева 421
2. «Ничуть не повредит, если для начала вы будете просто подражать» (генетические аспекты связи) 432
3. Тургенев: страх двойничества 460
4. Тургенев и мазохистский комплекс 465
5. Танатография тургеневского Эроса 472
6. Типологическое схождение: «Петушков», «Вешние воды» 476
7. Генетико-типологическая связь: «Переписка» 482
8. «Холодная и жестокая»: к имагологии домины 491
9. Тургеневский герой-рассказчик в свете мазохистского фантазма («лишний человек» как «третий лишний» и «во чужом пиру похмелье») 499
10. Пункт схождения: Шопенгауэр 514
11. К феномену охоты 533
12. «Белый снежный мех» равнины: тургеневский «морской синдром» и степной дискурс Мазоха 460
Глава V. Реконструкция - проекция - прозрение: образ России в исторической прозе Захера-Мазоха («Женщина-султан», «Русские придворные истории») 603
Глава VI. Новелла «жажда мертвых неутолима» в аспекте интертекстуальности
Глава VII. Роман «Богородица»: от «Символического» к «Воображаемому» 645
1. Неформальный итог «каиновского» цикла 646
2.Историко-религио:мый подтекст романа: хлыстовство 658
3. От Евламнии к Мардоне: тургеневский претекст романа 666
4. От Мардоны к Матрене: «Богородица» и «Серебряный голубь» 674
Заключение 679
- К особенностям немецкоязычного реализма
- Теоретическая интерлюдия: Проблема женской идентичности и конструкция женственности. Женское письмо
- Рихард фон Крафт-Эбинг: рождение термина
- «Ничуть не повредит, если для начала вы будете просто подражать» (генетические аспекты связи)
К особенностям немецкоязычного реализма
Германо- прусс кое начало выступает для немецкоязычного региона во вторую половину XIX в., в особенности же в конце 1860-х-1890-е IT. (т.е. практически в течение всего периода активной писательской деятельности Захера-Мазоха) несомненной доминантой «национального» литературного поля. Политический авторитет и экономическая мощь Пруссии (а с 1871 г. — объединенной Германии) активизируют в качестве идеологического СООТВвІСТВНЯ «полю власти» также и «поле культурного продуцирования». которое в литературной своей части развивается в ту пору под знаком реализма.
Как уже было отмечено во Введении, немецкая реалистическая Программа наряду с эстетическими моментами содержала ярко выраженные идеологические импликации, более или менее отчетливо связанные с (национально-)культурной политикой прусского государства. В частности, различные рупоры этой программы - например, периодика -последовательно проводят идею немецкой (в смысле германской, прусской) монополии на установку ценностных критериев и границ художественного (в первую очередь литературного) творчества. Появление такой идеологии в области культурной полигики рассматривается в науке как одно из последствий несостоявшейся революции 1848 г., ключевыми лозунгами которой были, как известно, «свобода и единство». Так, П.У.Хоэндаль отмечает, что немецкое бюргерство после 1848 г. «реагирует на диаду "свобода и единство" в форме явного предпочтения единства "национального", в каковом контекст литературе отводится "легитимирующая функция"».
Как конкретно осуществлялась «гомогенизация немецкого литературного поля под знаком германской ісі емонии» и соответственно выработка литературного канона, убедительно показано в статье Г.Бутцера, М.Гюнтер и Р.фон Хайдебранд на примере главного реалистического печатного органа и авторитетнейшего литературного журнала Германии 1870-1890-х гг. «Deutsche Rundschau». Путем соответствующего отбора текстов для публикации, прямого влияния на содержание и форму печатаемых текстов, дифференцированных способов презентации литературных явлений (в частности, особой расстановки акцентов в рецензиях и «литературных портретах») главный редактор журнала Юлиус Роденберг (Rodcnberg, 1831-1914) способствует выработке особой парадигмы «реалист ическей классики». Этот канон, как и само право на его выработку, легитимируется не только объективной эко-юмической и политической мошыо Германской империи, но также и апелляцией к гуманистической традиции немецкого веймарского классицизма («deutsche Bildung» - ключевой шифр в данном контексте), своеобразным продолжением которого в изменившейся историко-культуршй ситуации и осознает себя немецкий реализм.2 Заметим, кстати, что действенность «культурной политики» «Deutsche Rundschau» была связана также и с факторами внеэстетическими, однако необыкновенно весомыми для литературного поля второй половины XIX в.: публикации в данном журнале считались престижными и высоко оплачивались. Можно сказать, что в обмен на независимость творчества (формальные и содержательные уступки «генеральной линии» журнала подразумевались со стороны авторов сами собой) участники данного периодического органа получали ощутимое приращение своего «реального» и «символического» капитала.26 Как показывают современные исследования, посвященные проблеме литературного канона, в вопросах селекции литературных явлений аспект «как» (критерии и оценки - «Kriterien- und Deuruiigskanon») обладает несомненным перевесом по отношению к чисто содержательному аспекту «что» («der matcrielle Kanon»).27 Обладая монополией на критерии и оценки в (обще)немецком литературном моле, немецкая реалистическая программа и, в частности, «Deutsche Rundschau» как один из главных ее рупоров, интегрирует в свой контекст также и произведения, номинально и содержательно не связанные непосредственно с узко-немецкими (германскими) реалиями, только бы зги тексты соответствовали эстетическим критериям немецкого реализма. К последним относятся заповедь «автономности» литературы; «просветление» (нем. «Verklarung») действительности идеалом; верность немецкой гуманистической традиции («deulsche Bildung»).
Теоретическая интерлюдия: Проблема женской идентичности и конструкция женственности. Женское письмо
В относящейся к циклу «Русских придворных историй» новелле Захера-Мазоха «Дамская дуэиь» («Damen-Duell», 1873) содержится одна характерная в гендерном отношении сцена. Имеется в виду эпизод соблазнения главной героиней молодого лейтенанта по фамилии Колтов:
« "Суждено ли мне обрести мой идеал", - молвила она спустя некоторое время; томный взгляд ее карих глаз был мечтательно усіремлен вдаль. Колтов все молчал; молчал он и когда красавица, как бы ненароком, вначале задела его ногу кончиком ботинка, затем коснулась его ладони. "Странная женщина, - думал он, - неужели она и в самом деле не способна полюбить?" А княгиня? Княгиня думала про себя: "Странный лейтенант. Кажется, он несколько переусердствовал в чтении Платона"».192
Обозначившаяся в данной сцене диспозиция «мужского» и «женского» с удивительной точностью отражает распределение гендерных ролей и спецификацию тендерных дискурсов в европейской культуре. Мужской любовный дискурс проявляет себя при этом в первую очередь в дискурсивной, т.е. языковой, своей основе («план символического»), следовательно, означаемое оказывается в нем напрямую соотнесенным с означающим, и наоборот. Таким образом, если речь заводится, как в цитированном эпизоде, о необходимости «обретения идеала», мужским собеседником разговор воспринимается соответственно: в регистре платоповско-идеалистических представлений о любви.
Не то женский любовный дискурс, откровенно подчиняющий дискурсивное («символическое», логическое) в себе - потоку желания (плану «воображаемого» - «имагинерного») и разворачивающийся параллельно с (относящимся к «плану реального») авербальным «языком тела», напрямую маркирующим и выражающим желание, помимо его возможных «символических» фиксаций в языке. Означающее («идеальные», платоновские представления о любви) и означаемое (физический план желания) в женском дискурсе с очевидностью дивергируют, смещены друг относительно Друга, при этом ясно, что «платонический» код, изначально чуждый княгине, лишь узурпируется ею, временно «одалживается» у традиционно «мужского» канона идеалистической философии - со вполне прозрачными прагматическими целями: понравиться Колтову, о философских пристрастиях которого она знает. Следовательно, обращение женщины именно к данному, платоническом) , а не к какому-нибудь другому дискурсивному «маскарадному костюму» оказывается запрограммированным мужскими ожиданиями. Женское поведение выглядит конструкцией, производной от мужского представления о «женской природе», «женственности», или же, как в данном конкретном случае, - о «любви», «счастье».
Другой пример из мазоховского творчества (новелла «Черный кабинет», 1882) демонстрирует в иронической гротесковой форме, как именно конструируется в мужском сознании «женщина» (или, конкретнее, «женское тело») в качестве объекта желания. Страстно влюбленный в свою молодую жену Бону лейтенант Дионис Булгарин узнает от нее самой, что большинство ее телесных прелестей (то, что он почитал таковыми) -искусственные. Пышные бедра и бюст оказываются накладными, роскошные волосы - шиньоном, ровные белые зубы — фальшивыми, красивое личико — нарисованным несколькими слоями белил, румян и сурьмы.1 " В том, что «остается»: худенькое, щуплое тело (похожее на «ошкуренного зайца» ), невзрачная физиономия, - герою почти невозможным оказывается узнать жену. Наутро после «саморазоблачения» супруги Булгарин, используя одежную вешалку, болванку для шляп и несколько предметов одежды Боны, собственноручно моделирует некое подобие своей жены - «женщину», загадка женственности которой оказалась не более чем конструктом, притом конструктом мужским, ибо Бона, у которой в светском обществе масса поклонников, «строит» свое тело в ориентации именно на мужские ожидания.
«Супруг (Боны. - Л.П.) накинул на одежную вешалку сначала ее раскиданные по стульям одежды, затем меха, предварительно вынутые из шкафа. Потом, прикрепив к шляпной болванке пару серег, нахлобучил на нее женин шиньон, сверху которого надел еще и ее украшенную перьями шляпу и взгромоздил все это на вешалку. Наконец, набив тряпками пару шелковых чулок и засунув полученные таким образом "ступни" в туфли, разместил последние в виде "ног" снизу вешалки с одеждой, так что все вместе стало убийственно похожим на даму-модницу тех времен. Перед этой куклой он вдруг упал нт:ц и разразился по ее адресу потоком нежных излияний, время от времени припадая губами к ее туфлям».
Рихард фон Крафт-Эбинг: рождение термина
Осенью 1875 г., когда молодой немецкий специалист по душевным болезням барон Рихарл фен Крафт-Эбинг (Krafft-Ebmg, 1840-1902), работавший тогда в Страсбурге, принимает приглашение занять место штатного профессора психиатрии в Грацском университете, Захер-Мазох, уже пять леї как официально оставивший свое преподавательское поприще в данном учебном заведении и только что обвенчавшийся с Вандой-Авроро и, пребываег в процессе переезда из Граца в расположенный к северу от штирийской столицы городок Брук-на-Муре. Таким образом, жизненные пути двух виднейших представителей австрийской культуры последней трети XIX в. (бюст Крафга-Эбинга наряду с бюстом З.Фрейда украшает знаменитую открытую галерею Венского университета) расходятся, так и не пересекшись. Тем не менее значение этих двух личностей друг лдя друга - в проекции на культурный контекст - трудно переоценить. Крафту-Эбингу выпала роль прижизненного «губителя» и посмертного «основателя» мировой известности Захера-Мазоха (ибо кому же не известно сегодня слово «мазохизм»). В свою очередь «высокая конъюнктура», присущая культурологическому феномену «мазохизм» в современном мире, заставляет снова и снова вспоминать о его первом исследователе и изобретателе самого термина (слово «мазохизм» было введено в оборот Крафтом-Эбингом в параллель к уже существовавшему «садизм»), невзирая даже на тот факт, что собственно научные заслуги грацекого, а с 1889 г. венскою профессора психиатрии, редко выходившего в своих исследованиях за пределы простого собирания и эмпирического описания «анамнезов» душевнобольных, уже при жизни были поставлены в тень и перекрыты яркими достижениями экспалдирующего психоанализа."
Итак, в 1891 г. в шестом издании своего труда «Psychopathia sexualis»2 (в многочисленных русских переводах: «Половая психопатия») Крафт-Эбинг вводит в научный оборот понятие «мазохизм», использовав в качестве корни данного неологизма вторую половину фамилии автора «Венеры в мехах», в ознаменование того факта, что «писатель Захср-Мазох в своих романах и новеллах очень часто изображал это извращение» и дает следующее определение подразумеваемому феномену психической и сексуальной жизни: «Под мазохизмом я понимаю своеобразное извращение психической половой жизни, состоящее в том, что субъект на почве половых ощущений и побуждений находится во власти того представления, что он должен быть вполне и безусловно порабощен волей лица другого пола, что это лицо должно обращаться с ним, как с рабом, всячески унижая и третируя его. Представление это носит окраску сладострастия, и индивид, одержимый им, постоянно рисует в своем воображении картины, имеющие своим содержанием всевозможные ситуации вышеупомянутого характера; он часто стремится к воплощению этих образов его фантазии, и в силу извращения своего полового влечения становится нередко в большей или меньшей степени нечувствительным к нормальным раздражениям противоположного пола, неспособным к нормальной половой жизни, иначе говоря, обнаруживает психическую импотенцию. Эта психическая импотенция обусловливается здесь, однако, отнюдь не страхом перед противоположным полом, но исключительно тем, что извращенному влечению соответствует иное удовлетворение, а не нормальное, хотя также через посредство женщины, но не путем акта совокупления»."
Обращает на себя внимание как само по себе неоднократно употребленное Крафтом-Эбингом без кавычек слово «нормальный», так и соответствующее данному определению представление о научно верифицируемой «норме» сексуального поведения как о некоей двухмерной плоскости, ясно и отчетливо, без переходных зон. пересечений и интерференции отделимой от того, что не есть она. «норма», - от «извращений», каковыми наряду с мазохизмом И садизмом в книге Эбинга выступают также гомосексуализм, фетишизм, эксгибиционизм, некрофилия и пр. Мера «нормальности» пациента определяется у Крафта-Эбинга в зависимости от способности субъекта к «нормальном) » генитальному коитусу и эякуляции, соответственно решается и вопрос об отнесении обследуемого к разряду «половых извращенцев», в том числе и к категории мазохистов. Данные составляющие любовного акта (о которых в отличие от де Сада никогда не упоминается у Мазоха) становятся у Крафга-Эбинга смысловым центром разговора о мазохизме, обеспечив Захеру-Мазоху на многие десятилетия вперед славу «порнографического» писателя.
На деле же «завуалированной порнографией» выступает для современников сама «Половая психопатия», большую часть которой составляют мельчайшие и утомительные подробности «историй болезней»: они-то и способствовали в свое время немалой популярности данной книги в «нсакалсмичсских» кругах. Именно благодаря успех) у широкой публики пси хосексоиатол отческий «бестселлер» Крафта-Эбинга постоянно переиздается (в 1924 г. выходит 17-е издание книги!), неизменно сопровождаясь в главе, посвященной мазохизму, прямыми отсылками к мазоховским текстам или скрытыми цитатами из таковых
«Ничуть не повредит, если для начала вы будете просто подражать» (генетические аспекты связи)
Цитата, вынесенная в заглавие настоящего параграфа, взята из письма Захера-Мазоха к начинающей венской романистке Э.Матайя/ которую он наставлял в писательском мастерстве и, судя по всему, отражает опыт работы самого «австрийского Тургенева» с текстами русского мэтра. Возможно наметить основные принципы рецепции Захером-Мазохом тургеневской прозы, заострив внимание на тех моментах интертекстуальной связи двух авторов, когда «простое подражание» оборачивается продуктивной иерессмантизацией исходного материала.
На основании документальных свидетельств, а также внимательного чтения ряда ключевых захеровских текстов, в первую очередь - новелл, относящихся к кругу «Наследия Каина», можно сделать вывод об основательном знакомстве австрийского писателя с немецкими переводами тургеневской прозы. Показателен в данной связи фрагмент письма поэта Р.Хамерлинга от 7 декабря 1866 г., адресованного будущему автору «Венеры в мехах». Из контекста письма следует, что Захер-Мазох предоставлял Хамерлингу для прочтения второй том боденштедтовского издания Тургенева из своей домашней библиотеки: «Прилагаю обещанную зимнюю картинку и второй том Тургенева; "Первая любовь 1, истинный шедевр по части свежести v психологической тонкости в изображении жизни, произвел на меня -лубокое впечатление. В высшей степени интересны также "Призраки". Не пришлете ли мне "Записки охотника"?»." Захер-Мазох, по-видимому, положительно реагирует на просьбу своего корреспондента и коллеги о присылке тургеневского сборника очерков, так как в письме от 25 марта следующего года Хамерлинг уведомляет его о возвращении полученных прежде и уже прочитанных томов Тургенева и Пушкина. Со всею очевидностью Захер-Мазох почитался в австрийской писательской среде в 1860-1870-е гг. кем-то вроде эксперта го Тургеневу и - шире - русской литературе. Примечательно также и то обстоятельство, что большинство стилевых, композиционных, сюжетных «примеров для подражания», приводимых Захером-Мазохом его корреспондентке и ученице Э.Матайя, происходят из «великой русской литературы».4
Исходя из набора конкретных «следов» тургеневских произведений в текстах Мазоха, а также руководствуясь сведениями о датах выхода в свет немецких переводов Тургенева (бывших вплоть до конца 1860-х гг., т.е. момента окончания работы Захера-Мазоха над первой частью «Наследия Каина», не столь уж многочисленными) возможно с достаточной определенностью судить о «тургеневской» компоненте захеровского круга чтения. Основу данной компоненты составляют упоминаемые в письмах Хамерлинга первое отдельное издание «Записок охотника» на немецко.м языке та двухтомник повестей Тургенева в переводе Ф.Ноденштедта. Из семи повестей боденштедтовского двухтомника, выступившего, по общему мнению, «краеугольным хамнем» устойчивой и долговременной тургеневской славы в Германии и Австрии, особого внимания Захера-Мазоха удостаиваются «Фауст» (ср. приведенное выше замечание Т.Шторма о «плодах» чтения этой повести в захерооской «Лунной ночи»; см. также анализ схождений с «Фаустом» «Коломенского Дон Жуана» и «Лунной ночи» в гл.И), «Поездка в Полесье», «Постоялый двор», " «Призраки» и «Первая любовь».
Из немецких переводов Тургенева, выходивших в десятилетие, разделяюшее видертовско-больцевское издание «Записок» (1854-1855) и боденштелтовский сборник (1864-1865), значимым для рецепции Захера Мазоха оказывается отдельное издание «Дворянского гнезда». Существуют также достаточные основания утверждать факт знакомства австрийского автора с журнальными публикациями на немецком языке таких повестей Тургенева, как «Три встречи» и «Сарайная история»-4S Из начавшего выходить в 1869 г. 12-томного авторизированного (так называемого митавскоіо) собрания переводов Тургенева особое значение в контексте мазоховскогэ творчества приобретают повести «Переписка» («Ein Briefwechsel») и «Степной король Лир» («Ein Konig Lear des Dories»), вышедшие соответственно в 1869 и
Совершенно очевидно, что Захср-Мазох отлает предпочтение «Запискам охотника» и малой прозе Туріенева (гал называемым философско-лирическим повестям) перед романным творчеством русского автора. Этим он отличается от прочих немецкоязычных «тургеневианцев»
Именно из этой повести происходит (напечатанный без указания конкретною источника) эпиграф к «Страннику» - прологу повествовательного цикла «Наследие Каина»: «... Бог один знает, сколько ему еше придется странствовать» (IV. 320). последней трети XIX в., таких как Фердинанд фон Заар, Мария фон Эбнер-Эшенбах, Карл Детлеф, Карл Эмиль Францоз, Якоб Юлиус Давид, для которых Тургенев выступал в первую очередь автором «Отцов и детей». Вообще тургеневская тема «нигилизма» и «новых людей», вызвавшая целую волну рецепции на Западе,51 для Мазоха скорее маргинальна,2 Что касается остальных традиционных пунктов западного интереса к Тургеневу. каковыми принято считать: 1) «очеловеченный» образ русского крестьянина, особенно актуальный в годы дискуссии об отмене в России крепостного права и в период после 1861 г.; 2) «поэтические картины русской природы»; 3) фигуру «лишнего человека» (тема «лирического антигероя»5 ); 4) образ «русских образованных женщин»,54 - все они так или иначе занимают «русскою душою» авсірийца