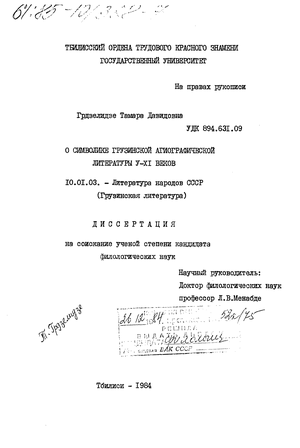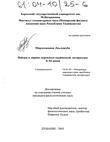Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Некоторые вопросы теории символа 12
Глава II. Некоторые виды средневековой символики в грузинской агиографии 34
Глава III. Символика света в грузинской агиографии 50
Глава ІV. Символика сердца в грузинской агиографии 73
Глава V. Символика благоухания в грузинской агиографии 93
Выводы 110
Библиография 121
- Некоторые вопросы теории символа
- Некоторые виды средневековой символики в грузинской агиографии
- Символика света в грузинской агиографии
Введение к работе
Предлагаемая работа "О символике грузинской агиографической литературы У-ХІ вв." представляет собой попытку изучения всеобъемлющего средневекового символизма на грузинском материале.
В истории теории символа хорошо известно, что медиевизм проявил особое внимание к символизму. Значимость символа существенна с незапамятных времен, с религиозных представлений первобытных людей вплоть до сегодняшнего дня. Сущность символа не оставалась неизменной. Чем дальше отходил он от периода своего зарождения, тем больше удалялся от реальной первоосновы. Сегодня семантическое поле символа в основном определяется условностью. В средние же века символ пока еще носит глубокий отпечаток реальности.
Грузинский народ, занимающий значительное место среди культурных народов христианского востока, оставил нам богатое духовное наследие. Начало истории грузинской письменности совпадает со временем официального распространения христианства в Грузии. Оно в значительной мере проходит под влиянием правящей силы христианского востока - Византии. Иначе и быть не могло. Весь регион христианизированного востока подчинялся Византии. Если временами политическое повиновение какой-либо страны Византии ослабевало, культурная зависимость представлялась непреодолимой.
Разработанная в Византии каноническая система неуклонно проводилась во всех проявлениях духовной жизни восточных христиан. Принятая в византийской литературе каноническая система определяла литературы многих стран.
Грузинская духовная письменность, с самого же начала придерживающаяся традиций восточного христианства, следовала принципам символического мировосприятия.
Обще христианский медиевальный символизм в грузинской агиографической литературе не изучался систематически тогда как его изучение имеет для нашего литературоведения чрезвычайно важное значение. С одной стороны, выявляется тот аспект древнегрузинской литературы, который хорошо знаком и другим письменностям. Определяются черты, присущие средневековой христианской литературе вообще, С другой стороны, рассмотрение общих вопросов в связи с грузинской литературой способствует установлению оригинальной национальной традиции в символике средневековой грузинской литературы. Приобретает большую реальность вопрос о национальном в грузинской духовной литературе.
Исследование медиевальной литературы чревато опасностью принятия общекультурных явлений за специфические. Представляется необходимым более точное определение этих общекультурных явлений с тем, чтобы успешно справиться с задачей установления национальных течений.
Символ в грузинской духовной литературе всесторонне не изучался. Имеются отдельные попытки в этом направлении, носящие непоследовательный характер. Первым долгом следует упомянуть труды К.С.Кекелидзе. Еще в 1920 году К.С.Кекелидзе издает грузинский перевод "Толкования на Еклессиаста" Смирнского митрополита Митро-фана.
В предисловии к изданию рассматривается метод символико-ал-легорического изображения или "образного" толкования ( под "образным" подразумевается грузинский термин ъо. 1$г гаЦигс1ч 9который адекватен термину "мышление в образах"). "В александрийской школе, - пишет К.С.Кекелидзе, - ведущим был аллегорический или "образный" метод, который в тексте священного писания искал предельно потаенную мысль" ( Кекелидзе К.С., 1920 : 8). Видимо,"аллегорическое толкование" было столь хорошо известно в грузинской литературе, что образовался соответствующий термин - "мышление в образах".
В книге "Грузинская литература раннефеодального периода" К.С.Кекелидзе определяет символический характер и происхождение имен божиих, данных в первой главе "Мученичества Або". По мнению ученого, автор пользовался сочинением Псевдо-Ареопагита " 0 божественных именах".
И той точки зрения по тому же вопросу придерживался йіАбу-ладзе. Он полагал, что первоисточником для указанного места в произведении Иоанна Сабанисдзе послужило сочинение Епифания Кипрского "О воскресении" (Абуладзе Й.В., 1949 - : 115).
В книге Р.Г. Барамидзе " Из истории художественной прозы" символу и аллегории посвящен специальный раздел. Автор придерживается того мнения, что "при рассуждении о символах мы имеем дело с явлением более сложным, чем при рассмотрении каких-либо других способов художественного изображения" (Барамидзе Р.Г.,1966:188), В работе указан и вкратце охарактеризован ряд значительных христианских символов, таких как голубь, вода, лоза, рыба, овца. Дается обширная теоретическая предпосылка с учетом таких авторов как Г.Геффцинг, А.Белый, Г.Рибо, Л.Леви-Брюлль, М.Трубецкой и др.
В работе читаем: "Выражая суть христианского учения, символы вместе с тем используются и как художественные средства, большей частью в виде эпитетов, метафор и сравнений, помимо самих символов, разумеется" (Барамидзе Р.Г., 1966 : 188). Думаем символ как важнейший признак мировоззрения, не отделяющего эстети - 6 ческое от религиозного, сам является потенциальным средством воплощения художественного приема.
Проблему "мышления в образах" на материале древнегрузинской духовной литературы исследует Р.Г.Сирадзе. Он выясняет, что термин s«- ts™etc,iKefcc подразумевает аллегорическое или символическое выражение и вместе с тем приравнивается к термину,из-вестному сегодня как "мышление в образах". В книге " Из истории грузинской эстетической мысли" Р.Сирадзе рассматривает общую картину символико-аллегорического выражения в древнегрузинской литературе. Автором установлено, что в древнегрузинской литературе способ символико-аллегорического отражения был весьма распространенным. С течением времени в литературе прорабатывались все традиционные формы символико-аллегорического отражения.
В работе указывается, что вопрос о символико-аллегорическом выражении во всей полноте представлен в литературе периода грузинского возрождения. Сильное распространение символико-аллего-ческого метода в эпоху возрождения указывает, что " в отдельных случаях "средневековость" сохраняется в мышлении грузин довольно долго, что свидетельствует не столько о стойкости форм христианского художественного мышления, сколько о наличии отдельных ретроспективных тенденций в грузинском мышлении ХУШ века" (Сирадзе Р.Г., 1978 : 324).
Автор указывает, что в древнегрузинской литературе дается целая система символико-аллегорического осмысления. Характерная для средневековья точка зрения, согласно которой все значится символически, "направляла мышление к эстетическому отношению к вселенной, поскольку считалось, что все в мире носит символическое содержание и образно выявляет прекрасное" (Сирадзе Р.Г., 1978 : 325).
С.Д.Жордания в книге "Творческое развитие символа" рассматривает символ как разновидность поэтической метафоры и поэтичес-г кого сравнения, которые он объединяет под одним термином "троп".
Наше мнение привлекает та часть книги, где автор рассматривает символ на примере "Мученичество Шушаник" и "Мученичество Або".
По нашему мнению, символ древнегрузинской агиографической литературы не может таким образом характеризоваться. Естественно, "экспрессивность присуща символу как средству выражения" ( Жордания С.Д., 1982 : 38), не в той мере однако, чтобы символ был немыслим вне экспрессивной первоосновы. Наша точка зрения зиждется на ином предположении.
В книге есть места, в толковании которых мы не можем согласиться с автором. На 46-ой странице напечатано "С точки зрения Щушаник это не стилистический прием, так как она верит в реальное существование религиозных феноменов, хотя фактически видеть их ей не приходилось. Однако для нас это поэтический феномен, он создан поэтической фантазией художника слова".
Думаем, прочтение средневековой литературы невозможно с позиций сегодняшнего читателя. Мы должны лишь стараться осмыслить так, как его понимали современники автора. Наша задача состоит в выявлении именно того, сокрытого временем, что для них не представляло никакой сложности, было обычным явлением. В научной литературе указывается, что наше отношение к литературе средних веков должно носить диалогический характер и стать перекличкой двух эпох (С.С.Аверинцев).
Представляется несколько туманным замечание автора о том, что "сердце по народной психологии является центральным органом человеческого мышления и эмоциональной активности" (Жордания С.Д., 1982 : 47).
В предлагаемой нами работе целая глава посвящена важнейшему символу средневековья - сердцу. Показано, что священное писание отцы церкви и современные исследователи придерживаются одного мнения относительно высокого назначения сердца в средневековом мышлении. Что значит "народная психология"?!
Автор пишет, что " в библии бог, Христос, часто сравнивается со светом" (Жордания С.Д., 1982 : 50). Не бога сравнивают со светом, а свет считают его символическим выражением.Между сравнением и символическим отражением существенная разница.
Автор "Творческого развития символа" предлагает нам интересные наблюдения, однако, наша позиция зиждется на существенно отличающихся от них соображениях.
Работа ставит целью правильную постановку и решение некоторых вопросов средневекового символизма на грузинском материале. Разумеется, изучение средневековой христианской символики вообще представляется нереальным. Медиевальный символизм является проблемой столь всеобъемлющей, что представляется невозможным ее ограничение какими-либо рамками как в количественном, так и в глубинном отношении. Правильное осмнслеіше средневековой литературы требует определения характера ее символики.думаем,всесторонний анализ нескольких конкретных примеров вполне достаточен для воспроизведения общей картины средневековой символики.
Слово "символика" включено в заглавие не случайно.Нас интересуют отдельные жесты, характерные для персонажей агиографической литературы. Это - действия, символически воплощающие христианское мировоззрение.
Во второй главе работы ставится целью посредством анализа отдельных жестов и выявления их символической нагрузки показать, что с таким же успехом можно выявить также символический, неоднозначный смысл и других жестов - действий персонажей. Причем трудно определить первостепенную значимость какого-либо из них, поскольку символический план всех действий имеет одну и ту же основу.
Мы останавливаемся еще на нескольких вопросах. Это определение символической функции важнейших понятий средневекового христианского мышления - света, сердца и благоухания. В теоретической части показано, что символизм в средние века имел глобальный характер. Исходя из этого, нам представляется невозможным всестороннее изучение всеобъемлющего символизма. Мы ограничились лишь определением символического характера основных понятий средневекового мироощущения (свет, сердце, благоухание). Они охватывают трансцендентные, эмпирические сферы и их медиум - человека. Поэтому в работе символика "света", "сердца", "благоухания" рассматривается каждая в отдельности. Выбран дедуктивный метод иследования сверху вниз, от небес к земле. "Свет" акцентируется как символ космической реальности; "сердце" в виде символа человека, центра его сознательной и физиологической жизнедеятельности, выявляет символику человека, связующего звена между небесным и земным; "благоухание", являясь элементом богослужения, представляет один из аспектов бытовой церковной символики.
Следовательно, посредством глубокого анализа определенных действий - жестов и понятий мы постарались воспроизвести общую картину средневекового символизма на примере грузинской агиографической литературы, что и является целью предлагаемой работы.
В процессе исследования вышеупомянутых вопросов мы, как и видно из названия, ограничились текстами оригинальной грузинской агиографии У-ХІ вв. Это текстологически изученные и академически изданные памятники: "Мученичество Щушаник. (У в), "Мученичество Або Тбилели" (УШ в.), "Мученичество Евстафия Мцхетели" (УІ в.), "Мученичество Давида и Таричани" (X в.),"Мученичество Константи-Кахи" (IX в.), "Мученичество Гоброни" (X в.), Жития сирийских подвижников (Ш-ХІ вв.), "Обращение Грузии" (IX в.), "Житие Григория Хандзтели" (X в.), "Житие Серапиона Зарзмели" (XI в.),"Житие йлариона Картвели" (XI в.),"Житие Евфимия Мтапмидели"(Х1 в.), "Житие Гиорги Мтаимидели" (XI в.).
В работе мы пользовались также трудами Псевдо-Дионисия Арео-пагита, переведенные и прокомментированные Ефремом Мцире ( издано С.Енукашвили, Тб., 1961).
Что касается схолии ареопагитического корпуса, комментариев Максима Исповедника и патриарха Германа, мы ознакомились с ними в фондах Института рукописей (список А-ІІ0).
Как уже было отмечено, средневековый символизм в грузинской агиографической письменности систематически не изучался. В этой связи изучение грузинской духовной литературы представляет интерес с точки зрения как литературоведческой, так и истории и философии культуры.
Соотношение общекультурных проблем с вопросами грузинской литературы выявляет общий уровень национальной письменности,дает возможность обратить внимание на отдельные моменты медиевального мировоззрения, приобретающие ценность в связи с символическим характером.
В отношении истории культуры символический анализ агиографических сочинений поможет установить, что именно акцентировалось в грузинском медиевальном миропонимании на фоне всеобщего средневекового символизма. Разумеется, средневековый символизм восточного христианства не мог распространиться в грузинской литературе одинаково интенсивно. В этом отношении интересно проследить направление тенденций грузинской письменности и национального мироощущения.
Наша работа не ставила целью исследование грузинской медиевальной символики относительно истории ее культуры и философии. Представленная в работе разработка проблематики сама по себе обуславливает необходимость изучения проблемы в этом разрезе. Полагаем, что предлагаемый нами материал может послужить основой для последующего, более углубленного осмысления указанного вопроса в дальнейшем.
Практическим назначением работы можно считать тот факт, что результаты изучения символики грузинской агиографической литературы дают возможность правильно прочесть и осмыслить многие места агиографических произведений, непонятные для современного читателя. Изучение символики способствует проникновению в глубокий смысл грузинской литературы, что является необходимым условием исследования словесного искусства каждой эпохи, в особенности средневековой литературы.
Некоторые вопросы теории символа
Всего лишь некоторые понятия представляют для философской, эстетической и литературоведческой мысли столь же большую ценность, как символ. Без него не может обойтись ни одна область гуманитарных наук. Категория символа выполняет важную функцию во всех сферах искусства, в особенности в изобразительном искусстве и литературе.
С символом связано не одно направление в философии и искусстве.
Теоретические основы символа широко разработаны как советскими, так и зарубежными исследователями. Природа символа представлена в работах В.И.Ленина. Символы, по мнению В.И.Ленина, отражение объективного мира, но при этом надо помнить и следующее: "все грани в природе условны, относительны, подвижны, выражают приближение нашего ума к познанию материи,- но это нисколько не доказывает, чтобы природа, материя сама была символом, условным знаком, т.е. продуктом нашего ума" (Ленин В.И.,1961 : 34).
В эстетическом наследии Гегеля, где рассмотрена символическая форма искусства, речь идет о символе вообще. "Символ есть прежде всего некий знак (Гегель, 1969 : 14).
Гегель специально указывает на неоднозначность символа. "Символ представляет собой непосредственно наличное или данное для созерцания внешнее существование, которое не берется таким, каким оно непосредственно существует ради самого себя, а должно пониматься в более широком и общем смысле" (Гегель, 1969 : 15).
Двупланный характер символа прослеживается и в этимологии самого слова. Имя существительное то 6Upf 0Aou означает "знак", "сигнал"; глагол от того же корня - бо Ьк \ означает " соединять", "сталкивать", "сравнивать", "сбрасывать в одно место".
В монографии А.Ф.Лосева "Проблема символа и реалистическое искусство",где в основном подытожены учения о символе, сказано, что "этимология этих греческих слов указывает на совпадение двух планов действительности" (Лосев А.Ф.,1976 : 18). Двупланность символа, отражение двух ступеней действительности представляются нам важнейшим моментом из всех теоретических определений символа.
В обобщенных рассуждениях А.Ф. Лосева подразумевается символ в широком смысле. В них акцентированы основные признаки,являющиеся общими для определения всякого рода символа. Именно поэтому учитывание этой теоретической предпосылки представляется необходимым.
"Символ является не просто функцией (или отражением) вещи, но функция эта разложима здесь в бесконечный ряд, так что, обладая символом вещи, мы, в сущности говоря, обладаем бесконечным числом разных отражений, или выражений вещи,... но символ является такого рода заданием, которое невозможно вычислить точно и осуществить при помощи конечного количества величин. И тем не менее он есть абсолютно закономерное и в идеальнейшем смысле слова системное" (Лосев А.Ф., 1976 : 12). Выходит, символ призван совмещать в себе два несовместимых и противоположных явления -бесчисленное количество единиц и системность.
"Символ вполне видим и вполне осязаем, хотя в него входят иррациональные и трансцендентальные величины... модельное и закономерное, системное разложение той или иной обобщенной функции действительности в бесконечный ряд частностей и единичностей, и является наиболее оригинальной чертой в понятии символа"(Лосев А.Ф., 1976 : 14-5).
Каждый вид символа заключает в себе нечто таинственное,подлежащее выяснению. Символ является чем-то неизмеримо большим, чем обозначаемый предмет. Между означаемым и означающим, или между вещью и символом этой вещи меньше тождества, нежели разницы, что по какой-то невидимой причине (вое) принимается за тождество (Лосев А.Ф., 1976 : 17).
"Всякий символ, во-первых, есть живое отражение действительности, во-вторых, он подвергается той или иной мыслительной обработке и, в-третьих, он становится острейшим орудием переделывания самой действительности" (Лосев А.Ф., 1976 : 19-20).
Суждения А.Ф.Лосева о символе в конечном счете сформулированы и сведены к девятипунктному определению, воспроизводящему общую структуру символа. Она выглядит приблизительно следующим образом: символ вещи есть.
Некоторые виды средневековой символики в грузинской агиографии
Предлагаемый раздел ставит целью изучение не только отдельных символов, хорошо известных христианскому миру, но и мировоззренческих вопросов, возникших в связи с христианской символикой. В предыдущей главе было отмечено, что термином "символ" предусмотрено обозначение отдельных предметов, а "символикой" вместе с тем и движения, жестов и явлений, которым христианское, мировоззрение придает особую значимость.
Интересующая нас проблематика необъятна, поэтому всестороннее ее изучение представляется задачей нереальной. В лучшем случае можно ограничиться лишь рассмотрением определенной части проблематики с подобающей осторожностью при условии, что исследование будет иметь верную ориентацию.
Придерживаясь мнения, что средневековая символика в агиографических литературах - явление всеобщее, мы постарались теоретизировать материал, почерпнутый из грузинской агиографической литературы, следуя по пути индукции - от конкретного к общему.
На данном этапе попытка выявить национальные особенности символики в грузинской агиографической литературе неосуществима. Единственным верным путем в этом направлении может явиться глубокое изучение общехристианской символики и правильное толкование грузинской христологической терминологии.
Как известно, первоначальный замысел христианства-принять космополитический характер - обернулся своей противоположностью. Для многих народов, обращенных в христианство, оно послужило сохранению национальности. Свой первородный замысел христианство частично осуществило в искусстве. Литература, живопись, музыка, архитектура средневековых христианизированных стран подчинялись общему канону. Несмотря на это, произведения искусств разных народов, созданные по одной и той же модели, согласно одному и тому же каноническому принципу, носят отпечаток существенного различия. По-видимому, в искусствах с общим мировоззрением и единой культурой оно обусловлено языком ( в самом широком смысле этого понятия).
Язык - сложнейший феномен человеческого сознания - помимо чисто разговорной функции является конгломератом важнейших аспектов человеческого бытия таких как географический ареал,этногенез, историческая судьба, характер, темперамент народа и т.д. Все они сознательно или подсознательно отражаются в языковой структуре. Следовательно, различие литератур, созданных по единому принципу разными народами, становится очевидным, но трудно поддающимся конкретизации фактом.
Мы задались целью определить - каким образомм реализованы некоторые примеры средневековой глобальной символики в грузинской агиографической литературе. Внимание обращено на символический смысл трех жестов - снятие одежды, благословение схимой, осе-нение крестом, а также функцию слез и символическое воощ$иятие событий персонажами.
Снятие одежды сопряжено с двумя моментами: с одной стороны,, снятие равно обесчещению, отсечению, с другой - снимая с себя одежду, верующий оповещает о своем отказе от мирской суеты. Первый момент приобретает свою значимость в связи со снятием монашеской рясы; второй же - светской одежды.
Благодаря полисемантическому языку средневековой символики, значимость вещи меняется согласно контексту. Так, отмечено, что "поцелуй" есть выражение любви,, верности и веры вообще. Но в поцелуе Иуды зафиксирован факт предательства" /Аверинцев,1977, 122).
Иоанн Сабанисдзе, автор "Мученичества Або Тбилели" пишет: когда Або господом было извещено о приближении часа разлучения с телом, "он снял одежду свою и отдал ее продать и купить ладан и свечу, которые он разослал для возжжения по всем церквам города" (Древнегрузинская литература, 1982 : 58).
Накануне разлуки с материальным миром Або вместо земных благ, мирских красок, так сказать, стремится приобрести духовные ценности.Впоследствии, когда амир приказал отсечь Або голову,его вывели во двор и развязали руки и ноги." Блаженный же разорвал на себе одежды свои и,нагой, осенил крестом лицо и все тело своё" (древнегрузинская литература,1982: 61).
Последний жест мученика - снятие мирской одежды - является показателем его душевной твердости и готовности к освобождению от мирских забот. Все это подтверждается возложением рук себе на спину крестообразно. Надо-j отметить, что в книге Д.С.Лихачева "Поэтика древнерусской литературы" указывается: "Христос и апостолы в иконографии (русской и западной) всегда изображались босыми. Объяснение этому читаем у Винцента из Бове: прообраз Христа - Моисей "сложил с себя обувь, символически слагая с себя тем самым суетность бытия" (Лихачев Д.С, 1979 : 163). Ту же значимость приобретает снятие с себя одежды.
Символика света в грузинской агиографии
Символика света в грузинской агиографической литературе специально не изучалась. По словам акад. К.С.Кекелидзе, приписывание богу предикатов света, солнца является "шаблонной метафорой в христианстве. Грузины для обозначения термина в христианство-гречески Ь іі[ - кинуть в воду, по-русски - "крестить" (от слова крест)" (Кекелидзе К.С, 1979 : ИЗ).
Это замечание К.Кекелидзе не раз пересматривалось в грузинской научной литературе. К.К.Данелия, изучая грузинскую христоло-гическую терминологию, обращает внимание на noiUis etfcr . "Если греки при именовании этого величайшего таинства подчеркнули фактор воды, славяне - креста, армяне - утопления-погружения, грузины обратили внимание на свет, что легло в основу грузинского термина" (Данелия К.К., 1977 : 190).
Следует иметь в виду, что греки параллельно с термином a-5v( пользовались термином fwt v . Большое распространение получил первый - f -iv. ». Этот же корень используется для обозначения Иоанна Предтечи - Крестителя Iw u s fcoouie s.
По мнению К.К.Данелия, "в сознании грузинского народа был настолько силен изыческий культ света, что из всех богослужебных компонентов особое предпочтение было отдано свету; более того;, языческий культ света возродился в христианском обличий.Следовательно iVwtUs &n является оригинальным переосмыслением грузинского языческого термина, удачно,усвоившим новое христологическое содержание. Оно понимается как воплощение сокровеннейшей идеи верующих - приобщения к вечному, беспредельному свету"(Данелия К.К., 1977 : 191).
Частое фигурирование солнца и лозы в действительности древних грузин объясняется Р.Г. Сирадзе исконным их сосуществованием. "В мифический период лоза считалась божественным растением. По представлению грузин она являлась "древом жизни". Ей поклонялись. И когда солнце стало главнейшим из божеств, лозу сочли наиболее близкой к нему из всех других растений, ибо она поглощала больше солнечной энергии.
Святая Нино шла в Грузию, неся в руках крест из лозы. Этим крестом она должна была благословить народ, приобщить его к новой вере. Для Нино не должно было быть тайной, что грузины испокон веков обожествляли силу лозы. Свой крест из лозы Нино связала своими волосами. Волосы издревле считались символом солнечных лучей.
Христианство совместило символику солнца и лозы, сплотив тем самым старую веру со своей эстетикой.
Единение лозы и солнца нашло отражение в гимне богородицы. "Древнее песнопение "Ты есть виноградник" начинается с воспевания виноградника и завершается славословием солнца. "Ты есть виноградник" и "Ты есть солнце" - в этих выражениях подразумевается одно и то же лицо. Оно - цветущий виноградник и сияющее солнце, виноградник расцветает благодаря солнечному сиянию" (Сирадзе Е.Б., 1982 : 26-7).
Все новообращенные народы важнейшее таинство христианства воспринимали в разной интерпретации. У одних особого внимания удостаивался крест, у других вода и т.д. Грузины же перенесли акцент на свет, узрев в соприкосновении или причащении к божественному свету суть первородного христианского таинства. И это не случайно:во-первых, грузины глубоко проникли в суть христианства; во-вторых, свет в грузинском мышлении имел свои традиции.
Известны разные приемы при переводе терминов с одного языка на другой. Переводчик следует или приёма транспозиции, что заключается в обнаружении адекватной семантической единицы (то 9оР -"добро"); или заимствовании иностранных слов ("евангелие", "аминь"); или калькировании выражений (іг іо %э )ю-по$-"ветхий человек").
Существует еще и приём ментализации."Сущность приёма осмысления,или ментализации, заключается в следующем. Если переводчик, прибегающий к трем известным приёмам, работает исключительно на уровне лексических понятий, то ментализация - это переход с понятийного на более сложный и разветвленный фоновый уровень,перевод не исходного слоЕа - термина, а какой-либо семантической доли из его смыслового объема. Приёмы транспозиции, заимствования и калькирования встречаются весьма часто, они в какой-то мере напоминают механическую работу. ...За каждым приёмом ментализации при терминотворчестве стоит творческое усилие,нетривиальное решение, внесение переводчиком в новый термин ( в его смысловой объем) частицы собственной личности" (Верещагин Е.М.Д982У ІІІ-2).