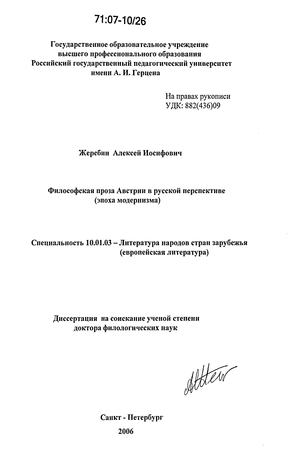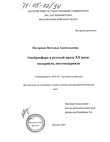Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Диалектика модернизма и концепция монистического мировоззрения 23
Глава II. Эрнст Мах и проблема разрушения личности 73
Глава III. «Молодая Австрия» и русская литература 137
III. 1. Герман Бар: Петербургская фантазия на тему австрийского модернизма 13 7
III. 2. Гуго фон Гофмансталь: Философия эстетизма и поэзия садов 173
III. 3. Отто Вейнингер: Антропологическая утопия Fin de siecle в оценке русских символистов 229
Глава IV. Варианты мистического дискурса 286
IV. 1. Людвиг Витгенштейн 286
IV. 2. Мартин Бубер 321
IV. 3. Рудольф Каснер 351
V. Психоанализ и русское мировоззрение в историко-литературном контексте конца XIX - начала XX веков 386
Заключение 470
Список использованной литературы 490
- Диалектика модернизма и концепция монистического мировоззрения
- Эрнст Мах и проблема разрушения личности
- Герман Бар: Петербургская фантазия на тему австрийского модернизма
Введение к работе
Задачей настоящей работы является типологическое изучение философского и художественного языка австрийской культуры конца XIX и первой половины XX века на фоне русской культуры того же времени и в прямом сопоставлении с нею. Ближайшим предметом исследования служит философская проза австрийского модернизма, ее культурно-исторический контекст, идейная структура, тематика, жанровая природа и стилевые черты, а материалом анализа - центральные философские и литературно-художественные тексты эпохи: произведения Эрнста Маха, Германа Бара, Гуго фон Гофмансталя, Артура Шницлера, Отто Вейнингера, Людвига Витгенштейна, Мартина Бубера, Рудольфа Каснера, Зигмунда Фрейда.
Модус их интерпретации избран автором с опорой на типологию культур, намеченную в «Переписке из двух углов» (1921) Вячеславом Ивановым. «Мало ли сколько планометрических чертежей и узоров возможно начертать на горизонтальной плоскости? Существенно, что она горизонтальна», - пишет Иванов и затем продолжает: «Весь смысл моих к вам речей есть утверждение вертикальной линии, могущей быть проведенною из любой точки, из любого "угла", лежащего на поверхности какой бы то ни было молодой или дряхлой культуры».!
Именно антиномия двух моделей культуры - горизонтальной и вертикальной, имманентной (исторической) и укорененной в области трансцендентного (метаисторической), определила драму европейского сознания на рубеже и в первые десятилетия XX века. Конец XIX века был воспринят современниками как край обжитого культурного пространства, где проложенная на плоскости магистраль исторического прогресса оборвалась над пропастью. Спасти культуру означало, по выражению Вяч. Иванова, «оправдать все человечески относительное творчество из его символических соотношений к абсолютному»,1 т. е. переключить культурное сознание из плоскости эвклидовского разума и социальной истории в неэвклидово пространство внеисторического религиозного мифа.
Одним из следствий мифологизации культуры явился пересмотр границ между наукой, философией и поэзией, точнее, изменение доминанты, определявшей попытку их синтеза. В системе горизонтальной культуры позитивизма такой доминантой представлялась наука; будущее философии и поэзии связывалось с подчинением их естественнонаучной методологии. Теперь же, при переключении культурного сознания на метафизическую вертикаль, ключевую роль начинает играть поэзия. Поэзия - вот цель и смысл философии, ибо поэзия раскрывает «внутреннюю общность конечного и бесконечного», — утверждал Новалис,2 и на рубеже веков это убеждение возрождается снова.
Современная практика деконструкции, обнаруживающая несостоятельность жанрового разграничения философских и литературных текстов, лишь обостряет сложившееся уже в эпоху раннего модернизма отношение к логическому языку гуманитарной науки как к отчужденному и требующему преодоления историческому инобытию языка образов. После Ницше, разоблачившего скрытую метафоричность отвлеченных понятий, граница между мышлением в отвлеченных понятиях и мышлением в чувственно-конкретных образах, так же, как и между текстами референтными и нереферентными, начала стремительно разрушаться.
Понятие «философская проза», вынесенное в название работы, лишено терминологической строгости, как и видовое по отношению к нему понятие «литература», обозначающее не только жанры художественной литературы, но и словесность в широком смысле.
Под философской прозой принято понимать жанры литературно-художественные - философскую повесть, притчу, «интеллектуальный роман» (Т.Манн), всякое прозаическое художественное произведение, в котором «идея как принцип изображения сливается с формой»1 или картина эмпирической действительности соотносится с бытийными универсалиями. Из произведений, подвергнутых анализу в нижеследующих главах, такова, например, символистская новелла Гуго фон Гофмансталя «Сказка 672 ночи» (1895), в которой проблема эстетического индивидуализма ставится и решается в форме восточной сказки, и его же новелла «Письмо» (1902) - тонкая стилизация английской эпистолы XVII века и одновременно философско-эстетическое эссе, верно названное Вальтером Йенсом «свидетельством о рождении модернизма».3 Таков, далее, путевой дневник Германа Бара «Русское путешествие» (1891), раскрывающий тему кризиса и преображения современной личности в перспективе религиозного сознания, к которому герой-рассказчик склоняется под влиянием русских впечатлений. Таковы, наконец, многочисленные произведения австрийских (Музиль, Кафка, Шницлер, Рильке) и русских (Толстой, Достоевский, Чехов, Горький, Вяч. Иванов, Блок, Мережковский) писателей, которые привлекаются в качестве иллюстративного или сопоставительного материала, а также тексты Гете, Клейста, Гейне, немецких романтиков, диахронически углубляющие философско-эстетический фон эпохи.
Весь этот литературно-художественный материал несет философское содержание, свидетельствуя о том, что в переломные моменты культурного развития литература «не желает оставаться в положенных границах... и появляется почва не для условного сосуществования философского и поэтического в одном произведении, а для их взаимопроникновения и для того, чтобы складывалось особое -единое и высокое - качество человеческой мысли».1
. Вместе с тем, понятие «философская проза» применимо и к философским сочинениям, которые связаны с художественной литературой отношениями синкретизма, и, отличаясь глубиной научного анализа, представляют в то же время значительную художественную ценность, являются яркими произведениями литературы. Изучение эстетического аспекта собственно философских текстов началось сравнительно недавно.2 Между тем, на рубеже веков, в условиях кризиса веры в науку философия принципиально отказывается от классической модели дискурсивно-логического мышления, выходит за рамки институционализированных форм философского изложения и движется навстречу литературе с не меньшей решительностью, чем литература идет навстречу философии. Молодой Ницше называет свою философию «поэтической», свои философские сочинения - «кентаврами», объединяющими в себе науку, философию и литературу. Таких же «кентавров», порой не менее причудливых и привлекательных, создавали его австрийские современники. Работа мысли неотделима для них от работы над словом, и когнитивная функция слова неразрывно связана с функцией эстетической.
Именно таковы тексты австрийских философов, рассматриваемые в этой работе: произведения Эрнста Маха, Отто Вейнингера, Людвига
Витгенштейна, Мартина Бубера, Зигмунда Фрейда, не говоря уже об эссеистике Рудольфа Каснера, которая традиционно изучалась как явление историко-литературного ряда. Не только Каснер, но и такие мыслители, как Вейнингер, Бубер и Витгенштейн, должны быть названы скорее не философами, а религиозными писателями. Философия для них - не столько наука, сколько сверхнаучное, интуитивное мировоззрение, находящееся в тесной родственной связи с религиозными убеждениями автора. Даже Фрейд, с его подчеркнутым атеизмом и тягой к научной объективности создает свои психоаналитические этюды в рамках свойственного эпохе «ауторефлексивного теоретического дискурса», сопоставимого с теоретической прозой поэтов символистов.1 Идейным контекстом, в котором формируется проза австрийских философов является монистическое мировоззрение, восходящее к натурфилософии романтиков, а преобладающей жанровой формой философско-литературного интердискурса - интегральный жанр эссе, объединяющий в себе признаки жанров научных, документальных и художественных.
Говоря о «философской прозе», автор диссертации исходил из убеждения в том, что границы художественного и нехудожественного исторически подвижны и относительны, различны на разных этапах развития литературы. Древние философы создавали свои сочинения в художественной форме потому, что само мышление их носило образный характер, эстетическое сознание еще не дифференцировалось от религиозного и философского. В начале XX века, в эпоху модернизма синкретизм образного и понятийного начал возрождается и культивируется сознательно, после многовековой их разделенности и ей вопреки, под знаком ее преодоления в связи с кризисом рационалистической культуры.
С особой апокалиптической остротой кризис рационалистической культуры был пережит в России и в Австрии - двух пограничных империях на общем пороге исторической катастрофы 1917 года. В 1990 году, когда распадался Советский Союз, Мераб Мамардашвили прочел в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина лекцию на тему «Вена на заре XX века». «То, что в хронологическом времени растянуто на десятилетия и кажется нам давно прошедшим, — говорил философ, — на самом деле происходит сейчас, и мы находимся в каком-то смысле в той же точке исторического времени, в которой находились художники, мыслители, публицисты и музыканты Вены».1 Во второй половине XX века Советский Союз, действительно, принял на себя историческую миссию, подобную той, которую до Первой мировой войны стремилась выполнять Габсбургская империя - миссию идеологической и политической консолидации Средней Европы. Распад советской империи мог восприниматься в этом контексте как процесс, аналогичный распаду Австро-Венгрии - «Ведь предупреждала же нас Вена, только мы не слышали».2
Однако мысль о совпадении австрийского и русского опыта не обязательно нуждается в оправдании несовпадением хронологии и большой истории. Духовный опыт обеих культур - русской и австрийской - обнаруживает явные признаки сходства уже на рубеже веков. Та и другая питаются острым предчувствием надвигающейся гибели; накануне обещанного рокового дня, когда история окончательно их отменит, они переживают небывалый расцвет, результатом которого становится превентивная отмена истории - антиципация всей культуры XX века.
Карл Эмиль Шорске, автор фундаментального исследования „Вена на рубеже веков. Политика и культура" (1980) писал: «Вена на рубеже веков, сотрясаемая лихорадкой социальной и политической дезинтеграции, становится наиболее продуктивной средой, где зарождается внеисторическая культура нашего века».1 Объяснение этого факта Шорске дает следующее: «Эра политического господства либерального среднего класса в Австрии, начавшаяся позже, чем где бы то ни было в Западной Европе, завершилась раньше, чем везде, глубоким кризисом... Едва успели отпраздновать победу, как началось отступление и поражение. Весь процесс происходил в такие сжатые сроки, каких в Европе больше нигде не видели... Новая кульура Австрии расцветала словно в оранжерее, причем источником тепла служил политический кризис».2
Современник и участник этого процесса, Карл Краус писал об Австрии: «экспериментальная лаборатория будущего светопреставления»;3 соседней экспериментальной лабораторией была Россия. Социально-историческая обусловленность австрийского модернизма - если признать вслед за Шорске ее решающее значение - дает основания для того, чтобы ставить вопрос о типологической аналогии с модернизмом русским -настолько сходными были условия.
Другим, не социологическим, а идейным основанием для анализа австрийских текстов в русской перспективе является известное сходство культурно-исторических традиций, коренящееся в родственных особенностях религиозного сознания. В 1913 году эту тему бегло намечает Герман Бар в эссе «Русский Христос». Ненависть Достоевского к католицизму, утверждает Бар, была «большим недоразумением»; в сущности, Достоевский, с его призывом к единению человечества во Христе и к соборной общественности, мыслил как христианин эпохи католического барокко, иными словами, в согласии с традицией австрийской культуры.
Особый интерес представляет в этой связи выдвинутая Ульрихом Фюллеборном в начале 1980-х годов концепция австрийского модернизма как «литературы бытия» (Literatur des 1st), противопоставленной немецкой «литературе субъекта» (Literatur des Ich).1 По Фюллеборну, эта дихотомия восходит к двум принципиально различным культурно-историческим традициям. «Литература субъекта» (или «литература „Я"») получила развитие на почве северогерманского протестантизма. Ее вершиной явилось Просвещение, ее пафос заключается в эмансипации обособленной человеческой личности как субъекта познания и субъекта истории. Напротив, «литература бытия» (или «литература „есть"») коренится в самобытной традиции австрийского католического барокко; эпоха ее самоутверждения и расцвета наступает лишь на рубеже XIX - XX веков, в атмосфере кризиса индивидуализма, когда она конституируется под именем «модернизма» (die Moderne) и сознательно противопоставляет себя предшествующей «литературе субъекта». Ядром австрийской «литературы бытия» является, таким образом, имперсоналистическая переоценка трансцендентального идеализма и утверждение сверхличной сферы, в которой укоренен отдельный человек.
Тезисы Фюллеборна подтверждают и дополняют ту картину австрийской духовной культуры, которую нарисовал в своей книге «Идеализм и его противники в Австрии» (1966) Роже Бауэр. Если понимать термин «модернизм» так, как это принято в западной философской литературе, т. е. как обозначение большой исторической эпохи с середины XVIII до середины XX века (с характерными для нее особенностями социального развития, культуры, искусства, философии), то специфика всего австрийского модернизма заключается, по Бауэру, в том, что австрийская мысль XVIII - XIX веков продолжала развиваться в русле католической контрреформации. Ее сквозной концепт и
I центральный топос - божественная природа мира, действительность как Царствие Божие, «royaume de Dieu».1 Австрийская философия и литература, доказывает Бауэр, мыслит мир как универсальный божественный организм, включающий в себя все сущее, где познающий субъект есть лишь один из органов и черпает свое достоинство в сознании своей укорененности в сверхличном бытии целого.
Эпоха расцвета австрийской культуры на рубеже XX века предстает в работах Бауэра и Фюллеборна как своего рода эпоха Реставрации, когда философия «модерна» окончательно оформляется в Австрии под знаком восстановления утраченного единства человека и Бога. Именно так интерпретировал австрийский модернизм еще в 1947 году Эрнст Роберт Курциус, а до него Гуго фон Гофмансталь, бросивший в 1927 году сильное и спорное определение - «консервативная революция».3 Метафизическая революция духа, имеющая своей задачей реставрацию всеединства, распавшегося в истории, включение секуляризованной личности в богочеловеческий процесс - таков смысл современной культуры Австрии с точки зрения ее творцов и целого ряда ее исследователей.4
При таком взгляде на специфику австрийского модернизма аналогия его с «русским мировоззрением» (С.Л. Франк), каким оно виделось мыслителям философско-религиозного направления, настолько очевидна, что почти не нуждается в специальном разъяснении. В -известной степени это сходство осознавалось уже современниками. Так, Франк, полемизируя в 1910 году с В.Ф. Эрном, подчеркивал, что реализм илионтологизм философского мышления, представляя характерной особенностью русской философии, не является вместе с тем ее исторической привилегией. К союзникам русской философии Франк относит Спинозу, Лейбница, Шеллинга, Спенсера, Авенариуса, а среди современных немецких авторов упоминает и австрийца Генриха Гомперца, его книгу «Учение о миросозерцании», содержащую «меткую критику кантианства и идеологизма».1
В русской научной литературе последних лет вопрос о национальной специфике австрийской философии рассматривался - вне связи с Россией
- в работе Е.С. Черепановой «Австрийская философия как самосознание австрийского региона».2 По мнению исследовательницы, «региональное» своеобразие австрийской философской мысли определяется неприятием немецкого идеалистического рационализма (кантианства), критикой языка, тяготением к эмпиризму и позитивизму, повышенным интересом к психическому опыту как единственно достоверной реальности. Все эти черты складываются на основе «барочного мировосприятия», получающего свое теоретическое выражение в лейбницианстве и обнаруживающего себя в том, что «обыденный порядок вещей наделяется a priori универсальной связью со Вселенной, которую, впрочем, понять и познать невозможно».3
Во многом верная, эта характеристика нуждается, однако, в одном существенном уточнении, резко меняющем всю картину. Дело в том, что влияние барокко плохо согласуется с философией и психологией позитивистского толка, и эмпиризм австрийцев - это явление особого рода. Он глубоко отличен от эмпиризма английского типа, не умещается на горизонтальной плоскости позитивистского сознания. Опыт не равнозначен для австрийцев чувственной очевидности, он не раскладывается без остатка на комплекс данных чувственного восприятия. В целом ряде случаев, у Германа Бара и Гофмансталя, у Витгенштейна, Бубера и Каснера австрийский антирационализм связан с обращением к опыту мистическому, основанному на принципе онтологизма (первичной, неопосредствованной ощущениями и рассудком внутренней связи сознания и бытия), означающему интуитивное проникновение в трансцендентную реальность метафизического бытия через сочувствие и переживание. К мистическому сознанию тяготеет и австрийская критика языка (Гофмансталь, Маутнер, Витгенштейн), и австрийская психология, приобретающая в лице Отто Вейнингера черты онтологического учения о душе, по отношению к которому психоанализ Фрейда может интерпретироваться как позитивистский регресс.
Возможность подобной трактовки австрийской самобытности открывается именно благодаря включению австрийского материала в русскую перспективу. Поскольку в русской культуре религиозно-мистическая тенденция выражена отчетливее и острее, чем в Австрии, русские аналогии используются в качестве своего рода ключа к австрийскому материалу. Хотя в некоторых главах диссертационного исследования русская рецепция занимает значительное место, автору представляется, что наличие русской перспективы не всегда предполагает эксплицитный сравнительный анализ. Выражение «русская перспектива» характеризует не механизмы русско-австрийского диалога в эпоху исторического модернизма, а точку зрения и аналитическую стратегию исследователя, сознательно стремящегося к созданию постоянно ощутимой, эксплицитной или имплицитной проекции изучаемых явлений на смысловое пространство русской культуры эпохи символизма.
В широком плане русская перспектива означает лишь попытку авторского осмысления своей компетентности, своих возможностей понимания иностранного, инокультурного материала - в том смысле, в каком писал об этом Эрвин Панофски: «Специалист отличается от наивного зрителя тем, что осознает свою ситуацию».1 Ситуация же русского исследователя, пишущего об иностранной литературе, заключается в том, что он невольно и неизбежно, в силу своей укорененности в своей национальной культуре, «перекодирует» иностранные тексты и, желая понять их «правильно», должен заниматься «обратным переводом» извлеченного им смысла на семиотический язык оригинала.
Но, как известно, результат обратного перевода никогда не может совпасть с оригиналом полностью. Причина несовпадения есть то, что Пьер Бурдье обозначил как «культурный габитус», связывающий исследователя с его эпохой и национальной средой.2 Если согласиться с невозможностью «непорочного познания»,3 то единственная возможность, которая остается русскому исследователю - это сознательно применить к иноязычному материалу тот опыт восприятия, те навыки и аппарат мышления, которые сформировались в условиях и под влиянием его родной культуры и несут на себе ее отпечаток. Очевидно, что речь может идти при этом о расшифровке лишь одного уровня значений из многих, заключенных в иноязычном тексте - того, который раскрывается в русской перспективе.
В теоретическом плане такой подход находит свое оправдание в принципах рецептивной эстетики, переместившей процесс смыслопорождения в сферу адресата, выдвинувшей на первое место понятие контекста восприятия как фактора актуализации смысловых значений, заданных текстом. Именно в русле эстетики восприятия окрепло понимание того, что семантическая трансформация («альтерация» как переход в другое), неизбежная при семиотическом переводе текста на язык воспринимающей культуры (его перекодировке), есть не подлежащее устранению искажение некоего объективного значения, а необходимый и плодотворный аспект «работы текста», благодаря которому он способен участвовать в становлении культуры-реципиента и вообще существует как актуальный смысл, до акта восприятия принципиально отсутствующий. Тем самым была опровергнута одна из самых прочных иллюзий литературоведческой науки - иллюзия того, что исследователь может вступить в непосредственный контакт с предметом своего изучения, чтобы раскрыть тот, якобы, аутентичный, подлинный смысл текста, который отвечает замыслу его автора.
С точки зрения рецептивной эстетики взятой в наиболее радикальных из нее выводах, такого истинного смысла никогда не существовало, ибо смысл возникает только тогда, когда текст включается в определенный контекст восприятия. Процесс же реконтекстуализации, т.е. «обратного перевода» текста на язык эпохи его создания (даже, если предположить, что такая операция действительно возможна) обеспечил бы в результате не тот единственно истинный, достоверный смысл текста, о котором мечтает историк литературы, а лишь воспроизвел бы уровень понимания его автора и/или современников, т. е смысл такой же неполный и относительный, как и обеспечиваемый любым другим избранным контекстом. Вот почему, как писал Ролан Барт, «достоверность, если она и существует в критике (то же и в науке о литературе - А.Ж.), зависит не от способности раскрыть вопрошаемое произведение, а, напротив, от способности как можно полнее покрыть его своим языком». В России аналогичную мысль высказывал М.М. Бахтин: «Творческое понимание не отказывается от себя ... Великое дело для понимания - это вненаходимость понимающего - во времени, в пространстве, в культуре -по отношению к тому, что он хочет понять».1
Именно этот путь анализа, вытекающий из признания неизбежной культурно-исторической обусловленности любого исследовательского подхода избран в настоящей работе, где тексты австрийских авторов эпохи модернизма вводятся в смысловое поле русской культуры, являющееся контекстом их интерпретации. Включенные в этот контекст, они вступают в ситуацию диалога, с одной стороны, с текстами русских писателей-модернистов, а, с другой и на другом уровне - с сознанием их русского исследователя, изучающего и эти тексты и эту рецепцию. Таким образом, избранный метод исследования сам участвует в формировании его предмета, отвечая тем самым коренному требованию изучаемой поэтики модернизма, в которой субъект художественной деятельности выступает в роли организатора коммуникативного события, ищущего своего завершения в активной интерпретации.2
Еще одним фундаментальным теоретическим принципом, определившим характер настоящей работы, является принцип историзма в подходе к слову - краеугольный камень русской «исторической поэтики» и «сравнительно-исторического метода» от А. Н. Веселовского до А.В. Михайлова. С момента своего возникновения во второй половины XIX века историческая поэтика была занята поисками меры между «расширительным» (история общественной мысли) и «спецификаторским» (художественная литература) пониманием своего предмета. Эта мера была найдена благодаря осознанию исторической изменчивости границ между словом художественным и нехудожественным. Отказываясь от их жесткого противооставления, Веселовский «вычленяет поэтическое слово в пределах всей словесности, в пределах культурно-исторического единства слова .. . История литературы в его понимании вбирает в себя общеисторическое и общекультурное содержание».1
В контексте филологической науки XIX века это означало не возврат к недифференцированности риторического слова, а движение навстречу неосинкретическим тенденциям в поэтике символизма. Так, Александр Блок сознательно включал свою «критическую прозу» в сферу художественного творчества,2 а его поздний современник М.М. Бахтин утверждал, что «в основе полуфилософских, полухудожественных концепций мира ... - каковы концепции Ницше, отчасти Шопенгауэра -лежит живое событие отношения автора к миру, подобное отношению художника к своему герою, и для понимания таких концепций нужен до известной степени антропоморфный мир - объект их мышления» .
Таким образом, предлагаемое нами толкование термина «философская проза» восходит к традициям русской исторической поэтики. В соответствии с этой традицией художественная литература рассматривается в настоящей работе как форма философского самосознания эпохи, а философия модернизма прочитывается не только в постоянной соотнесенности с литературой, но и с учетом присущего самой философии эстетического компонента.
Наконец, в числе важнейших теоретических источников настоящей работы следует указать и на теорию интердискурсивного (интердисциплинарного) анализа, гуманитарного синтеза, немецкого «культурологического литературоведения» (kulturwissenschaftliche Literaturwissenschaft), получившие многостороннюю разработку в постструктуралистской «поэтике культуры».4 В процессе
продолжающегося развития этих концепций область художественной литературы все больше теряет свою обособленность, а традиционные роли «поэта», «писателя», «критика», «публициста», «социолога», «психолога», «этнографа», «лингвиста», «литературоведа», «искусствоведа» и т.п. начинают интерферировать так же, как приемы и методы, которыми они пользуются при создании «метатекстов», интепретирующих факты культуры как взаимосвязанные элементы ее универсального текста. Влияние отмеченных реинтеграционных моделей явственно обнаруживается в предлагаемом исследовании, где тексты австрийских и русских поэтов и философов рассматриваются как взаимозависимые формы общекультурного сознания эпохи модернизма вне их конвенционального распределения между относительно автономными национальными традициями, дискурсами и научными дисциплинами.
Важным подтверждением целесообразности такого подхода к материалу исследования явилась обоснованная Ю.М. Лотманом «триединая модель» «текстового механизма культуры», приводимого в действие энергией как минимум двух относительно самостоятельных «субтекстовых образований» или «подъязыков».1 В работе эта модель реализуется в двух ее аспектах: а) в аспекте взаимодействия художественной и нехудожественной прозы, интегрированных в рамках метатекстовой по отношению к ним семиотической структуры -философско-литературного интертекста эпохи, б) в аспекте диалога австрийского и русского вариантов философской прозы, интернированных в условной метаструктуре русско-австрийского модернизма.
Таким образом, актуальность темы и направления исследования обусловлена прежде всего потребностью в модернизации отечественной германистики на основе обращения к опыту постструктуралистской «поэтики культуры». Современный взгляд на литературу как на одну из манифестаций общекультурных смыслов и ценностей требует расширения сферы литературоведческого анализа за пределы т.н. литературного ряда. В соответствии с этим требованием анализ текстов, (как собственно художественных, так и философских, как австрийских, так и корреспондирующих с ними русских) ориентирован в настоящей работе на выявление типологического сходства между культурными кодами эпохи модернизма, на реконструкцию общих законов ее языка, обладающего системным единством поверх границ национальных и региональных, дискурсивных и дисциплинарных.
Научная новизна исследования определяется в теоретическом плане разработкой интердискурсивного подхода и принципа активной интерпретации на основе авторской вненаходимости, а в плане историко-литературном - раскрытием роли монистического мировоззрения (resp. метафизики всеединства) в эволюции модернизма, организации философско-литературного дискурса и формировании русско-австрийского культурного диалога. Ряд авторов, произведений, фактов литературной жизни, анализируемых в работе, либо вовсе не привлекали к себе внимания исследователей, либо оставались на периферии литературы вопроса и значение их в истории австрийского модернизма и его связей с русской культурой осмысляется в настоящей работе впервые.
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы. В различных частях работы аналитическое зрение фокусируется по-разному.
В главе первой (Диалектика модернизма и концепция монистического мировоззрения) исследование ведется в форме обобщенно-концептуального построения, иллюстрируемого примерами из разных участков философско-литературного поля. Здесь задаются ориентиры, контекстуальная рамка для последующих глав. Модернизм, как австрийский, так и русский, характеризуется как в широком смысле религиозная, хотя и внеконфессиональная концепция литературного и культурного творчества, утверждающая принцип реинтеграции чувственного и сверхчувственного миров на основе монистической теории всеединства. Первым полноценным историческим вариантом этой концепции явился романтизм, а ее верхней границей - теория и практика постмодернизма.
Главы вторая (Эрнст Мах и проблема разрушения личности) и четвертая (Варианты мистического дискурса) написаны в форме монографических очерков, содержащих целостную концепцию творчества того или иного австрийского автора (Мах, Витгенштейн, Бубер, Каснер) и указывающих на значение заключенного в их философских произведениях мистического потенциала для художественной литературы эпохи. В той и другой главах значительное место занимает тема русского влияния, по убеждению автора диссертации, более значительного, чем это принято было признавать в литературе вопроса.
В главе третьей («Молодая Австрия» и русская литература) дается текстуальный анализ отдельных произведений или их фрагментов, позволяющий перейти к более широким обобщениям относительно интердискурсивных (философия и литература) или интерлитературных (русская и австрийская литература) связей в эпоху модернизма. Первый раздел этой главы посвящен книге Германа Бара «Русское путешествие», в которой Бар - идеолог и организатор группы «Молодая Вена» -актуализирует существенные признаки «петербургского текста» русской литературы применительно к венскому модернизму. В центре второго раздела находится новелла Гуго фон Гофмансталя «Сказка 672 ночи», которая включается в смысловое поле сцепленных между собой австрийских и русских текстов на тему сада и рассматривается как философская притча о кризисе эстетизма. Темой третьего раздела является книга Отто Вейнингера «Пол и характер» в связи с увлекательным феноменом «русского вейнингерианства».
Все три раздела главы IV связаны общей темой самопреодоления австрийского «кающегося» декаданса. Включение в эту главу раздела о Вейнингере оправдано принципиально новым толкованием литературно-эстетической программы венского модернизма, не сводившегося, как показывает ее анализ в русской перспективе, к замещению натурализма импрессионизмом. Импрессионизм, с которым принято связывать творчество писателей «Молодой Вены», является для них не конечной целью (преодоления натурализма), а подлежащим в свою очередь преодолению переходным этапом на пути к философско-литературной концепции, близкой к «реалистическому символизму» Вяч. Иванова и русских младосимволистов. Вот почему Вейнингер, принципиально несовместимый с декадентскими и импрессионистическими элементами в творчестве писателей «Молодой Вены», является, тем не менее, подобно им, человеком и мыслителем «Молодой Австрии» - не литературной группы, а литературного поколения, открывающего своей деятельностью историю австрийского модернизма.1
Глава 5 (Психоанализ и русское мировоззрение в историко-литературном контексте конца XIX - начала XX веков) посвящена Фрейду как мыслителю эпохи символизма, а также русской рецепции психоанализа, доминанту которой образует идеологическая радикализация научной теории Фрейда («примерка» фрейдизма к господствующим метанарративам русской культуры - с одной стороны, к марксизму, с другой - к символизму), неожиданным образом обнаруживающая точки соприкосновения с постмодернистской ее переоценкой у Жака Лакана.
Следует подчеркнуть, что во всех случаях установка делается не на исчерпывающий охват всего необозримо богатого материала, имеющего отношение к избранной проблеме, а на анализ явлений, наиболее показательных, характеризующих интеллектуальную и творческую парадигму модернизма в его австрийском и до определенной степени в русском варианте.
Диалектика модернизма и концепция монистического мировоззрения
Современная западная концепция модернизма ориентирована культурологически. В немецкой научной литературе под модернизмом (die Moderne) подразумевается, как правило, большая культурно-историческая эпоха, имеющая своим общим содержанием социокультурный процесс модернизации во всех областях общественной жизни и сознания. Важнейшими признаками модернизации выступают: технический прогресс, индустриализация и урбанизация, повышение социальной мобильности, развитие средств массовой коммуникации, высокая организация государственно-бюрократической системы, дифференциация и усложнение общественных структур всех уровней, утверждение рационалистического типа мышления и сопровождающий его гносеологический скептицизм, рост субъективного самосознания и эмансипация личности, демифологизация действительности и критическая переоценка метафизических представлений.1
Ссылаясь на Гегеля, Юрген Хабермас доказывает, что история модернизма начинается в эпоху позднего Просвещения, подготовившую революцию во Франции.2 Эту точку зрения разделяют историк Рейнгард Коселлек,3 социолог Никлас Лукман,4 литературоведы Герхард Плумпе5 и Ганс Роберт Яусс. По мнению последнего, ключевой фигурой XVIII века является Руссо, поставивший проблему прогресса, которая определила развитие модернистской мысли вплоть до «Диалектики просвещения» Адорно и Хоркхеймера.1 Ментально-психологическим критерием принадлежности к модернизму выступает при этом строй чувств и мыслей, в которых узнает себя современная личность, а центральным историческим событием, зафиксировавшем ее рождение - Французская революция 1789-1794 годов. Знаменуя вершину и одновременно кризис просветительской идеологии, она открывает эпоху интенсивного и противоречивого развития во всех областях культурного творчества, в том числе и в художественной культуре, по отношению к которой стал употребляться принадлежащий Адорно термин «эстетический модернизм» (Asthetische Moderne).2 «Модернизм в литературе и искусстве, - пишет, опираясь на эту теорию, Дирк Кемпер, - означает теперь не только микроэпоху, введением в которую явились натурализм и эстетизм, но также и макроэпоху, начиная со второй половины 18 века, с культурного перелома, обусловленного Просвещением и революцией».
В отечественной теории литературы этому соответствует понятие «индивидуально-творческое художественное сознание», сформулированное в 80-е годы С.С. Аверинцевым с опорой на концепцию Эрнста Роберта Курциуса.4 Немецкий термин «эстетический модернизм» означает, по существу, то же самое, что и «поэтика автора», сменившая «рефлективный традиционализм» риторической культуры, которая господствовала на протяжении двадцати шести веков от Гомера до Гете. «Рубеж XVIII-XIX веков - переломный в истории европейской культуры период, период критический, в течение которого огромные пласты культурной традиции - то, что идет из глубины времен и то, чему полагается теперь начало - приходят в столкновение. ... На рубеже XVIII - XIX вв. непрерывная преемственность культуры начинает обращаться в сопоставление - античного и нового».1
Мария Депперман, следуя Яуссу, различает в истории европейского модернизма три последовательные стадии: 1) с конца XVIII до середины XIX веков, когда доминирует романтизм с его идеей «эстетической революции» (Ф. Шлегель), которую романтики отождествляют с провозглашенной Фихте революцией духа, 2) период между 1850 и 1910 годами, отмеченный сложным взаимодействием позднего романтизма, реализма, натурализма импрессионизма и символизма и, наконец 3) авангардизм 1910-1930-х годов, представленный кубизмом и футуризмом, экспрессионизмом, дадаизмом и сюрреализмом. 2
Такое широкое понятие модернизма, охватывающее эпоху от Французской революции до середины XX века получило распространение сравнительно недавно, не в последнюю очередь под влиянием постмодернистской концепции и представляет собой результат экспансии термина, впервые появившегося в 1886 году на страницах журнала немецких натуралистов «Прорыв» («Durch») как собирательное понятие для всех новейших тенденций в литературе, искусстве и общественной жизни.1 В 1891 году теоретик «Молодой Вены» Герман Бар подхватывает это самоопределение немецких натуралистов, чтобы, исходя из особенностей литературного развития в Австрии, перенести его преимущественно на постнатуралистические течения, «преодолевшие» натурализм. Ключевыми словами модернизма в австрийском его варианте становятся «нервы», «душа», «Я» и «сновидение».2 Спор Вены и Берлина по вопросу о модернизме обнаруживает типологическое сходство с тем спором, который вели в середине 18 века - на общей основе просветительского классицизма - сентиментальный Цюрих и рационалистический Лейпциг.
«Если взять за точку отсчета термин die Moderne, созданный в Германии 1880-х годов - писал В.Г. Адмони, - то в нем сочеталось все новое, что принесли последние десятилетия прошлого века: увлечение новой техникой, урбанизм, социализм, анархизм, натурализм в его крайних формах, новые религиозные течения. Учителями выступают Золя, Толстой, Ибсен, Достоевский. А в 90-е годы сюда же присоединяются идущий из Франции импрессионизм и ницшеанство, символизм и неоромантика, декадентство всех видов. И все это относилось к Moderne». В современной немецкой научной литературе на этой основе было сконструировано понятие «исторический модернизм» (die historische Modeme) - главным образом, в отличие от более позднего т.н. «неомодернизма» середины XX века. Так, Вальтер Фендерс включает в сферу «исторического модернизма» наряду с натурализмом такие явления художественной культуры 1880-1910-х годов как эстетизм, декаданс, Fin de siecle, импрессионизм, югендстиль, неоромантизм, неоклассицизм и символизм, т.е. явления, которые в немецкой литературе принято также объединять под рубрикой «На рубеже веков» (Jahrhundertwende).
Эрнст Мах и проблема разрушения личности
Кризис европейской культуры на рубеже XX века предстает в первую очередь в форме кризиса веры в научную картину миру, окончательно сложившуюся в эпоху позитивизма. По существу, это была новая волна той катастрофы рационалистического сознания, которая уже столетием ранее была ознаменована романтизмом. Модернизм осмысляет ее заново, на новом витке исторического развития. «Культура - трухлявая голова... будет взрыв: все сметется», - в этих словах Андрея Белого1 сформулирована центральная тема модернизма, тема взрыва культуры.
Может быть, ни в какой другой точке земного шара, кроме России, приближение взрыва не ощущалось так явственно, как в Австрии. Ощущение и рассудок, чувственное и сверхчувственное, сознательное и бессознательное, природа и культура - эти и целый ряд других антитез, пересекающихся и интерферирующих, оформляют коренное противоречие иллюзорного и реального, над разрешением котором мучительно бьется мысль австрийских философов и поэтов. Существование на границе между иллюзией и реальностью - их общая экзистенциальная ситуация; их общим идейным заданием явилось преодоление этой границы, прорыв к истинной реальности, скрытой под наслоениями научных и религиозных, этических и эстетических представлений, томящейся под властью дискурсов. Они желают этого даже в тех случаях, когда сами несут пограничную службу, как Витгенштейн, или довольствуются организацией пропускных пунктов, как Фрейд.
Первый основательно продуманный план делегитимации границ, исказивших облик современной культуры, принадлежит Эрнсту Маху, автору оригинальной и влиятельной теории «психофизического монизма».
Эрнст Мах (1838-1916) - законченный тип либерального профессора второй половины XIX столетия, каким он представлен, например, в рассказе Чехова «Скучная история» или в воспоминаниях Андрея Белого о своем отце, профессоре Бугаеве. Выходец из среды образованного бюргерства, Мах был воспитан на идеалах 1848 года и навсегда сохранил веру в социальный прогресс человечества на основе незыблемых принципов европейского либерализма. По своим общественным взглядам он близок к Эмилю Золя - защитнику Дрейфуса и обвинителю реакционного режима Третьей республики. Либерал с социал-демократическими симпатиями и космополит, Мах был известен современникам как борец за права человека и гражданина, противник государственного давления на личность, критик клерикальных и националистических тенденций, все больше определявших общественную жизнь Габсбургской империи конца века.
В качестве профессора Пражского университета (с 1867 по 1895 гг.), а с 1879 г. и его ректора Мах обостренно реагировал на национальный конфликт между чехами и немцами, который представлялся ему варварским рецидивом религиозных войн XVII столетия. Его космополитизм - явление совершенно иного порядка, чем элитарное европейское сознание эстетствующих поэтов «Молодой Вены» с их презрительной отрешенностью от общественной жизни. У Маха неприятие фанатизма и любых форм идеологизации сознания еще связано с демократической симпатией к слабым и угнетенным, будь то французские коммунары, чешские патриоты или венские пролетарии.
Именно раздел Пражского университета на немецкие и чешские факультеты существенно повлиял на решение Маха вернуться в Вену, где прошли его студенческие годы, а приход к власти правительства левой коалиции способствовал его карьере в столице. В 1896 г. он получает кафедру истории и теории естествознания, организованную в Венском университете специально для него.
К этому времени Мах уже знаменитый ученый, сделавший важные открытия в области физики и психологии. В венский период он выступает, главным образом, с научно-популярными лекциями, в которых видит свой общественно-просветительский долг. Посвящая свои лекции предметам, казалось бы, сугубо специальным, таким, например, как законы механики или тепловой энергии, Мах неизменно придает им широкий мировоззренческий характер, привлекавший многочисленную и разнообразную публику.
В 1897 году Мах вступает в «Венское фабианское общество», подписывает (вместе с писателями Фердинандом фон Сааром и Марией Эбнер-Эшенбах) обращение к правительству с призывом учредить Народные университеты, сближается с лидером социал-демократической партии Виктором Адлером и с его сыном Фридрихом, физиком и социалистом, совершившим впоследствии покушение на премьер-министра графа Штюрка.
Герман Бар: Петербургская фантазия на тему австрийского модернизма
В начале 1890-х годов Герман Бар (1863 - 1934) выступил в роли организатора нового литературного направления, вошедшего в историю австрийской и мировой литературы под именем «Молодая Вена» или «Молодая Австрия».1 Наряду с Артуром Шницлером и Гуго фон Гофманста-лем, утвердившими славу австрийской литературы «конца века» далеко за пределами Австрии, в венскую группу принято включать целый ряд менее известных поэтов и журналистов, которые, начав с усвоения принципов французского и, в особенности, немецкого натурализма, испытали острый кризис мировоззрения, приведший их к поискам новой человеческой и художественной правды.2 Теоретическому определению этой правды служили многочисленные «измы» постнатуралистической литературы. Герман Бар, представляющий интерес не столько как драматург и романист, сколько как эссеист и литературный критик, был первым, кто ввел в немецкую литературу такие понятия, как «декаданс», «символизм», «импрессионизм», «эстетизм», «неоромантизм», «новый идеализм», и существенным образом способствовал формированию концепции «модернизма». Он был первым, кто пытался определить содержание этих понятий на широком международном материале, чтобы с их помощью выработать программу развития национальной австрийской литературы, установить масштаб стоящих перед нею задач. Едва ли не центральным мотивом деятельности Германа Бара явилось культурное соперничество с Германией, по сравнению с которой Австрия чувствовала себя провинцией. В немецкой литературе 1880-х гг. господствовал натурализм, и первые усилия Бара были направлены на завоевание Берлина, на изучение и пропаганду немецких образцов -Гауптмана, Арно Гольца, "немецкого Золя" Макса Кретцера и др.
Но 1889 год, проведенный Баром в Париже, резко изменил его отношение к натурализму. После Парижа, где Бар открывает для себя "декадентов" и "символистов", прежде всего Бодлера и Гюисманса, Поля Бурже и Мориса Бареса, путь культурного обновления Австрии представляется ему совершенно в ином свете. Вместо подражания берлинскому натурализму, Бар требует теперь его «преодоления», не без оснований навлекая на себя обвинения в непостоянстве убеждений и насмешки, связанные с его призывом преодолеть то, что литература Австрии еще не успела освоить.
Опору для преодоления берлинского натурализма Бар ищет и находит в опыте других европейских литератур, не только французской, но также скандинавской, итальянской, английской, русской. Литературная теория, как и практика «Молодой Вены» принципиально космополитичны, они сознательно стремятся быть зеркалом и средоточием новейших тенденций в европейском искусстве, являют собою ярчайший пример национальной литературы, нацеленной «на прием» иностранных влияний.
Когда в начале 1890-го года Бар возвращается из Франции в Берлин, столица Германского Рейха, ранее казавшаяся Бару литературной Меккой, представляется ему чуждым городом, который ему больше неинтересен и где его перестали понимать. Переполненный парижскими впечатлениями, еще не до конца осмысленными и переработанными, Бар стоит на распутье. И не находя себе достойного применения и поприща, чувствует себя как «актер, который выйдя уже на сцену, вдруг понимает, что собрался играть в чужом спектакле, где роль для него не предусмотрена».1 В этих обстоятельствах он с радостью принимает приглашение своего друга, знаменитого берлинского актера Эмануэля Рейхера, сопровождать немецкую труппу, отправлявшуюся на гастроли в Петербург. Поездка в Россию продолжалась с конца марта до конца апреля 1891 г. Ее результатом явилась книга «Русское путешествие», - капризная, импрессионистическая, слабо организованная, но не лишенная концептуального центра. Из Петербурга Бар возвращается не в Берлин, а в Вену, чтобы взять на себя роль организатора «Молодой Австрии».
В эссе под названием «Молодая Австрия» (1893) Бар, оценивая себя как писателя, видит свою главную заслугу в том, что «между Волгой и Луарой никто не испытывает ощущений, которые были бы мне непонятными, и что душа всех европейских наций не имеет от меня тайн».3 Бар упоминает Волгу, хотя его русские впечатления были ограничены исключительно Петербургом, и на месте Волги более оправданным было бы упоминание Невы. Это важно не с точки зрения географии: по собственному признанию Бара, в русском путешествии его интересовала не география, а только внутреннее пространство души, своей, искушенной всем ядом европейского индивидуализма души художника-декадента в соотнесенности ее с непостижимой душой России (154). Между тем, именно в этом внутреннем пространстве души дистанция между Невой и Волгой, Петербургом и Россией чрезвычайно значительна.