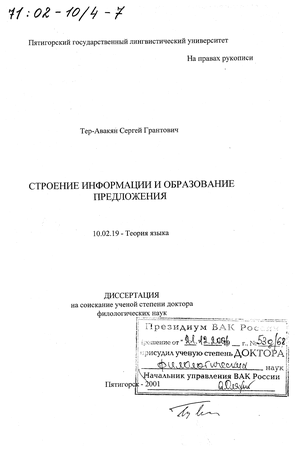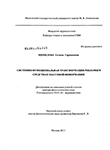Содержание к диссертации
Введение
CLASS ЧАСТЬ I. Общие положения 1 CLASS 8
Глава 1. КСО-система 18
Глава 2. Базовые метаязыковые понятия 27
ЧАСТЬ II. Строение языковой информации 44
Глава 3. Позиции слов в предложении 44
Глава 4. Существительное и физические объекты 47
Глава 5. Грамматический род и число 56
Глава 6. Прилагательное и операционные значения 60
Глава 7. Особые значения: вопросительные слова и артикли .71
Глава 8. Информационная структура глагола 74
Глава 9. Двучастный глагол 85
Глава 10. Семантизированные позиции 89
Глава 11. Глаголы с особой информационной структурой 100
Глава 12. Бытийные глаголы 104
Глава 13. Фактуальные позиции 107
Глава 14. Глаголы ментального действия 113
Глава 15. Глагол и причастие 122
ЧАСТЬ III. Генерационная система категориальных значений .125
Глава 16. Хронотопические значения 125
Глава 17. Временная координация и временные значения 132
Глава 18. Значения вида 135
Глава 19. Пассивное значение глагола 138
Глава 20. Причастия и их значения 142
Глава 21. Причастия в конструкции с бытийными глаголами 148
Глава 22. Инфинитивы 154
Глава 23. Косвенные наклонения 162
Заключение 180
Библиография 187
Введение к работе
Как ни широк в настоящее время диапазон лингвистических интересов [Chomsky, 1973; Fillmore, 1968; de Saussure, 1965; Tesniere, 1969; Рассел, 1957; Есперсен, 1958; Кацнельсон, 1972; а также Апресян, 1962; Арутюнова, 1969; Арутюнова, Логические теории, 1976; Балли, 1955; Бархударов, 1976; Бенвенист, 1974, 129-140; Бирвиш, 1988; Вандриес, 1937; Гак, 1979; 1981; Гийом, 1992; Городецкий, 1989; Гудман, 1989; ван Дейк, 1989; Джонсон-Лэрд, 1988; Звегинцев, 1976; Карбоннел, 1989; Колшанский; 1975; 1980; Кухарж, 1969; Леви-Брюль, 1930; Ли, 1982; Матезиус, 1967; Минский, 1988; Москальская, 1981; Мухин, 1980; Общее языкознание, 1973; Падучева, 1985; Панфилов, 1971; Принципы, 1972; Селиверстова, 1976; Селфридж, 1989; Серебренников, 1972; Солнцев, 1978; Степанов, 1975; Филлмор, 1988; Шмелев, 1977; Языковые универсалии, 1969; Ярцева, 1976; Dubois, 1973; G.Lakoff, 1987; Le langage, 1968; Martinet, 1966; Milner, 1978; Quine, 1960; Searle, 1969; Togeby, 1965], в них прослеживается общее стремление выявлять как можно более полную информацию, вовлеченную в речевой процесс. Это касается как прагматического аспекта коммуникативного акта, требующего выявления не выраженной, имплицитной информации, которая сопровождает речевое послание [Имплицитность, 1999; Berrendonner, 1981; Ducrot, 1972], так и семантического содержания высказывания [Агаян, 1959; Апресян, 1962; Бондарко; Варина, 1967; Гак, 1972; 1976; Горнунг, 1959; Гулыга, 1975; Иванова, 1956; Кацнельсон, 1965; Кодухов, 1976; Комлев; Левковская, 1962; Медникова, 1974; Мельчук, 1961; Минина, 1968; Селиверстова, 1967; Слюсарева, 1973; Смирницкий; Сова, 1975; Степанов, 1964; Г.А.Тер-Авакян, 1993; Уфимцева; Шмелев, 1973; Языковая номинация, 1977;
Языковые значения, 1976; Breal, 1964; Kramsky, 1969; Kripke, 1972; Lyons, 1977; The Semantics, 1980; Ulmann, 1962], которое оказывается намного богаче и дифференцированней, чем это представлялось до сих пор. Однако действительно ли при этом изучается языковая информация?
Если исходить из того, что вся упомянутая информация активизируется непосредственно в процессе речевой деятельности, тогда ее всю следует признавать языковой. Если в качестве объекта изучения выделить только ту часть информации, которая составляет непосредственное значение единиц высказывания и которая зафиксирована в словаре, то в качестве языковой (как это чаще всего и делается) следует рассматривать лишь явным образом выраженную информацию, составляющую семантическое содержание языковых единиц. Однако можно подойти к отбору языковой информации еще строже.
Любой носитель языка, как известно, располагает неким запасом накопленной информации. Иначе говоря, каждый носитель языка обладает семантической памятью. Если это так, то возникают следующие вопросы: 1) В какой мере языковые механизмы воздействуют на накопленную семантическую информацию с тем, чтобы она была пригодна для формирования сообщения? 2) И что привносится языком в формируемое сообщение помимо того, что уже есть в семантической памяти? С этой точки зрения собственно языком следует считать только тот информационный механизм, который каким-то образом структурирует накопленную информацию и организует ее в высказывание. Тогда семантическое содержание высказывания следует рассматривать уже не в качестве языковой информации, а в качестве такой, которая языком лишь используется. Что же делает семантическую информацию языковым значением и как отдельные семантические значения, будучи организованы в предложение, интегрируются в единое информационное целое?
Таким образом, цель настоящей работы в каком-то смысле противоположна той, которую ставит перед собой семантическое исследование. Задача состоит не в том, чтобы проследить в полной мере всю ту информацию, которая содержится в высказывании, а в том, чтобы определить собственно языковое участие в подготовке и формировании послания.
В настоящей работе предлагается концепция, в которой заключается ее научная новизна и которая отстаивает следующие утверждения.
В ней утверждается, что не вся информация, составляющая язык, исходит из внеязыкового опыта, т.е. не вся она является семантической, но что часть ее производится (генерируется) самим языком и, в отличие от семантической информации, не отсылает к внеязыковому опыту, т.е. ничего не обозначает и является, соответственно, несемантической.
В ней утверждается далее, что несемантическая информация генерируется по особым правилам и что существует операционная система, в которой генерируются простейшие виды этой информации.
В ней утверждается затем, что несемантическая информация ответственна за существование строевого уровня языка, а именно, что факты этого уровня (от структуры предложения до категориальных значений отдельных частей речи) - это не просто следствие исторического развития языка. Существование каждого такого факта обеспечивается действующим генерационным построением, в значительной мере определяемым несемантической информацией. Совокупность таких построений, исходящих из одной и той же операционной системы, но различающихся от языка к языку, связывает факты строевого уровня каждого конкретного языка в единую систему, свойственную данному языку.
Если семантическая теория рассматривает "отношения между реалиями естественного мира", а когнитивная теория - то, "как человек осмысливает мир" [Лакофф, 1988, 46], то настоящая концепция нацелена на изучение вопроса о том, каково участие механизмов языка в процессе осмысления человеком мира. Если когнитивная семантическая теория изучает то, "как язык используется для передачи мыслей" [Шенк, 1989, 36], то в данной концепции рассматривается то, как язык использует семантическую информацию для передачи мыслей. Настоящее исследование может рассматриваться в качестве дополнения к когнитивной теории [Бирвиш; ван Дейк, 1989; Демьянков, 1995; Кубрякова, 1994; Лакофф, 1988; Минский, 1988; Филлмор, 1988; Шенк, 1989; Fauconnier, 1984; Jackendoff, 1983; Kleiber, 1990; Lakoff, 1987; Langacker, 1991], настаивая, однако, на особой роли языка в ментальных процессах и ставя перед собой собственно лингвистическую задачу обнаружения глубинных языковых механизмов, обеспечивающих порождение высказывания (вербализацию) и понимание языка. Язык не сводится целиком к семантике (или, шире, к концептуальному уровню). Поэтому необходимо (и оказывается возможным) определить место семантики в общем языковом механизме, не выходя за пределы его внутреннего устройства. В данной работе показана та подсистема языка, или языковая форманта, которая обеспечивает семантико-синтаксическую организацию предложения. При этом в рамках данного подхода реализуется возможность свести синтаксис и семантику в единое целое, что отвечает современным представлениям, так как, в частности, "с точки зрения исусственного интеллекта, при построении процессуальной модели языка эти два уровня должны быть объединены" [Шенк, 1989, 32].
В соответствии с высказанными утверждениями предстоит решить следующие принципиальные задачи.
Во-первых, выстроить непротиворечивую операционную систему, способную генерировать простейшие виды несемантической информации. С одной стороны, эта система должна быть самопорождающей, т.е. должны существовать заданные заранее правила, которые, будучи задействованы, предопределяют ее последовательное развитие от начала до конца - только при этом условии она может претендовать на реальное существование, обеспечивающее человеку осуществление языковой деятельности. С другой стороны, она должна обладать достаточным потенциалом для того, чтобы, исходя из ее операций и элементов можно было объяснить ее воздействие на семантическую информацию и, соответственно, образование строевого уровня языка.
Во-вторых, при описании языковых явлений соблюдать элементарность метаязыковых понятий, берущих начало в самопорождающей операционной системе, по отношению к описываемым объектам. Теоретическое описание языка - это всегда попытка с помощью одной информации описать другую (данную в языковых формах). Поэтому следует найти такие информационные единицы описания, при введении которых была бы гарантирована их элементарность по отношению к описываемой информации. Иначе говоря, следует выдержать простое правило: языковые явления нельзя описывать с помощью понятий более сложных, чем объект описания. Элементарность простых понятий предполагает, в частности, возможность выводить из них категориальные значения (как правило, грамматически выраженные), определяющие организацию семантических значений в предложении. Поскольку из одних и тех же элементарных понятий выводятся самые разные, выделяемые в данном языке категориальные значения, возникает дополнительная задача -показать системный характер существующих категориальных значений,
обусловленный их генерационной общностью, и проследить, как он себя проявляет в языке.
Приведем также примеры более конкретных задач, решаемых в предлагаемом исследовании.
Как известно, имени существительному свойственны грамматические категории рода и числа. Было бы легко объяснить, почему у существительных есть категория рода [Басманова, 1977, 72-124; Кацнельсон, 1972, с. 23; Реферовская, 1973, с. 71-73; Damourette, 1968, 354-423; Dubois, 1965, p. 52-90; Мок, 1968; Sauvageot, 1962, p. 82-88; Vendryes, 1950, 108-114], если бы она выражала семантические различия пола. Но ведь у большинства существительных она является семантически ничем не обусловленной. Понятно, что грамматический род становится классифицирующей категорией, будучи распространен на весь класс существительных, но в чем же его значение!
Семантически прозрачным кажется значение категории грамматического числа [Басманова, 1977, 124-189; Болотов, 1978; Исаченко, 1961, с. 38-43; 1963, с. 52; Кацнельсон, 1972, с. 27-35; Реформатский, 1960; Щетинкин, 1972; Мок, 1968; Sauvageot, 1961, р. 24-28; Vendryes, 1950, 114-116]: единственное число обозначает один предмет, а множественное - более одного предмета. Очевидно в то же время, что формальное выражение числа, как и вообще материальный знак, само по себе ничего не обозначает. Обозначает лишь та информация, которая связывается с данной формой, приписывается ей, и делает ее, тем самым, обозначающим знаком. Какова же та информация, которая определяет обозначение числа? Как соотносится эта информация с информационной структурой слова, заставляя, например, существительное fer (железо) перейти в рамках семантической категории исчисляемости-неисчисляемости из разряда неисчисляемых в разряд исчисляемых: du fer
(железо) - des fers (изделия из железа, железки)? Вообще говоря, как объяснить то или иное категориальное значение, в частности, значение единственного и множественного числа, не на семантическом уровне, т.е. не на уровне свойств, обнаруживаемых в реальном мире, а на уровне той языковой информации, которая осуществляет это значение?
Почему имена собственные есть только в категории существительных, но отсутствуют у других частей речи?
- При референции существительного слушающий (или только
говорящий) может (или должен) в соответствующем употреблении
соотнести его с индивидуальными физическими объектами. Какова должна
быть структура информации, заключенной в слове, или какие-то иные ее
характеристики, чтобы слово было референтно при употреблении в речи?
Иначе говоря, как объяснить то или иное явление, в частности,
референцию, если, исключив из рассмотрения материальную сторону знака,
сосредоточить внимание лишь на его информационном содержании?
Обобщим приведенные вопросы, сформулировав следующее утверждение: если мы хотим описывать языковую информацию, отделяя ее в качестве объекта описания от того, что она обозначает, и того материального знака, с которым она ассоциируется, то, соответственно, при описании мы должны уметь обходиться как без обозначаемого, так и без ее материального носителя, или, по меньшей мере, описание должно оставлять место для собственно языковой информации, не сводя ее целиком к тому и другому.
- Что позволяет прилагательным и наречиям образовывать степени
сравнения? Если не семантическое значение (которое, по-видимому, нельзя
определить более конкретно, чем "качественный признак"), то что в
информационной структуре объединяет степенеобразующие
прилагательные (наречия)?
Каков механизм, который на глубинном операционном уровне обеспечивает объединение и слияние отдельных семантических значений, составляющих предложение, в единое информационное целое?
Есть ли что-то в глаголе, помимо его семантического значения "действия", из-за чего именно он становится центром синтаксической структуры предложения?
Почему одному из существительных - в функции "подлежащего" -отводится особая роль в образовании предложения?
Какие информационные характеристики слов позволяют объяснить возможное участие каждого из них в структуре предложения? Иначе говоря, можно ли рассмотреть с единых позиций, свести к единому основанию разноуровневые факторы, определяющие структуру предложения, - от лексического состава до его структурно-синтаксической организации? То есть можно ли выйти на ту тонкую информационную грань, которая в предложении разделяет, но и позволяет связать воедино семантику (лексические значения) и синтаксические характеристики слов?
Что лежит в основе глагольных временных значений, что делает их различными в разных языках?
Что определяет в данном языке тот или иной способ выражения пассивного значения и почему он оказывается связан с определенными видовыми значениями?
Почему в данном языке есть именно такие причастия с такими-то значениями и нет других? И, в частности, как и почему типы и значения причастий зависят от видо-временных значений глагола?
Какие причастия образуют сложные глагольные формы, насколько различны их значения и почему сами эти формы могут различаться в разных языках?
Что отличает инфинитив в одном языке от инфинитива в другом, т.е. что определяет различную сочетаемость инфинитива и возможную грамматикализацию его конструкций с отдельными глаголами в том или ином языке?
Чем определяется данный набор косвенных наклонений в том или ином языке и почему наклонения в одном языке отличаются (и по диапазону их значений, и по возможностям их применения) от соответствующих наклонений в другом?
Изложенный подход предполагает, что мы не будем исходить из фактов, отыскивая им объяснение, а придем к объясняемым фактам, как реализованным возможностям развиваемой генерационной системы, когда само построение теории приводит к объекту описания. В данной работе сделана попытка выйти на уровень объяснительной теории, когда показывается, что стоит за данным явлением, за данной обнаруженной закономерностью. Языковые факты не просто констатируются, а выводятся из неких информационных процессов, которые действуют в языке и которые скрыты от нашего сознания. В целом лингвистика остается на уровне констатации языковых явлений, на описательном уровне, когда не остается места для вопроса "почему?": почему так, а не иначе? Объяснительная теория, напротив, строится таким образом, чтобы из небольшого числа ненаблюдаемых абстрактных понятий вывести наблюдаемые факты и тем самым дать возможность рассматривать эти факты в их целостной связи - одним словом, сделать их "понятными" [Гейзенберг, 1979; 1990; Гипотеза, 1980; Карнап, 1959; Клайн, 1984; Кондаков, 1975; Рассел, 1957; Формальная логика, 1977; Черч, 1960; Frege, 1948].
Формирование семантических значений осуществляется в направлении от данного (конкретного) к абстрактному (в том числе, и к
метаязыковым понятиям), а значит, от сложного к простому. В генерационном построении языка движение обратное и идет от первичной информации к более развитой, т.е. от самого простого к более сложному. Такое построение позволяет определить абстрактные понятия (такие, как категории, свойства и отношения) независимо от их реальных носителей (т.е. реальных явлений или объектов) и, следовательно, свободно "манипулировать" ими на информационном уровне, воссоздавая отдельные аспекты описываемого мира по определенным выработанным правилам. Это и есть то, что делает язык. Узнать, как это происходит - значит, понять, что такое язык и как он функционирует. Одновременно, генерационный подход выводит нас на ту часть семантики, которая подчиняется не внутрисемантическим закономерностям, а собственно языковому, внешнему по отношению к ней воздействию. Именно эта часть семантики оказывается существенно значимой для синтаксической организации предложения и - тем или иным образом - получает в ней свое выражение.
Предлагаемая концепция намечает реальную альтернативу общепризнанной естественно-научной идеологии, основанной на убеждении, что для того, чтобы ответить на вопрос "почему?", следует дать количественное описание того, "как это происходит". Последовательное применение этой идеологии к языку показывает себя не эффективным и не дает сколько-нибудь существенных результатов. Намечаемая концептуальная альтернатива заключается в том, что для ответа на вопрос "почему?" следует показать, "откуда это берется".
Предлагаемая работа содержит три части. В первой части описывается построение самопорождающей операционной системы и рассматриваются основные положения, необходимые для дальнейшего исследования. Во второй - отправляясь от основных положений, определяется информационное строение языковых единиц разных типов,
которое рассматривается как основа образования предложения. В третьей -в русле генерационного подхода, и опираясь на информационное строение языковых единиц, определяется взаимозависимость категориальных грамматических значений и способы образования предложений в отдельных языках (русском, латинском, французском и английском).
Необходимость объективного разрешения вопроса "как исследовать?" становится для лингвистики все более настоятельной и не менее актуальной, чем "непосредственное" изучение языкового материала, поскольку результаты, которых можно при этом достигнуть, прямо зависят от выбранного подхода. В не меньшей степени выбор того или иного подхода отвечает и на вопрос "что исследовать?", поскольку в значительной мере определяет ту сторону языковой действительности, которая становится объектом исследования. Достаточно взять работы Н.Хомского (Чомски) и Ч.Филлмора, чтобы убедиться в справедливости данного утверждения. Если в трансформационной порождающей грамматике Н.Хомского центральным компонентом является синтаксис, а предметом исследования становятся глубинные структуры и их соответствие поверхностным структурам, то в падежной грамматике описание осуществляется на семантическом уровне и нацелено на выделение семантических ролей в предложении.
Всякая лингвистическая теория разрабатывает свой метаязык и, на его основе, процедуру описания естественных языков. Однако фактически существующее разнообразие лингвистических направлений, успешно описывающих какую-то из сторон языковой деятельности, заставляет предположить, что предлагаемые в рамках каждого из этих направлений метаязыковые понятия в определенной мере факультативны, т.е. не единственны, и, следовательно, недостаточно элементарны. Следовательно, в лингвистическом описании, нацеленном на то, чтобы связать воедино
разрозненные языковые факты и различные стороны языковой деятельности, актуальным становится вопрос обеспечения элементарности разрабатываемых метаязыковых понятий. В основе настоящей работы лежит идея выявить простейшие элементы, лежащие в основе информации, составляющей уровень грамматического строя языка (не навязываемой внеязыковой действительностью), т.е. найти конечные элементарные составляющие этой информации и связанные с ними операции, способные воздействовать на семантическую информацию. Цель данного исследования заключается в том, чтобы, отправляясь от этих элементарных составляющих, последовательно, шаг за шагом вывести (а значит, объяснить) структуру предложения и тот набор грамматических категориальных значений, которые существуют в данном языке.
В соответствии с этой целью и сформулированными выше задачами, для достижения поставленной цели разработан метод выявления генерационной составляющей в информационной структуре языковых единиц на основе операций и операционных элементов КСО-системы.
Предлагаемый подход не отвергает уже существующие и общепризнанные теории - в нем лишь прослеживаются достаточно тонкие, не замеченные до сих пор процессы, касающиеся устройства языковой информационной системы и ее оперативного использования в речи, и выводятся уже описанные явления строевого уровня. В рамках данного подхода средства и методы, имеющиеся в распоряжении лингвистики, оказываются недостаточными, поскольку требуется более детальный анализ тех процессов, которые происходят в языке.
Хотя в работе привлекались данные о разных языках (более десяти), непосредственным объектом исследования стали русский, латинский, французский и английский языки.
Научная новизна состоит также в разработке объяснительной (дедуктивной) теории, которая позволяет вывести большинство языковых явлений - а значит, объяснить их, - исходя из предложенных простейших элементов, а также в выявлении системы категориальных значений, которая складывается на основе их генерационной общности в каждом данном языке. Изложение объяснительной теории осуществляется в соответствии с дедуктивным принципом ее построения. Вначале дается описание КСО-системы. Затем, отправляясь от КСО-системы, вводятся базовые метаязыковые понятия. После этого, на основе введенных метаязыковых понятий проводится собственно языковое исследование, которое заключается в поиске выводимых из них генерационных составляющих, определяющих структуру предложения и систему категориальных значений данных языков.
Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость, поскольку позволяют в рамках единого генерационного подхода охватить все основные языковые явления и получить целостное представление о языковой системе, а также понять, как происходит порождение явлений, составляющих строевой уровень языка. Благодаря такому подходу категориальные значения получают более четкое и обоснованное определение, поскольку каждая категория определяется не сама по себе, а во взаимосвязанной системе с другими категориями.
Положения, выносимые на защиту:
Метаязык, как инструмент исследования языка, должен иметь последовательно усложняющуюся структуру, согласующуюся со структурой языка и основанную на элементах, которые определяются операционно и независимо от семантики языковых значений.
В языке существуют глубинные, не регистрируемые языковым сознанием процессы, определяющие информационную структуру
системных единиц языка, от которой зависят их функциональные свойства и образующаяся поверхностная структура предложения.
В языке существует два глубинных механизма соединения двух отдельных значений в одно информационное целое: один из них основан на операционном изменении внутренней структуры основного элемента (представлен главным образом в синтагме существительного и прилагательного), второй - на введении внешней по отношению к основному элементу позиции (представлен прежде всего в сочетании глагола и существительного).
Позиция "подлежащего" двухвалентного глагола представляет собой не одну, а две совмещенные позиции (в языках номинативного строя), только одна из которых - общеоперационная - имеется у одновалентного глагола.
5. Категориальные значения образуют систему, которая
индивидуальна для каждого языка и в которой одни категории
последовательно (но не жестко) зависят от других.
КСО-система
Предположим, что существует система, которая порождает отличия. Определим, что отличие порождается в процессе операции, протекающей от исходного элемента к результирующему. Операция, таким образом, вводит отличие результирующего элемента от исходного. Определим также, что одновременно с введением отличия элементов вводится, кроме того, отличие в способе, которым результирующий элемент отличается от исходного. Поскольку отличие элементов порождается в операции, это требование будет означать, что выполняются одновременно две различающиеся операции, каждая из которых порождает результирующий элемент, отличающийся от исходного, но отличающийся иначе, чем в другой операции. Определим наконец, что операции будут продолжаться за счет того, что результирующие элементы первых двух операций объединяются в исходный элемент для последующих операций и т.д. до тех пор, пока они будут порождать отличия. При этом, каждые последующие операции должны в соответствии с определенными выше требованиями порождать, с одной стороны, отличие результирующего элемента от исходного, и, с другой стороны, различаться между собой, оставаясь, таким образом, всегда парными. Кроме того, исходный элемент должен быть общий (один единственный) для каждой последующей пары операций, поскольку отличие их результирующих элементов друг от друга и от исходного элемента появляется, в соответствии с требованиями, лишь в процессе данных операций.
Данная система отличий не нуждается в семантической информации, основанной на внеязыковом опыте, и сама порождает информацию, которая, не будучи семантической, определяет отличие элементов, входящих в операции. Следовательно, такая система способна функционировать независимо от семантической памяти. Наша гипотеза состоит в том, что эта система лежит в основе надсемантической организации информации, накапливаемой человеком в результате внеязыкового опыта (семантической информации), т.е. ответственна за образование строевого уровня языка, который отражает собственно языковой способ организации и подачи информации и который в принципе не зависит непосредственно от реально существующих семантических связей [С.Г.Тер-Авакян, 1991].
Отличия, порождаемые в первой паре операций, соответствуют элементарным семантическим отличиям, но вводятся в системе независимо одно от другого. Поясним эту характеристику системы следующим рассуждением. Можно констатировать два элементарных (основополагающих) семантических отличия - количественное и институционное. Если мы можем определить меньшее в большем, то, значит, мы имеем дело с количественным отличием. Если мы можем отделить одно от другого, то, значит, мы имеем дело с институционным отличием, а именно, с отличием, институирующим их отделенность. Однако с семантической точки зрения, т.е. в том случае, если мы опираемся на обозначаемые этими понятиями реалии, мы не можем ограничиться только одним видом информации - количественной или институционной - но должны использовать и ту, и другую одновременно. Так, для того, чтобы определить количественное отличие, нужно, чтобы мы могли сначала отделить в обозначаемом меньшее от большего, т.е. нужно, чтобы мы использовали институционную информацию. Точно так же, мы не можем институировать одно отдельно от другого, не прибегая при этом к количественному отличию: мы не сможем отделить одну обозначаемую вещь от точно такой же другой вещи, если не прибегнем к количественной информации, которая позволяет нам констатировать, что мы имеем дело с двумя вещами, а не с одной. Однако мы постулировали отказ от семантической опоры на обозначаемое. Поэтому, в первой паре операций эти отличия вводятся как существующие независимо друг от друга. Эти отличия являются, таким образом, чисто операционными, т.е. полученными в результате выполнения операций, и несемантическими, т.е. ничего не обозначающими. Дальнейшее развитие системы определяется сформулированными выше формальными требованиями и приводит к порождению несемантической операционной информации, которая уже не имеет непосредственных семантических аналогов, но может влиять на операционные свойства семантической информации, от которых и зависит ее языковая организация.
Построение КСО-системы осуществляется с помощью двух операций, которые мы обозначим как D} и D2 (использованные индексы условны и служат лишь для того, чтобы отличить одну операцию от другой). Операция Di приводит к количественному приращению в результирующем элементе при сохранении всей остальной информации исходного. Операция D2 институирует такой результирующий элемент, существование которого отдельно от исходного, наделяя, таким образом, результирующий элемент отделительной институционной информацией. В операции D2 имеющаяся в исходном элементе информация используется для его замены результирующим элементом при том, что количественных изменений не происходит.
Позиции слов в предложении
В этой главе будет показано, как образуется позиция слова в предложении и что понимается под этим понятием. Кроме того, для позиций, занимаемых элементами доминирующей функциональной пары, т.е. - в терминах членов предложения - "подлежащим" и "сказуемым", будут введены названия, оправданные в рамках развиваемой концепции.
Учитывая, что структура предложения определяется вхождением каждого иэта в ту или иную функциональную пару по операционной или композиционной форманте (см. гл. 2), так что его семантическая информация не играет при этом определяющей роли, допустимо говорить о позиции, которую иэт занимает в его структуре [Кароляк, 1962; Кржижкова, 1962, с. 19; Ломтев, 1960; Матвеева, 1975; Мухин, 1964, с. 33; Попова, 1962; Степанова, 1978, 141-148]. Все функциональные пары выстраиваются в общую структуру благодаря тому, что, по крайней мере, один из элементов каждой функциональной пары входит также в состав и другой функциональной пары (если только все предложение не состоит лишь из элементов доминирующей пары). Ввиду того, что в любой функциональной паре устанавливается институционная единственность ее элементов, функциональная пара в целом также занимает в предложении определенную позицию. Таким образом, о том, что предложение сформировалось, можно говорить в том случае, если доминирующая функциональная пара реализована по лексико-информационной форманте (см. гл. 2) и - благодаря двойному вхождению одного и того же иэта в разные функциональные пары - установились отношения сопутствующих функциональных пар к доминирующей. Позиция, которую каждый иэт занимает в общей структуре предложения, определяется либо в рамках доминирующей пары, либо по его отношению (в составе сопутствующей функциональной пары) к элементам доминирующей пары. При оперативном использовании иэта, соединенного с элементами операционной или композиционной форманты (прежде всего, в предложении) будем называть его также словом.
Элемент функциональной пары с большим количеством информации будем называть ее основным элементом, а элемент с меньшим количеством информации - дополнительным. Позиция целой функциональной пары совпадает с позицией ее основного элемента, так как при проведении операции, устанавливающей институционную единственность элементов функциональной пары, дополнительный элемент определяется лишь как составная часть основного. Совпадение позиций функциональной пары в целом и ее основного элемента можно использовать для определения роли элемента в функциональной паре. Если устранение элемента не влияет на установившуюся структурную связность предложения, то этот элемент является дополнительным. Если структурная связность нарушается, то элемент является основным. Например, нормально существительное в функциональнод паре с прилагательным оказывается по этому признаку ее основным элементом, а прилагательное - дополнительным. Вся функциональная пара может быть представлена ее дополнительным элементом, если позиция отсутствующего основного элемента обусловлена общей структурой предложения. Например, прилагательное, как дополнительный элемент, может употребляться без существительного, заменяя полное словосочетание (функциональную пару с существительным), когда оно занимает позицию его основного элемента и вызывает, таким образом, необходимость обращения к отсутствующему существительному. Один и тот же элемент может в рамках одной единственной функциональной пары входить в отношения не с одним, а сразу с несколькими элементами. В свою очередь, все элементы, образующие с ним функциональную пару, занимают по отношению к нему одну и ту же позицию. Этот элемент может быть как основным, так и дополнительным. Например, сразу несколько существительных могут образовать доминирующую пару с единственным глаголом в качестве ее основного элемента, или же одно единственное существительное в качестве дополнительного элемента может образовать доминирующую пару сразу с несколькими глаголами.
Позиция слова в функциональной паре определяется как в композиционной, так и в операционной форманте, и, следовательно, структурная основа функциональной связи между словами может иметь различную природу. В первом случае, когда определяющей является композиционная форманта (в частности, в сочетании существительного и прилагательного), их связь можно было бы назвать компоновочной. Во втором, когда определяющей является операционная форманта (при образовании глаголом и существительным доминирующей пары), она является операционной [Бобырева, 1964, 17; Ильиш, 1948, 52 и ел.; Мухин, 1975, с. 34 и ел.; Скепская, 1979; Фоменко, 1975]. Введем некоторые метаязыковые понятия, связанные с реализацией операционной связи в предложения.
Существительное и физические объекты
В этой главе будет показано, как выводятся такие общеизвестные характеристики существительного, как его способность к референтному и нереферентному употреблению, наличие в рамках именно данной части речи имен собственных, семантическое деление существительных на "исчисляемые" и "неисчисляемые", а также некоторые другие факты, в частности, формирование личных местоимений как одной из групп в классе существительных.
Операционное устройство языковой системы, напомним, таково, что в основе любого описываемого физического факта лежит выделяемая в нем с опорой на операционную форманту событийная и предметная информация. Решающей характеристикой предметной информации, определяющей ее выбор при соединении с операционным элементом sop, не содержащим временного измерения, является ее фактическая независимость в процессе восприятия от времени. В свою очередь, характеристикой событийной информации, определяющей ее выбор при соединении с элементом операционного универсума иор, содержащим временное измерение, является, напротив, необходимость учета временного фактора в процессе ее восприятия. При этом, отношение иэтов соответствует отношению операционных элементов: если sop входит составной частью в иор, то и предметная информация входит составной частью в событийную.
Информация, организованная в лексические значения, значительно беднее той, которая характеризует физические события и предметы. Так что такая информация служит для идентификации не одного, а целого ряда подобных физических предметов или событий. В то же время, описание физической реальности должно осуществляться, прежде всего, на уровне индивидуальных физических фактов. Поскольку для успешной идентификации индивидуального физического факта необходима более полная информация о нем (по сравнению с той, которая содержится в отдельных иэтах), должен быть предусмотрен механизм, открывающий возможность привлечения дополнительной информации, т.е. механизм расширения информации иэтов из доминирующей пары. Такой механизм, с одной стороны, будет действовать в рамках информационной структуры каждого из них, а с другой стороны, будет обеспечивать возможность подключения к ним иэтов из сопутствующих функциональных пар. Поскольку семантическая информация иэтов заложена уже в семантической памяти и, значит, остается той же самой при их оперативном использовании, и в том, и в другом случае расширение информации может осуществляться лишь операционным путем.
Существует два способа операционного расширения информации иэта. Первый заключается в том, что sop предоставляет возможность операционным путем присваивать иэту с предметной информацией произвольное количественное значение (см. гл. 1), т.е. позволяет подвергнуть такой иэт операции D/, приводящей к операционному увеличению его информации. Поскольку sop входит составной частью в иор, этой же способностью обладает и иор, но уже применительно к иэту с событийной информацией. Второй способ касается только глагола и непосредственно вытекает из операционного соотношения иор и sop: любой иэт в общеоперационной позиции, соединяемый с sop, будет увеличивать информацию иэта в интегральной позиции, соединяемого с иор.
Рассмотрим реализацию первого способа применительно к существительному. При образовании функциональной пары существительного и прилагательного, с одной стороны, иэт прилагательного (соединенный с простым сэтом), как дополнительный элемент функциональной пары, должен оказаться частью иэта существительного, а с другой стороны, он содержит ту дополнительную информацию, которая отсутствует в иэте существительного и является поэтому частью значения не существительного, а функциональной пары в целом. Для того, чтобы, несмотря на это противоречие, образование функциональной пары по лексико-информационной форманте стало возможным, формируется такая структура существительного, количество информации в которой определяется операционно, т.е. часть его информации является операционной. Формируемую структуру можно описать в виде операционного отношения q0e4 qceM, где q0 - общее количество информации существительного, a qceM - количество его семантической информации.
Хронотопические значения
В рамках временной координации разграничиваются собственно временные и хронотопические значения. В этой главе будет показано, как хронотопические значения соотносятся с информационной структурой глагола. Будет показана также их роль при совмещении в одном (грузинском) языке эргативной конструкции предложения с номинативной (вместо винительного падежа в ней используется дательный) и дативной конструкциями. Кроме того, будут продемонстрированы операционные значения глагола, связанные с определением его хронотопического значения.
Если соотношение операционного момента с актуальным моментом выражает временное значение (см. гл. 2), то его соотнесение с временным интервалом определяет хронотопическое значение. При статической координации актуальный момент соотносится с количественным значением интервала. При статической координации с максимальным моментом операционный момент совпадает с актуальным (временное значение) и совмещается с максимальным значением интервала (хронотопическое значение), представляя такое физическое событие, количественная идентификация которого возможна в актуальный момент, когда консервативная информация переходит в оперативное состояние. При статической координации с репрезентативным моментом операционный момент предшествует актуальному (временное значение) и связан с интервалом посредством произвольного совмещения с его репрезентативным значением (хронотопическое значение), представляя физическое событие, количественно уже идентифицированное и не связанное с актуальным моментом.
При динамической координации операционный момент последовательно перебирает значения интервала. Следовательно, при любом выбранном значении операционный момент принимает также последующие значения интервала. Поэтому, если операционный момент остается в пределах интервала, то он не может принимать максимального значения. Если же операционный момент принимает максимальное значение, то он выходит за пределы интервала - будем называть его в этом случае основным - и, определяя дополнительный участок, охватывает уже расширенный интервал. В случае настоящего времени при динамической координации операционный момент совпадает с актуальным (временное значение) и реализуется на основном интервале (хронотопическое значение). В остальных случаях операционный момент локализуется на одном из участков расширенного интервала (хронотопическое значение) и может как совпадать, так и не совпадать с актуальным (временное значение). Если операционный момент не совпадает с актуальным, то локализация операционного момента (т.е. определение выбора, прежде всего, между основным и расширенным интервалом) может быть неразрешенной. В частности, в случае германского претерита операционный момент предшествует актуальному, а его локализация остается неразрешенной.
Рассмотрим, как соотносятся хронотопические значения с информационной структурой глаголов.
Образующийся в операционной форманте (при динамической координации) расширенный интервал находит соответствие в лексико-информационной форманте в виде собственно события, соотносимого с основным интервалом, и послесобытийного фазового состояния (фазового результата), соотносимого с дополнительным интервалом, которые в целом образуют результативное событие. В случае бинарного глагола (см. гл. 11) его временные составляющие распределяются на расширенном интервале в соответствии с его делением на основной и дополнительный участки: начальный фазовый кэт соотносится с основным интервалом, а конечный -с дополнительным. Значит, при введении расширенного интервала (с разрешенной локализацией операционного момента) значение бинарного глагола заключается в том, что он обозначает такой процесс, который приводит к фазовому результату, реализуемому на дополнительном участке. Имея в виду обеспеченность дополнительного интервала семантической информацией (его соотнесение с конечным фазовым кэтом), фазовый результат у бинарных глаголов можно назвать положительно определенным. Если глагол не бинарный, то его событийное значение соотносится только с основным интервалом, и в этом смысле фазовый
результат у него является отрицательно определенным. Различие между положительно и отрицательно определенным фазовым результатом проявляется в использовании при глаголе разных семантизированных значений, вводящих обстоятельство времени. Так, в русском языке предлог за, обозначающий локализацию за пределами чего-то, возможен при наличии положительно определенного фазового результата (когда конечный фазовый кэт определяет локализацию операционного момента за пределами основного интервала), а беспредложное употребление (или такой предлог, как в течение) имеет место в случае отрицательно определенного фазового результата (когда событийным значением определен основной интервал). Ср.: Он встал за одну минуту, но Он постоял одну минуту.
Хронотопическое деление расширенного интервала соотносится также с информационной структурой двучастного глагола (см. гл. 8). В рамках расширенного интервала с функциональной точки зрения основной интервал является необходимым, а расширенный - достаточным для представления событийного значения. Поэтому дополнительный событийный иэт двучастного глагола, как необходимый, соотносится с основным интервалом, а основной, как достаточный - с расширенным интервалом. Значит, основной интервал определяется обоими событийными иэтами, а дополнительный - только основным. Разная обеспеченность участков расширенного интервала информацией порождает бинарную структуру двучастного глагола с разными временными составляющими на основном и дополнительном участках и с положительно определенным фазовым результатом.