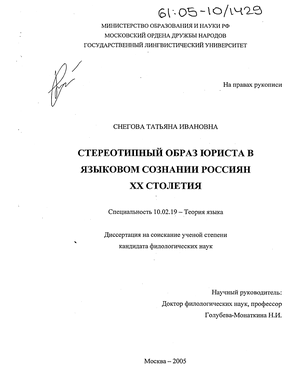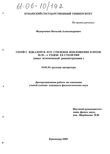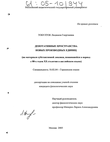Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Вопросы исследования образов языкового сознания в научной литературе 8
1. Об образе и стереотипе в сознании человека 8
2. О соотношении обыденного сознания и языкового сознания 18
3. Особенности стереотипизации образа в обыденном сознании 25
4. Контент-анализ как метод выявления стереотипного образа 31
5. Образ юриста в научно-популярных, газетных, художественных и фольклорных текстах 36
Выводы 54
Глава II. Лексико-семантическое поле «Юрист» в современном русском языковом сознании 55
1. Структурирование лексико-семантического поля «Юрист» 55
2. Содержание и структура микрополя «Судья» 60
3. Содержание и структура микрополя «Прокурор» 83
4. Содержание и структура микрополя «Адвокат» 103
5. Стереотипные образы судьи, прокурора, адвоката в газетных текстах начала XXI в 124
Выводы 133
Глава III. Сопоставительный анализ стереотипного образа современного юриста с образом юриста начала XX в 136
1. Содержание и структура микрополей «Судья», «Прокурор», «Адвокат» начала XX в 136
2. Стереотипные образы судьи, прокурора, адвоката в газетных,
художественных и фольклорных текстах начала XX в. 159
3. Сопоставительный анализ стереотипов микрополей «Судья»,
«Прокурор», «Адвокат» начала XX и XXI вв 164
Общие выводы 173
Библиография 176
- Об образе и стереотипе в сознании человека
- О соотношении обыденного сознания и языкового сознания
- Структурирование лексико-семантического поля «Юрист»
- Содержание и структура микрополей «Судья», «Прокурор», «Адвокат» начала XX в
Введение к работе
Диссертация посвящена особенностям отражения в языковом сознании россиян XX столетия стереотипного образа юриста, формируемого газетными текстами.
На протяжении XX в. судебная система нашей страны неоднократно реформировалась, что привело к существенным изменениям как в профессиональном облике судьи, прокурора, адвоката, так и в восприятии деятельности судебных работников гражданами России, иным стал и подход к отображению юриста в текстах. Эти изменения отражаются в языковом сознании современных россиян, разноаспектные исследования которого активно ведутся представителями Московской психолингвистической школы. Сравнение между собой стереотипных образов судьи, адвоката, прокурора начала XX и начала XXI вв. дает возможность описать происшедшие за последний век изменения. Выявление и описание конкретных черт образа современного юриста может способствовать совершенствованию деятельности социально-профессиональной группы судебных работников и, в определенной мере, содействовать построению правового общества в России. Это обуславливает актуальность исследования проведенного в диссертации.
Объектом исследования является тот фрагмент языкового сознания, в котором отражен образ юриста, а предметом — ряд стереотипов, в которых представлен этот образ.
Цель работы - изучение изменения стереотипного образа юриста в языковом сознании россиян на протяжении XX в.
В диссертации ставятся следующие задачи:
1) провести анализ научной литературы, в которой рассмотрены проблемы
языкового сознания, обыденного сознания, стереотипизации образа, контент-
анализа;
2) с помощью контент-анализа исследовать тексты ежедневных газет
начала XX и начала XXI вв., литературных и фольклорных произведений, в
которых затронута юридическая тематика;
3) выявить и проанализировать стереотипы микрополей «Судья»,
«Прокурор», «Адвокат», входящих в лексико-семантическое поле «Юрист»;
4) сопоставить стереотипные образы судьи, прокурора, адвоката начала
XX в. со стереотипными образами судебных работников начала XXI в. и
определить черты сходства и различия этих образов.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что в нем впервые изучен тот фрагмент современного русского языкового сознания, в котором запечатлен образ юриста, проанализированы образы русских судьи, прокурора, адвоката начала XX в., а также выявлены черты сходства и различия стереотипного образа юриста в языковом сознании россиян начала
XX в. и наших современников.
Теоретическая значимость диссертации состоит в следующем: выделены ключевые концептуальные понятия (содержательные категории) лексико-семантического поля «Юрист»; выявлены и описаны стереотипные образы судьи, прокурора, адвоката в языковом сознании россиян начала XX и начала
XXI вв.; показаны возможности применения контент-анализа для изучения по
письменным текстам изменений, происходящих в языковом сознании человека
при смене разных эпох.
Практическая значимость диссертации: полученные конкретные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях русского языкового сознания, при сопоставлении языкового сознания, живших в разные эпохи россиян, для подготовки лекций и спецкурсов по психолингвистике, общему и сравнительному языкознанию, истории права.
Материал исследования: 1) раздел «Судебная хроника» в ежедневной газете без предварительной цензуры «Русский листок» (1902, 1904, 1905, 1906 гг.), редакция которой держалась умеренно-прогрессивных взглядов; общий объем выборки «Русского листка» в 237 номерах - 257 лексических единиц, что составило 391 словоупотребление (8,5 % номеров газеты от общего количества за 1902 г., 7 % за 1904 г., 17,5 % за 1905 г., 85,5 % за 1906 г.); 2) раздел «Происшествия» в ежедневной газете «Газета» за 2003 г., с общим
5 объемом выборки в 233 номерах 1394 лексических единиц, что составило 2202 словоупотребления (100 % от общего количества номеров за 2003 г.); 3) научная и учебная литература о юридической деятельности - ее анализ позволил проследить традицию подхода к этой профессии, ее общественному предназначению, и выявить особые черты юриста, культивируемые обществом; 4) художественные произведения, пословицы и поговорки по юридической тематике, заложившие основу стереотипного образа юриста и нашедшие отражение в языковом сознании россиян.
Основные положения, выносимые на защиту:
Реконструкция такого сложного образования как стереотипный образ юриста может быть осуществлена по следующим содержательным категориям: «Человек - профессия», «Человек - общество», «Человек - власть», «Характеристика личности», «Человек - семья».
Сопоставление стереотипных образов юриста начала XX и начала XXI вв. выявило черты сходства и различия этих образов. Сходство заключается в том, что современный юрист, как и юрист начала прошлого столетия, стремится профессионально выполнять свои обязанности, по-прежнему ему свойственны независимость, справедливость, ' внимательность, красноречивость. На всем протяжении XX столетия юрист ощущает контроль и давление со стороны властных структур.
Сопоставление показало, что у стереотипных образов юриста начала XX и начала XXI вв. черт различия больше, чем черт сходства. Современные судья, прокурор и даже члены их семей в отличие от судебных работников прошлого, могут подвергаться угрозам и нападениям недовольных приговором граждан. В отличие от юриста начала XX в., сегодняшний юрист - человек эмоциональный, у него возникают конфликты с коллегами, он имеет определенные проблемы со здоровьем. Если в начале XX в. образ юриста - это образ профессионала в зале суда, образ официального лица, то в наше время судебный работник предстает и как частное лицо, как семьянин.
4. В прессе начала XX и начала XXI вв. юридическая тематика представлена по-разному. В наше время публикуется статей больше, чем в начале прошлого века. В современных газетах, в отличие от газет прошлого, описываются эмоции, испытываемые судьей, прокурором и адвокатом, факты их личной биографии, их взаимоотношения с семьей, коллегами, гражданами, представителями властных структур и окружающая судебных работников обстановка. Претерпело изменения лексическое наполнение газетных статей: наряду с литературной лексикой в современных статьях нередко используются разговорные и жаргонные слова.
Общую теоретико-методологическую основу диссертации составили труды отечественных и зарубежных лингвистов, психологов, психолингвистов, социологов (Апресян 1995; Арутюнова 1999; Виноградов 1980, 1986; Гальперин 1981; Гаспаров 1996; Зинченко 1991; Климов 1995; Красных 1999, 2001, 2002, 2003; А.А. Леонтьев 1993; А.Н. Леонтьев 1975; Петренко 1986; Солганик 2002; Тарасов 1997, 2000; Уфимцева 1996, 2003, 2004; Шмелев 1964; Lippman 1922). Использовались следующие общенаучные методы исследования: описание, индукция и дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение, элементы классификации. Основным методом был контент-анализ, позволяющий изучать массовые совокупности текстов, в том числе, в историческом срезе.
Работа прошла апробацию на заседаниях кафедры теории словесности МГЛУ и на следующих научных конференциях: IV Международная научная конференция «Филология и культура» (Тамбов, 2003 г.); III Международная конференция по тендеру «Язык, Культура, Коммуникация» (Москва, 2003 г.); Российская научная конференция «Романские языки и культуры: история и современность» (Москва, 2003 г.); Ежегодные международные Чтения памяти кн. Н.С. Трубецкого (Москва, 2003 г.); Научно-практическая конференция «Психологические проблемы бытия человека в современном обществе. Психологическое обеспечение различных сфер деятельности» (Магнитогорск,
7 2003 г.); XLI Внутривузовская научная конференция преподавателей МаГУ «Современные проблемы науки и образования» (Магнитогорск, 2003 г.).
Структура работы: диссертация состоит из Введения, трех глав (глава первая «Вопросы исследования образов языкового сознания в научной литературе» включает пять параграфов, глава вторая «Лексико-семантическое поле «Юрист» в современном русском языковом сознании» - пять параграфов и глава третья «Сопоставительный анализ стереотипного образа современного юриста с образом юриста начала XX в.» - три параграфа), общих выводов и библиографии.
Об образе и стереотипе в сознании человека
Известно, что человек фиксирует окружающий мир в своем сознании в виде различных образов, которые, хотя не всегда верно отражают данную действительность, в значительной степени определяют его поведение. Работы, посвященные исследованию образа, многочисленны и многоаспектны (см., например (Шмелев 1964; Шмидтчен 1965; Арнхейм 1972; Андроникова 1974; Бодалев 1983; Архипов 1984; Витгенштейн 1985; Ломов и др. 1986; Султанов 1987; Петренко 1988; Гостев 1992; Сукаленко 1992; Василюк 1993; Поздеева 1993; Климов 1995; Гаспаров 1996; Курильски-Ожвэн и др. 1996; Моторин 1996; Тарасов, Уфимцева 1997; Арутюнова 1999; Зиборова 1999; Тертычный 2000; Киселев 2003)).
Прежде всего, важно отметить, что образ - это категория сознания, а не признак объекта. Образы погружаются в сознании в принципиально иную сеть отношений сравнительно с той, которая определяет место их оригиналов (прообразов) в реальном мире, сознание развертывает для них новый контекст, в котором особую роль приобретают реорганизующие картину мира ассоциативные отношения (Арутюнова 1999:317).
Рассмотрение особенностей возникновения и формирования образа (там же:315; Гаспаров 1996:246) показывает, что образ объекта обычно возникает в результате его восприятия, но в процессе восприятия он не участвует. Являясь категорией сознания, образ становится видимым только тогда, когда объект удален из поля зрения. То, что образы образуются с помощью таких механизмов стихийного непроизвольного исследования мира и жизни, как восприятие, память, интуиция, воображение, накопленные впечатления определяют их автономность, неподвластность человеку, спонтанность появления и исчезновения из актуального состояния сознания.
В научной литературе указывается, что образ формируется под давлением субъективных склонностей, интересов и идеалов индивида и окрашивается в интимно-личностные тона, неотделимые от личного жизненного опыта этого субъекта. Образ возникает в представлении человека с различной степенью отчетливости - от очень яркого, позволяющего дать подробное словесное описание или изображение на бумаге, до расплывчато-неопределенного, видимого как бы через замутненное стекло; от устойчивой картины, которую можно «рассмотреть» в воображении в различных ракурсах и деталях, до мимолетного, едва намеченного и тут же исчезающего образного следа (Арутюнова 1999:318).
Обратимся теперь к наиболее существенным особенностям, характеризующим образ. Это, прежде всего, синкретичность — ведь одно из главных назначений образа состоит в обобщении накопленного опыта, связанного с индивидным объектом или классом объектов, именно образ объединяет данные, поступающие по разным каналам связи человека с миром. Другой особенностью образа является типичность, поскольку образ впитывает в себя представление о типичных сферах употребления и среде языковых выражений, в связи с которыми мыслится каждое слово, образ может быть привязан к конкретным историческим условиям, пространственным границам, национальным особенностям (см. более подробно (Арнхейм 1972; Арутюнова 1999; Гаспаров 1996)). Кроме того, образ обладает содержательностью, он объединяет разные чувственно воспринимаемые аспекты объекта: форму, содержательные характеристики, однако, являясь лишь приблизительным соответствием оригиналу, не требует подробной информации об объекте и строится на основе какой-либо доминанты, характеризующей позицию личности, которая выносит суждение. Образ также всегда эмоционален, складывается в сознании стихийно и «живет» там относительно независимо от воли человека (Арутюнова 1999:318).
В нашем исследовании; возможно, принять следующее определение образа: образ - это формируемые в человеческом сознании представления о действительном объекте, характеризующиеся лишь приблизительным соответствием оригиналу в силу субъективного восприятия действительности через разные каналы связи человека с миром. Средой обитания образов выступает человеческое сознание, в нем они субъективно окрашены и погружены в ассоциативные отношения, а формирование образа в сознании под давлением субъективных склонностей, интересов и идеалов индивида" говорит о том, что образ не может совпадать с оригиналом. Формирование образа происходит через усвоение своего и чужого опыта, под влиянием средств массовой информации, образов художественной литературы, неопределенность содержательной стороны образа не позволяет ему быть объектом понимания - образы интерпретируются и осмысляются.
Для нашего исследования особенно важным является как то, что образ формируется на основе конкретного языкового выражения, так и то, что в психолингвистике данный процесс рассматривается как «овнешнение» образов сознания, необходимое для их существования в обществе и «передачи» от одного поколения к другому (Тарасов, Уфимцева 1997:75).
В рамках данной работы важно рассмотреть также стереотип (от греч. stereos - твердый и typos - отпечаток), который как обозначение устойчивого знания о предмете, влияющий на восприятие предмета и зафиксированный в образе в виде «картинки в голове», ввел Уолтер Липпман в своей книге «Общественное мнение» (Lippman 1922), заимствовав его из полиграфии - так назывались типографские формы, с которых печатался тираж газеты или любой другой полиграфический продукт. Сравнение с типографским процессом довольно наглядно отражает технологию распространения стереотипов в обществе: создается некоторый шаблон, который затем тиражируется в обществе с помощью средств массовой информации (Цуладзе 2003:43).
В большинстве работ, так или иначе касающихся феномена стереотипа, последний рассматривается в контексте социального взаимодействия, как некая модель действия, поведения, причем на первый план выдвигается человек как главный социальный объект и основное содержание социального стереотипа (Lippman 1922; Кондратенко 1968; Ядов 1970; Артемов 1971; Бессонов 1971; Шерковин 1972; Емельянов 1973; Дубинин, Гуслякова 1985; Шихирев 1985; Зобов 1991; Парилис, Либидин 1991; Граудина и др. 1995; Янова 1999; Хевеши 2001; Цуладзе 2003). Лингвистами и психологами стереотипы изучаются с точки зрения их отражения в языке (Войтасик 1981; Агеев 1988; Сукаленко 1992; Дьякова 1996; Кубрякова 1996; Ванина 1998). При этнолингвистическом подходе стереотипы рассматриваются как образы и представления о тех или иных этнических группах, об их внешнем облике, историческом прошлом, особенностях образа жизни, языке, трудовых навыках (Петренко 1986, 1988; Рыжков 1988; Сорокин 1995; Уфимцева 1998; Лапшинов 2001; Красных 2002; Хорев 2002). В целом же, термин «стереотип» используется для обозначения форм общения, организованных по упрощенным, то есть «типизированным», на уровне повседневной жизни схемам, а также для стандартных оценок, выносимых социальными субъектами представителям общественных, профессиональных, этнических групп.
В научной литературе профессиональные стереотипы рассматриваются, с одной стороны, как особенности восприятия, поведения представителей различных профессий с точки зрения влияния профессиональной деятельности на человека (Каверина 1978; Урунтаева 1981; Артемьева, Вяткин 1986; Ханина 1990; Климов 1992, 1995), а с другой - как образ работника определенной сферы. Этот образ всегда отражает уровень развития профессиональной культуры, характер системы профессиональных ценностей, а также то, как профессиональная группа выполняет предъявляемые к ней обществом требования (Петренко 1986, 1988; Берзин 1991; Глин, Лямер 1991; Гарбер, Козача 1992; Сукаленко 1992; Поздеева 1993; Мусаэлян, Сливницкий 1995; Дьякова 1996; Курильски-Ожвэн и др. 1996; Моторин 1996; Писанова 1997; Зиборова 1999; СМИ и судебная власть 1999; Янова 1999; Андрианов 2001).
О соотношении обыденного сознания и языкового сознания
Как известно, одним из дифференциальных признаков личности выступает наличие сознания, функционирующее на уровне повседневной практической деятельности человека в качестве обыденного сознания. Философы, психологи, социологи давно проявляют интерес к обыденному сознанию, однако до сих пор нет четкого определения этого феномена. Носителями обыденного сознания чаще всего являются массы, социальные общности, но по содержанию обыденное сознание не тождественно массовому сознанию. Хотя массовое сознание и существует на уровне обыденного сознания, ему не чужды и систематизированные научные знания, доля которых в нем постоянно возрастает (Овчинников 1972:131).
В отечественной литературе существует немало работ, в той или иной степени рассматривающих обыденное сознание (Овчинников 1972; Стариков 1974; Козлова 1984; Гуслякова, Дубинин 1985; Петренко 1988; Сукаленко 1992; Гусев 1994; Насонова 1996; Еникеев, Кочетков 1997; Макарова 1998; СЭС 1998; Улыбина 1999; Янова 1999; Яценко 1999; Баранов 2001), в которых оно трактуется как «исторически возникшая форма отражения действительности» и «основной регулятор человеческого поведения и общения», а также как «сознание людей в их повседневной жизни», «хранилище опыта, память о формах и способах материальной и духовной деятельности человека».
В имеющихся работах указывается, что обыденное сознание возникает «вследствие неосознанности новых социальных процессов» или «как результат сохранения в сознании старых устоев и норм», формируется «в процессе жизни людей». Оно существует и проявляется «в виде самых различных состояний и форм как общественного, так и индивидуального сознания», устанавливает «чаще всего случайные связи между вновь обнаруженными и уже известными явлениями», включает «разнообразные и в целом несистематизированные эмпирические знания о природных и социальных явлениях .», обеспечивает «непосредственную ориентацию деятельности социального индивида в процессе практического выбора решений» и способствует «"омассовлению" сферы языков и нормативных знаний, политических установок, правовых норм, моральных предписаний, философских понятий, образцов научно-технической мысли и т.п.» (Сукаленко 1992:6; Насонова 1996:22; Еникеев, Кочетков 1997:127; Макарова 1998:22; Баранов 2001:11).
Структурируется обыденное сознание с помощью фактов, убеждений, стереотипов, но все они непременно соотносятся с основным элементом — знанием. Обыденное сознание представляет собой, во-первых, форму осмысления накопленных, но не всегда рационально освоенных знаний, которые могут быть итогом непосредственного жизненного опыта каждого человека. Во-вторых, это - форма осмысления, связанная с обыденными жизненно-практическими знаниями, источником которых выступает коллективный, социальный практический опыт, накопленный многими поколениями и усваиваемый индивидом в процессе его социализации (именно этот обыденный социальный опыт, апробированный и откорректированный жизненной практикой, служит общей основой обыденных знаний в целом). В-третьих, это - форма, связанная с осмыслением теоретических знаний, которые по своему происхождению лежат за рамками обыденного сознания и непосредственной жизненной повседневной практики (это - разнообразные знания из области науки, всех сфер духовной культуры, усваиваемые через общее и профессиональное образование, чтение общедоступной литературы, средства массовой информации, повседневное общение) (Гусев, Пукшанский 1994:10).
В научной литературе отмечается, что со знанием как основным элементом обыденного сознания соотносятся, прежде всего, те факты обыденного сознания, которые характеризуются фрагментарностью, эпизодичностью, низкой степенью упорядоченности, субъективностью (такой набор характеристик фактов обыденного сознания объясняется тем, что в обыденном сознании идет не столько фиксация, сколько выражается отношение к тем или иным явлениям, опосредованное в значительной степени всем жизненным опытом, накопленным интерпретатором), а также убеждения, которым свойственны неглубокое, поверхностное отражение действительности, необоснованность, недостаточная стойкость (они вносятся в обыденное сознание в процессе воспитания людей через различные каналы идеологического воздействия) и стереотипы, которые консервативны и складываются либо стихийно, либо идеологическими средствами (там же:11).
Обыденное сознание выполняет определенные социальные функции, среди которых наиболее важны такие, как переработка всего теоретического и опытного материала, способ передачи тем или иным способом накопленного эмпирического опыта, обычаев, традиций, связь между людьми, поколениями. Кроме того, обыденное сознание служит людям ориентировкой в жизненных ситуациях и действиях и духовной основой многих практических действий (Баранов 2001:10, Насонова 1996:23).
Переплетение различных элементов, форм, функций предполагает наличие противоречивых черт в обыденном сознании. Поверхностность, а, следовательно, и отсутствие доказательности делает обыденное сознание легко уязвимым в тех случаях, когда против него выстраивается стройная система рационально аргументированных идей, подкрепленных соответствующим эмоциональным воздействием. Это не позволяет обыденному сознанию улавливать основные противоречия, присущие познаваемому явлению. Такая черта обыденного сознания как противоречивость особенно наблюдаема в пословицах и поговорках, характеризующихся наличием разнонаправленных идей по поводу различных явлений природы и общественной жизни, а также существованием различающихся по своей глубине и направленности знаний по отношению к одному и тому же явлению (Дубинин, Гуслякова 1985:24).
Структурирование лексико-семантического поля «Юрист»
В настоящем исследовании под лексико-семантическим полем понимается лексическая микросистема, члены которой объединены общим понятием, образуют иерархическую структуру, соотнесенную с эксплицируемым фрагментом мира (Клименко 1997:264). В основе теории лексико-семантических полей лежит представление о существовании в языке некоторых семантических групп и о возможности вхождения языковых единиц в одну или несколько таких групп. Нами выделено лексико-семантическое поле «Юрист». Внутри этого поля определены микрополя - семантические объединения, члены которых связаны интегральным признаком, выражаемым доминантой микрополя - «Судья», «Прокурор», «Адвокат». В центре каждого микрополя отмечена своеобразная «яркая» часть, ядро, представленная как доминанта микрополя, а на его периферии - маргинальные единицы. Количество упоминаний лексических единиц в микрополях измерялось рядом чисел в абсолютном выражении. При интерпретации экспериментального материала использовалась, предложенная Ю.Н. Карауловым (Караулов 1996:151); концепция «семантического гештальта», согласно которой лексические данные рассматриваются как совокупность структур: лексическая, синтаксическая, морфологическая структуры, представляющие основные системные уровни языка; когнитивная структура, отражающая разнообразные знания о рассматриваемом лексическом материале; прагматическая структура, выражающая оценки, даваемые содержанию лексических единиц; статистическая структура, показывающая степень адекватности численных характеристик микрополей.
Группы слов, состоящие из нескольких синонимов, включены в синонимические ряды, в которых на первое место ставились доминанты -определяющие по значению и стилистически нейтральные слова, в то время как другие члены синонимических рядов уточняли, расширяли их семантическую структуру, дополняя оценочными значениями. Несмотря на невысокую частотность отдельно взятых описываемых лексических единиц, именно синонимы (называющие одно и то же явление, но по разному, а также различающиеся своей стилистической окраской) позволили говорить о стереотипности тех или иных признаков, характерных черт, действий, приписываемых судье, прокурору, адвокату на страницах газет.
Построен подробный классификатор, с помощью которого зафиксированы различные детали, элементы, манеры поведения судей, прокуроров, адвокатов на процессе и вне его, выявлены отдельные личностные особенности и свойства, черты характера, интересы, семейное положение и другие характеристики, необходимые для реконструкции стереотипного образа юриста в языковом сознании россиян. Эти детали, особенности и свойства необходимы для реконструкции образа юриста, потому что юрист - это человек, а человек, как известно, может быть описан лексемами двух групп (Морковкина 1984: 355-544). Первая группа «раскрывает» облик человека «как живого существа», рассказывая о его организме, физических возможностях, состоянии- здоровья, внешнем облике, потребностях (пища, посуда, дом, жилище, одежда, обувь, украшения, галантерея и т.д.). Во вторую группу лексем, говорящую о человеке «как о разумном существе», входят слова, раскрывающие его ощущения и восприятия; эмоциональные, волевые и интеллектуальные действия и состояния, душевный склад, деятельность, поведение.
В научной литературе подчеркивается, что человек «динамичное, деятельное существо, которое выполняет три различных типа действий -физические, интеллектуальные и речевые. Человеку свойственны определенные состояния - восприятие, желания, знания, мнения, эмоции и т.п.; он определенным образом реагирует на внешние или внутренние воздействия. Каждым видом деятельности, каждым типом состояния, каждой реакцией человека ведает своя система». Выделяется восемь систем, представленные по степени сложности (физическое восприятие, физиологические состояния, физиологические реакции на разного рода внешние и внутренние воздействия, физические действия и деятельность, желания, мышление и интеллектуальная деятельность, эмоции, речь) (Апресян 1995:352).
В микрополях «Судья», «Прокурор», «Адвокат» лексико-семантического поля «Юрист» выделяется имеющий разный объем., ряд содержательных категорий. Это - «Характеристика личности» (описание психического и физического облика, атрибутов судебных работников), (под психическим состоянием в научной литературе принято понимать «психологическую категорию, объединяющую большую группу жизненных явлений» (Левитов 1964:5)). «Человек - семья» (представление фрагментов из личной биографии судебных работников и членов их семей), «Человек - общество» (характеристика отношений, складывающихся между гражданами и судебными работниками), «Человек - профессия» (описание особенностей профессиональной деятельности и внутрипрофессиональных отношений судьи, прокурора и адвоката), «Человек - власть» (рассмотрение взаимоотношений властных структур с судебными работниками), «Пространственно-временной континуум» (представление последовательности фактов, событий, развертывающихся во времени и пространстве). Под континуумом следует понимать грамматическую категорию текста, осуществляющую изображение течения времени в изменяемом пространстве и обеспечивающая конкретность, реалистичность описания (Гальперин 1981:86). Слияние пространственных и временных примет, по мнению М.М. Бахтина, порождает поддающееся изображению и диалогическому контакту конкретное и осмысленное событие, которое из факта становится «образом», то есть тем, что можно не просто констатировать, но «изобразить» с учетом всей объемной полифонической структуры события (Русская философия 1999:575). Построено лексико-семантическое поле «Юрист», которое выглядит следующим образом:
Содержание и структура микрополей «Судья», «Прокурор», «Адвокат» начала XX в
Микрополе «Судья» по данным газетных текстов начала XX века образовано 103 лексическими единицами (150 словоупотреблений) - 38,3 % и выстраивается вокруг следующих смысловых центров (содержательных категорий), состав и наполнение которых варьируется в зависимости от их представленности на страницах газет:
В произведениях русских классиков осуждаются пороки самодержавного правосудия. И.А. Крылов отмечает взяточничество и то, что многие чиновники с «пушком на рыльце» (басня «Лисица и сурок»). А.П. Чехов отмечает ограниченность мирового судьи в принятии решений, который дальше своих пределов ничего обозначить не может, а подсудны ему лишь малые дела («Унтер Пришибеев»). И.Н. Захарьин описывает трудности приходящие на долю судьи, называя судейскую должность мучительной, тяжелой и неблагодарной, но лишь в том случае если судья мыслящий, чувствующий, ощущающий весь ад своего ужасного положения, а не простой манекен или аппарат для отправления обязанностей правосудия, действующий по мертвой букве закона («Жизнь, служба и приключения мирового судьи»).
В русском языке существует немало пословиц и поговорок, в которых упоминается судья. На протяжении веков русские люди испытывали недоверие к суду и судьям (пять случаев употребления): Судья суди, да и за судьей гляди; Где суд, тут и неправда; Не всяк судит по праву, иной и по криву; Суд прямой, да судья кривой; Законы святы, да судьи супостаты (недруги); суда и судейского произвола страшились (шесть случаев употребления): Не бойся закона, бойся судьи; Бойся не суда, бойся судью; Тяжба — петля, суд — виселица; Судья - что плотник, что захочет, то и вырубит; Бог любит праведника, а судья ябедника; С судьей не спорь, с тюрьмой не вздорь; приписывали разные черты судье (три случая употребления): Судья в суде — что рыба в пруде; Судья докуку любит (просьбы); Суд крив, коли судья лжив; важным при участии в процессе считалось быть знакомым с судьей (два случая употребления): То-то и закон, как судья знаком; Что мне законы, были бы судьи знакомы.
Они обвиняли судью в корысти (девятнадцать случаев употребления): Ах, судья, судья: четыре полы, восемь карманов; Судьям то и полезно, что в карман полезло; Порожними руками с судьей не сговоришься; Мздою, что уздою, обратишь судью в твою волю; Узнавай купца по обману, а судью по карману; Карман сух, так и судья глух; Земля любит навоз, лошадь овес, а судья принос; Перед Богом ставь свечку, а перед судьей — мешок; Перед Богом с правдой, а перед судьей с деньгами; Поп ждет покойника богатого, а судья тягуна тороватого; С кого судья взял, тот и прав стал; Судейский карман — что поповское брюхо; Судейский карман, что утиный зоб: и корму не разбирает, и сытости не знает; Судье рыбка, просителю клеек (чешуя); Судейскому обету, рубль на примету; Дарами и праведного судью к неправде приведешь; Дари судью, так не посадит в тюрьму; Скорее дело вершишь, коли судью подаришь; Судью подаришь, все победишь; в целом не слишком ясно понимая характер их деятельности (два случая употребления): Законы — миротворцы, да законники - крючкотворцы; У наших судей много затей. Но и на судью можно найти управу (один случай употребления): Суд и судью судит.
Однако у русского человека оставалась надежда на доброго судью (четыре случая употребления): Где добрые судьи поведутся, там и ябедники переведутся; У которого судьи добрый нрав, у того невинный всегда будет прав; Праведный судия одесную спасителя стоит; Судия праведный — ограда камена, которому можно и посоветовать (два случая употребления): Без рассуждений не твори осуждения; Лучше десять виновных оправдать, чем одного невинного наказать и к которому можно обратиться в случае необходимости (три случая употребления): В своем деле самому судьей быть нельзя; Сам себе никто не судья; Самому судить — не рассудить.