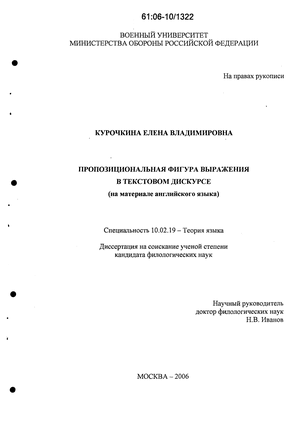Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Семиотика динамической формы языка 12
1. Разработка категории языковой формы в языкознании 12
2. Проблема выделения верхней и нижней границ языковой формы в лингвистике 19
3. Проблема формы в сентенциональном знаке. Статика и динамика пропозициональной формы 27
4. Сентенциональный семиозис в динамическом представлении. Онтологические координаты семиозиса 35
5. Фигурность пропозициональной формы. Семиотические характеристики 44
6. Узкое и широкое понимание фигурности. Фигура пропозиции на фоне других видов фигур: общее сравнение 51
Выводы по Первой главе 64
Глава 2. Критерии выделения пропозициональной фигуры выражения в текстовом дискурсе 67
1. Фигура пропозиции как часть выразительной стратегии текстового дискурса 67
2. Методика выделения фигуры на внутрипропозициональном и межпропозициональном уровнях 73
2.1 Выделение фигуры на внутрипропозициональном уровне 74
2.2 Предикативная логика фигуры 82
2.3 Выделение фигуры на межпропозициональном уровне 87
3. Фигура как семиотический фактор в структуре сентенционального знака 94
4. Синтактика сентенционального знака (1) 102
5. Синтактика сентенционального знака (2) 111
6. Прагматика сентенционального знака. Позитивные и негативные фигуры в динамике текстового дискурса 118
Выводы по Второй главе 128
Заключение 132
Библиографический список использованной литературы 137
Список источников примеров 148
- Разработка категории языковой формы в языкознании
- Проблема выделения верхней и нижней границ языковой формы в лингвистике
- Фигура пропозиции как часть выразительной стратегии текстового дискурса
- Методика выделения фигуры на внутрипропозициональном и межпропозициональном уровнях
Введение к работе
Теория высказывания - одна из наиболее активно разрабатываемых тем в современном языкознании.
Лингвистика уже давно «чувствует», что в феномене высказывания заложен некоторый принцип структурного совмещения языковой и речевой форм: имеется в виду факт устойчивого материального совпадения форм предложения и высказывания, на который обратили внимание уже первые исследователи, вводившие эту категорию в научный аппарат лингвистики -В. Скаличка [Скаличка 1935], В. Матезиус [Матезиус 1947 а], Ф. Данеш [Danes 1974]. Прежде всего, ими отмечалось, что один и тот же порядок слов служит выражением как синтаксической организации предложения, так и линейной организации высказывания. Проблема внутреннего отношения двух уровней членения в высказывании (формально-синтаксического и актуального) получила дальнейшее развитие в фундаментальных трудах принадлежащих к различным лингвистическим школам лингвистов [см.: Крушелътщкая 1956, 1961; Firbas 1964, 1974; Halliday 1974, 1985; Шевякова 1976, 1980, и др.]. В целом, первую историческую парадигму в лингвистической разработке проблемы высказывания можно определить как структурно-синтаксическую.
На смену структурно-синтаксическим теориям высказывания вскоре пришли коммуникативно-смысловые теории. Еще В.Матезиус отмечал коммуникативную обусловленность порядка слов в аспекте актуального членения предложения [Матезиус 1947 6]. В коммуникативно-смысловых теориях на первый план выходят смысловые категории предикативности, модальности [Распопов 1961; Панфилов 1963; 1971; Чесиоков 1975], предикативный аспект высказывания тесно связывается с номинативным [Кубрякова 1986], анализируется контекстуальная смысловая обусловленность высказывания [Солганик 1973; Фридман 1978; Реферовская 1983, 1989], его
4 экспрессивная функция [Попов 1961; Золотова 1973; Николаева 1982, 1985; Александрова 1984; Иванов 1991].
В последнее время категория высказывания все больше сближается с категорией дискурса [Сергеева 1997; Олейникова 2004; Сидоров 2005; Саушева 2005; Тупицына 2005], в высказывании видят своеобразный формальный инструмент реализации дискурсивной функции языкового знака (во всяком случае, последняя в современном анализе вряд ли может рассматриваться вне условий высказывания). При этом, иные теоретические требования предъявляются и к самому высказыванию, которое в современных подходах все больше трактуется как знак - сентенциональный знак. В категориальном аппарате, используемом при анализе предложения /высказывания, значимое место занимает понятие семиозиса [Худяков 2000]: речь идет не только о коммуникативных условиях семиозиса слова как речевого знака, но и об условиях семиозиса пропозиции (высказывания, предложения) как речевого знака. Налицо очевидные признаки рождения новой исторической парадигмы в изучении высказывания, которую обобщенно можно обозначить, как дискурсивно-семиотическую.
Вместе с тем, в предметном развитии новой парадигмы еще много нерешенных проблем. Не вполне устоялся категориальный аппарат, связь семиозиса знака с его дискурсивной функцией скорее ощущается, чем исследуется, не вполне разграничиваются статика и динамика знаковой языковой формы и т.д. Говоря в целом, дискурсивный и семиотический виды анализа во многом все еще говорят на разных языках: первый, по большей части, ориентирован на мотивационный аспект, является последовательно смысловым, второй - узко структурным, не дающим представления о дискурсивной динамике знака.
Важнейшей категорией, способной сблизить два уровня анализа в научном рассмотрении текстового дискурса и дискурсивной формы высказывания, является категория фигуры. Впрочем, и сама категория фигуры, в таком ее научном применении, требует существенного переосмысления. Фигура - не
5 узко смысловая, но семиотическая категория, которая служит для динамической характеристики знака, т.е. характеристики знака в аспекте его дискурсивной динамики (в масштабе текста или в масштабе языкового дискурса, т.е. на метаязыковом уровне).
Настоящая работа посвящена выявлению и анализу семиотических свойств фигуры (различных видов фигур) и фигуративных свойств высказывания как знака и, таким образом, реализует в себе попытку теоретического сближения дискурсивного и семиотического подходов к проблеме высказывания в целом. Сказанным обосновывается теоретический масштаб и актуальность настоящей работы.
Объектом научного рассмотрения в настоящей работе является высказывание как речевая пропозициональная структура, выражаемая формой предложения, и как элемент сверхфразового дискурса.
Предметом исследования является фигуративный аспект высказывания как некоторый принцип его семиотической характеристики (как пропозиционального знака), определяющий его дискурсивную функцию и контекстную синтактику в масштабе СФЕ.
Цель исследования состояла в последовательном выявлении и комплексном лингво-семиотическом описании фигуративной природы высказывания как пропозиционального знака в аспектах его контекстной и коммуникативной обусловленности.
Сформулированная цель работы потребовала постановки и решения целого ряда взаимосвязанных исследовательских задач, основными из которых явились следующие:
Теоретическая оценка основных подходов к анализу выразительной формы высказывания в современной лингвистике.
Анализ высказывания как сентенционального знака и определение функционального статуса пропозициональной формы высказывания в сентенциональном семиозисе.
3. Общая характеристика и анализ высказывания как дискурсивной фигуры
выражения в сопоставлении с другими видами фигур.
4. Определение основных критериев анализа фигуративной формы
высказывания на внутрипропозициональном и межпропозициональном
уровнях.
Комплексный анализ прагматики сентенционального знака.
Подбор, анализ и классификация текстовых примеров. Положения на защиту:
1. В современном подходе к высказыванию, характеризующемся
сближением структурно-синтаксических, смысловых и семиотических
принципов анализа, центральное место должно принадлежать категории
фигуры.
В этих условиях требуется существенное расширение теоретической интерпретации самой категории фигуры, которая должна рассматриваться как важнейшая семиотическая категория, характеризующая знак в аспекте формы в процессе его дискурсивной динамики. Фигура, фигуративность служит показателем дискурсивно-синтаксической выразительной артикуляции знака. Фигура связывает структурно-семиотическое (языковое) и дискурсивно-семиотическое (речевое). Статика знака раскрывается в аспекте его дискурсивной динамики, внутреннее становится внешним: знак обозначающий превращается в знак выражающий.
На уровне пропозициональных форм речи и языка категория фигуры позволяет реализовывать последовательно семиотический подход к проблеме актуального членения (АЧ) предложения, по-новому подходить к оценке и анализу семиотической природы высказывания в целом, к решению проблемы сентенционального семиозиса.
2. К важнейшим функционально-семиотическим характеристикам фигуры
относятся: 1) смысловая мотивированность; 2) дискурсивность (линейная
протяженность); 3) предикативность. Релевантность данных характеристик
подтверждается тем фактом, что они могут служить эффективным критерием
отграничения пропозициональной фигуры высказывания от других видов фигур. Все данные качества в пропозициональной фигуре выражения раскрываются как внутренние, ингерентные. В других видах фигур (различных стилистических приемах речи) данные качества раскрываются в порядке их внешней дискурсивной интерпретации.
В целом, в аспекте фигуры мы говорим о принципиально выразительной (т.е. не символической, - замещающей - как в обычном обозначающем знаке) связи формы и содержания: фигуративная форма непосредственно повторяет смысловое движение содержания.
3. Пропозициональная фигура выражения (высказывание) выделяется и
оценивается по а) смысловому; б) экспрессивному; в) логическому
параметрам на внутрипропозициональном и межпропозициональном уровнях.
А) На внутрипропозициональном уровне фигуративная форма высказывания совпадает с формой АЧ и выделяется относительно синтаксического аспекта (предложения). В динамике пропозициональной фигуры наблюдается параллелизм номинативного (смыслового) и экспрессивного усиления, что поддерживается общим сужением субъективно-логического объема при переходе от темы к реме (в отличие от логики АЧ, объективно-логический объем семантики в аспекте предложения устанавливается по подлежащему).
Б) На межпропозициональном уровне общее смысловое и экспрессивное усиление подчиняется принципу централизации текстовой структуры в масштабе СФЕ. Параллельно этому действует динамика предикативного снятия (отрицания) при переходе от фигуры к фигуре в порядке последовательного сужения субъективно-логического объема в масштабе СФЕ.
4. Семиосинтактика фигуры оценивается в порядке ее линейной
(дискурсивной) обусловленности другими стоящими рядом (или, в отношении
нелинейных типов фигур, виртуально представляемыми в системно-языковом
дискурсе) знаками-фигурами. При этом различаются моменты:
8 а) межзнакового тождества; б) межзнакового отрицания. В высказывании, как пропозициональной фигуре выражения, первое выявляется ретроспективно и оценивается по способу смысловой опоры высказывания на предыдущий контекст в аспекте темы, второе обнаруживается в аспекте смысловой (функциональной) перспективы высказывания и выражается ремой.
5. Синтактика сентенционального знака управляется его прагматикой, является прямым выражением последней. Согласно коммуникативно-прагматической направленности, различаются два типа фигур: а) позитивные (обычные высказывания в порядке линейного развертывания СФЕ, различного рода структурные повторы и параллелизмы), которые говорящий ассоциирует с собственной смысловой позицией и которые участвуют в прямом усилении текстового дискурса; б) негативные (риторический вопрос, уступка), которые говорящий ассоциирует со смысловой позицией адресата и которые, сами выпадая из линейной логики СФЕ, косвенным образом служат усилению текстового дискурса.
Научная новизна работы, как следует из приведенных выше положений, заключается в том, что в ней впервые в основу научного анализа высказывания положена категория фигуры, которая в таком применении получает расширительно-семиотическую интерпретацию и становится важным аспектом характеристики высказывания как знака; впервые в ходе научного рассмотрения раскрывается дополнительность фигуративно-семиотического подхода по отношению к традиционным лингвистическим подходам к высказыванию; впервые на основе широкого сопоставления высказывания, как пропозициональной фигуры выражения, с другими знаками-фигурами по ряду функционально-лингвистических параметров выявляются присущие им общие и отличительные черты.
Теоретическая значимость работы заключается в общем расширении лингвистического подхода к анализу высказывания, в подключении к традиционно используемым смысловым, коммуникативно-прагматическим и структурным элементам анализа категорий семиотики, к которым автор, в
9 первую очередь, относит категорию фигуры; фигуративно-семиотический подход к высказыванию позволяет в полной мере рассматривать его как сентенциональный знак в аспекте дискурсивной динамики (АЧ) в сравнении с другими знаками-фигурами, более обобщенно представить аспекты взаимосвязи знаковой синтактики и прагматики применительно к знакам различных типов и уровней в различных контекстах.
Исследование выполнено на материале публицистических текстов -главным образом публичных и официальных выступлений политических деятелей Великобритании и США, из которых методом сплошной выборки отбирались примеры для последующего анализа. Выбор текстов публицистической направленности, характеризующихся высокой степенью дискурсивной связности, был обусловлен особенностями разрабатываемого научного подхода, предусматривающего анализ пропозициональной формы высказывания в процессе дискурсивной динамики. В общей сложности было проанализировано более 1500 примеров уровня СФЕ и порядка 2200 примеров уровня высказывания. Помимо этого, привлекалось, также из материалов публицистических текстов, значительное число примеров на использование различных видов стилистических тропов (главным образом, метафора и метонимия - более 200 примеров) и фигур (градация и антиградация, различные виды структурного параллелизма - около 150 примеров; риторический вопрос - более 80 примеров; риторическая уступка - около 40 примеров).
Исследование проводилось с позиций комплексного дискурсивно-семиотического подхода, что требовало рассматривать всю разнообразную массу примеров с точки зрения присущих им фигуративно-семиотических качеств (т.е. как речевые фигуры). Исследование было направлено на общее сближение лингвистического и семиотического подходов к высказыванию. Исходя из этого, для решения поставленных задач использовалась комплексная методика исследования, включающая: структурно-синтаксический, структурно-логический и контекстный виды анализа. При
выявлении дискурсивно-фигуративных характеристик рассматриваемого объекта применялись: метод компонентного анализа, метод идентифицирующего слова, элементы стилистического анализа.
Практическая ценность работы заключается в возможности использования ее результатов в теоретических курсах по общему языкознанию, лингвосемиотике, а также в специальных курсах по теоретической грамматике и теории перевода английского языка, в практическом обучении английскому языку и переводу.
Апробация работы. Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях автора, включающих научную статью, тезисы доклада на научной конференции, ряд учебных пособий, среди которых пособие по практической грамматике английского языка. Результаты работы прошли апробацию в ходе обсуждений на заседаниях кафедры английского языка (второго) Военного университета, в процессе преподавания Практического курса английского языка на филологических факультетах ВУ.
Структура работы: диссертация состоит из введения, 2-х глав, заключения, библиографического списка и списка источников примеров.
В Первой главе («Семиотика динамической Формы языка») анализируются основные лингвистические подходы к категории языковой формы и обосновывается необходимость последовательно семиотического подхода к проблеме; определяется функциональный статус пропозициональной формы высказывания как сентенционального знака; описываются условия сентенционального семиозиса; устанавливаются функционально-семиотические характеристики пропозициональной формы высказывания.
Вторая глава («Критерии выделения пропозициональной фигуры выражения в текстовом дискурсе») посвящена рассмотрению фигуры пропозиции как части выразительной стратегии текстового дискурса; определению методики выделения фигуры пропозиции на внутрипропозициональном и межпропозициональном уровнях по смысловому, экспрессивному и логическому параметрам; анализу семиосинтактики
различных видов фигур; комплексному анализу прагматики сентенционального знака.
В Заключении подводятся итоги исследования и делается вывод о важности категории фигуры для дискурсивно-семиотической интерпретации высказывания как знака, равно как и для дискурсивной интерпретации любого знака, знаков других уровней. Фигура, в предельно широком ее понимании, -это знак, взятый в аспекте его контекстуальной динамики, отражающей ситуативную (прагматическую) обусловленность знака. В фигуре выразительно раскрывается синтактика знака. Синтактика при этом является прямым выражением прагматики знака.
Разработка категории языковой формы в языкознании
Языковая форма - чрезвычайно сложное, многоаспектное и многоуровневое явление, хотя исходным образом в основе ее научного выделения лежит базовое для языка, как знаково-выразительной коммуникативной системы, противопоставление мыслимого содержательного образа и внешнего образа звучания [см. Соссюр 1977: 99]. Об этом свидетельствует множество определений, даваемых понятию «формы» в Лингвистическом Энциклопедическом Словаре: «Форма в языкознании - 1) внешняя, наблюдаемая, связанная со слуховым (или зрительным) восприятием сторона языка. 2) определенный способ членения языковой действительности. 3) видоизменение, разновидность, одна из ипостасей некоторой сущности. В этом значении особенно часто употребляется по отношению к слову, прежде всего по отношению к его грамматическим формам» [Булыгина/ЛЭС 1990: 557]. В тех случаях, когда речь идет о языке вообще, форма противопоставляется содержанию, при этом оба члена оппозиции трактуются предельно широко. На уровне языкового знака форма противопоставляется значению, в связи с чем языковой знак традиционно трактуется как двусторонняя сущность.1
Понятие «форма» в современном языкознании используется при интерпретации самых разных языковых объектов. Так, в частности, встречаются термины: «фонетическая форма слова», «лексическая форма», «грамматическая форма», «синтаксическая форма», «форма высказывания». Кроме того, в обиход лингвистики уже давно вошли такие специфические категории, как «внутренняя форма языка» [Гумбольдт 1984] и «внутренняя форма слова» [Потебня 1993; Шпет 1999]. Научная интерпретация последних, впрочем, не отличается достаточной ясностью. Трудно понять, прежде всего, каким образом внутренняя форма в языке соотносится с внешней формой данных объектов.
Очевидно, что использование понятия «форма» в современной лингвистике не отличается терминологической точностью. Не случайно поэтому понятие внешней формы в большинстве случаев заменяется категориями «означающее» [Соссюр 1977], «план выражения» [Елъмслев I960], отличающимися большей гибкостью и меньшей обязательностью в плане установления отношения между внешним и внутренним в языке. Можно ли характеризовать данное отношение, как необходимое? Обращает на себя внимание то обстоятельство, что те исследователи, которые в большей мере озабочены состоянием внутренней формы в языке или в слове, по большей части, игнорируют форму внешнюю, никак не определяют ее статус в общей дихотомии содержательного и выразительного в языке. В свою очередь, структуралисты (Л. Блумфилд, Ч. Харрис) приоритет отдают внешней форме, мало внимания уделяя ее содержательному наполнению. При этом внешняя форма получает у них предельно широкую интерпретацию, статус структурного закона языка, реализация которого обязательна в плане выражения. Выделяются на различных уровнях фонетические «законы», морфологические «законы» в области словоизменения и словообразования, «законы» синтаксической формы. Как ни странно, именно здесь формальная сторона языка в большей мере получает функциональную интерпретацию, особенно в области синтаксиса.
Так или иначе, выделение и трактовка категории формы в языке связаны с выделением материального начала в языке, его элементной базы - сколь бы разнообразно ни интерпретировалась эта сторона языка (фонематическая база, морфологическая база, лексическая база, синтаксические принципы языка). В конечном счете, речь идет о тех устойчивых, подлежащих обязательной реализации в речи элементов, структур, через которые раскрывается закономерное в языке - своеобразная «физиология» выразительного движения языка.
Различные исследователи, придерживающиеся двусторонней трактовки языкового знака, уже давно приходят к выводу об асимметрии этого ключевого для языковой системы объекта (под этим прежде всего понимается слово) [Степанов 1975: 8-Ю; Кодухов 1979: 187; Сидоров 1991: 49-50; Гак 1998: 15-20]. Вопрос об асимметрии чаще всего решается в пользу содержательной стороны знака: при относительной неизменности внешней формы знак обнаруживает практически безграничное смысловое, функциональное разнообразие в различных контекстах употребления. Такое решение более характерно для семасиологического подхода. Впрочем, с другой стороны, не меньшая асимметрия отмечается сторонниками ономасиологического подхода к знаку, указывающими на возможность выражения одного и того же мыслимого содержания различными формальными способами в языке. Для второго подхода характерна предельно широкая трактовка случаев языковой синонимии.
Как в том, так и в другом случае, на наш взгляд, чаще всего обнаруживает себя недифференцированная трактовка категории формы, ее статуса относительно стоящего за нею содержания. Уточним, под дифференцированным подходом к языковой форме мы понимаем не необходимость разграничения различных структурных образов, которые характеризуются относительно строгой языковой устойчивостью: материальной стороны словесных знаков, различного рода синтаксических структур. Понятно, что данное разграничение не может не состояться в силу уровневой специфики того или иного конкретного исследования, ориентированного на выделяемый языковой объект. Недостаточная дифференциация формального аспекта языка - о каком бы языковом объекте ни шла речь - обнаруживает себя прежде всего там, где требуется понимание функционального статуса языковой формы относительно стоящего за нею содержания.
Более полно категория языковой формы раскрывается в том случае, когда в ней принципиальным образом выделяются два ее функциональных аспекта, в каждом из которых языковая форма каким-то образом отсылает нас к мыслимому содержанию. Прежде всего, языковая форма служит средством обозначения. Здесь открывается семантика языковой формы. Данную функцию формы наиболее общим образом можно определить как символическую: форма символически представляет стоящее за нею содержание. Вторая функция языковой формы - выразительная. В этом аспекте форма характеризует смысловое движение содержания, содержание деятельностно воплощено в движении формы, мыслимое и выражающее деятельностно совмещены.
О символической функции формы принято прежде всего говорить применительно к словесным знакам языка. Если брать всю совокупность словесных форм, рассматривать слово абстрактно, как языковой феномен, как некий принцип реализации функции обозначения, то допустимо выделять некоторым целостным образом номинативную форму языка. Номинативная форма - это своеобразный семиотический базис языка, в котором материализуется характерное видение мира, которым обусловлена референциальная реализация языка.
О выразительной функции формы чаще всего говорят при рассмотрении пропозициональных структур - предложения, высказывания. На этом уровне допустимо выделять некоторую пропозициональную форму языка, имея в виду характерный для языка способ коммуникативно-деятельностного представления мысли.
Проблема выделения верхней и нижней границ языковой формы в лингвистике
Одним из проблемных вопросов в современной лингвистике (хотя и потерявшим в последнее время свою остроту) является вопрос об определении низшей и высшей границ языковой формы. В решении этого вопроса лингвистика обращается к самым разным теоретическим основаниям. При этом нередко можно встретить попытки узкого, однозначного ответа на этот ключевой для науки о языке вопрос. Так, при определении низшей границы языковой формы многие исследователи обращаются к физическим свойствам, а также к физиологическим параметрам звучания в языке. Здесь нельзя не заметить попытку «докопаться» до «первоэлемента», «атома» языкового звучания. Данный подход показывает высокую эффективность при построении различного рода классификаций элементов звукового состава языка. Акустические и артикуляционные характеристики звуков используются в практике обучения произношению, при решении технических проблем машинного распознавания речи. Тем не менее, анализ физических и физиологических характеристик звуковой формы языка вряд ли способен исчерпывающим образом прояснить природу языковой формы в аспекте определения ее низшей границы. Его можно рассматривать как важную, но все же предварительную часть общей научной интерпретации языковой формы. В поиске низшей границы языковой формы большое значение имеет ее функциональная интерпретация, фактор обусловленности формы содержательной стороной языка [см. Трубецкой 2000: 19].
Еще больше проблем возникает при определении верхней границы языковой формы. В последнее время обозначилась тенденция предельно широкой трактовки феномена языковой формы, которая выражается в стирании границ между текстом и языком. Специфика языковой формы растворяется в форме текста - так, что трудно отграничить собственно текстовые факторы от языковых. Конечно, речь не может идти о том, чтобы оторвать язык от текста. Языковая форма, в аспекте своей верхней границы, обнаруживает свою когерентность структуре текстового дискурса. Динамика языковой формы и динамика текстового дискурса органично переплетены, их можно представить, как две стороны единой уровневой формы. Природа языка проникает в текст, природа текста проникает в язык, сообщая друг другу необходимую форму движения. Значение, тем не менее, имеет то, какая из сторон полагается в качестве приоритетной в выборе подхода к анализу общей динамики дискурсивной формы, механизмов и способов ее реализации. В этом контексте определение верхней границы языковой формы представляется в высшей степени актуальным. Решение этой проблемы может приблизить нас к более точному пониманию роли собственно языковых факторов в тексте.
В определении верхней границы языковой формы лингвистика чаще всего обращалась к логическим основаниям. Вместе с тем, логические категории в равной мере применимы как к тексту, так и к языку. Пропозициональная форма, безусловно, раскрывает себя как элемент текстового дискурса. Однако, не в меньшей мере в ней представлена категориально-смысловая, структурно-выразительная специфика языка. Язык спроецирован в логике пропозициональной формы, и с этой точки зрения сама она может считаться атрибутом языка.
Логическая интерпретация языка имеет давнюю историю со времен грамматики Пор-Рояля. На протяжении более чем трех столетий принципы логического анализа языка неоднократно видоизменялись. Неизменными, впрочем, оставались общетеоретические основания, в качестве которых служили и продолжают служить базовые положения философского рационализма [см. Хомский 1972: 47-50; Бокадорова 1987: 21-27]. Нельзя не заметить, что «логицисты» смешивают понятия логической формы и языковой формы1. Логическая форма - в большей мере атрибут текста. Не случайно при анализе текстовых структур низшего уровня (СФЕ, высказывания) некоторые исследователи для обозначения основной единицы анализа- выбирали термины «логическое целое» [Пешковский 1922: 94], «логическое единство» [Солгатік 1973: 39]. Логическая форма высказывания имеет универсальное значение для понимания того высшего речевого продукта, который возникает в результате использования языка. Все внутренние ресурсы языка служат цели порождения речевого высказывания, функционально подчинены логической форме высказывания. Однако, логическая интерпретация в данном случае не снимает необходимости выявления собственно языковой специфики - как важнейшего фактора в построении логической структуры высказывания. «Отношение между актуальным и формальным (=синтаксическим - Е.К.) членением предложения - одно из самых характернейших явлений в каждом языке» [Матезиус 1947: 240].
На каких бы основаниях ни проводилось смешение текстовой формы и языковой формы (имеется в виду верхняя граница языковой формы), лингвистика все чаще выходит за рамки своего объекта - языка. Чисто лингвистические задачи исследования смешиваются с задачами филологического уровня. Привлечение филологического контекста, во многом неизбежное и необходимое в целях расширения специального подхода лингвистики к языку, теряет свою эффективность, когда филологический аспект исследования заслоняет собственную структурную специфику языка. Проблема верхней границы языковой формы в данном случае просто снимается. Высшей формой языка оказывается текст в предельно широком его понимании, что, понятно, не способствует точному определению объекта лингвистики.
Итак, говоря в целом, в языкознании принципиальным образом разграничиваются два подхода к проблеме выделения языковой формы. Первый подход условно может быть назван индуктивным. Как показано выше, он строится на физикалистских и физиологических основаниях и, по большей части, ориентирован на выявление и анализ «низшей границы» языковой формы. Исходным пунктом анализа здесь оказывается так или иначе понимаемый «первоэлемент», «атом» языковой формы. Второй подход условно может быть назван дедуктивным. Он изначально ориентирован на выявление и анализ «верхней границы» языковой формы. При этом четкое определение верхней границы языковой формы по большей части отсутствует. Обычно здесь можно видеть стремление к предельно широкому пониманию данной категории, поэтому чаще всего исследователь в своем анализе обращен к широкому текстовому, филологическому контекстам.
Фигура пропозиции как часть выразительной стратегии текстового дискурса
При восприятии текстового дискурса мы, в первую очередь, обращаем внимание на свойства организующей данный дискурс фигуры. Всякая фигура, прелсде всего, выражает относительную смысловую кульминативность дискурса. Фигура служит тому, чтобы обособить, выделить некоторый смысл и, тем самым, привлечь внимание к ключевым элементам содержания. Собственно, сказанное еще раз подтверлсдает ту общеизвестную мысль, что способ выражения регулирует восприятие [Сидоров 1986: 9-10]. С другой стороны, говорящий в построении дискурса таюке подчиняется требованиям избранной фигуры выражения, т.е. в той или иной мере запрограммирован заданной установкой речи. I. And I use the word "power" broadly. Because even more important than military and, indeed, economic power is the power of ideas, the power of compassion and the power of hope. [Rice 4} II. The third step in the plan for Iraqi democracy is to continue rebuilding that nation s infrastructure. ... Our coalition has already helped Iraqis to rebuild schools and refurbish hospitals and health clinics, repair bridges, upgrade the electrical grid, and modernize the communications system. And now a growing private economy is taking shape. [Bush 2] III. Now the facts on immigration. More people are entering the UK than was the case ten years ago to work or study. Foreign students alone contribute f5bn to the UK economy. ... So those are the facts.
[Blair 4) В приведенных примерах четко представлена кульминативность высказывания в структуре дискурса. Данная кульминативность выражается соответствующим выделением ремы высказывания. Экспрессивное усиление рематического элемента в каждом из случаев подчеркивает его коммуникативную значимость, говорящий привлекает внимание слушающего к тому, что, с его точки зрения, может и должно вызвать требуемую коммуникативную реакцию адресата. В I примере риторический эффект дополнительно усиливается при помощи градации. Во II примере мы наблюдаем характерную, служащую цели экспрессивного выделения инверсию ремы относительно темы (при сохранении обычного синтаксического порядка слов) в третьем высказывании. Аналогичную инверсию мы наблюдаем во втором, третьем и четвертом высказываниях в III примере. В приведенных примерах мы, прежде всего, обращаем внимание на пропозициональную фигурность выделительного типа, которая появляется при переходе от неэкспрессивной к экспрессивной части дискурса, что создает эффект экспрессивного риторического «взрыва» (какие бы при этом стилистические фигуры или формальные способы ремовыделения ни использовались). Выбор примеров на экспрессивное ремовыделение понадобился нам для того, чтобы с большей наглядностью проиллюстрировать дискурсивную динамику фигуры пропозиции в структуре текста. Для нас первостепенный интерес представляет то, что в основе экспрессивного усиления в приведенных примерах лежит функция предикации. Это -предикативное по своей природе усиление. Предикативность, как отмечалось выше, это внутреннее, органичное качество фигуры пропозиции. Каждое высказывание по-своему выражает смысловую кульминативность дискурса.
В линейной динамике дискурса смысловая кульминативность дистрибутивна. Это говорит об относительной кульминативности каждого данного высказывания. Динамика дискурса строится по принципу последовательного кульминативного усиления, т.е. по принципу движения от менее значимой смысловой вершины к более значимой. В связи с этим постулируется принцип экспрессивной [Иванов 1991: 68] и смысловой [Сидоров 1986: 127-128] централизации текстового дискурса. Понятно, что любая централизация тут выделяется, прежде всего, на локальном уровне (преимущественно в масштабе СФЕ).
Кульминативная динамика дискурса значима не сама по себе. Необходимо видеть и другую, внутреннюю сторону этого процесса. Смысловая кульминативность служит содержательной топикализации текста, характеризует значимостную распределенность содержательных топиков внутри текста. Внутри высказывания кульминативность ингтегративна. Не случайно принято характеризовать рему как смысловую вершину, «ядро», или «цель» высказывания [Матезиус 1947 а: 239]. Однако, выделяя относительность смысловой кульминативности отдельного высказывания в динамике дискурсивного перехода от одной мысли к другой, мы говорим о ее контекстуальной дистрибутивности.
В анализе содержательных взаимосвязей, прежде всего, на локальном уровне, в моменте перехода от одного высказывания к другому, в традиционной грамматике принято обращать внимание на аспект синтаксического отношения в целях изучения темпорально-аспектуальных характеристик контекстно связанных пропозиций, в связи с чем разрабатывается сложная система гипотаксисных и паратаксисных категорий, характеризующих такого рода отношения.
Такой подход, впрочем, не объясняет динамику текстового дискурса, способ его целесообразного развертывания в коммуникативном контексте. Приоритетом здесь пользуется внутрипропозициональный фактор, некоторое синтаксическое отношение или совокупность таких отношений внутри пропозиции, структурируемых диалектикой подлежащно-сказуемостной связи. Межпропозициональное здесь является внешним атрибутом внутрипропозиционального, служит тому или иному объяснению или уточнению указанной внутрипропозициональной связи на синтаксическом уровне.
Базовая синтаксическая функция в объеме синтаксического отношения подлежащее-сказуемое получает здесь некоторое содержательное расширение. Весьма удачным с этой точки зрения представляется традиционный грамматический термин «распространение». Это содержательная распространенность объективно-логического типа. Содержательное наполнение того или иного синтаксического элемента, таким образом, получает некоторое уточнение, расширение, в связи с чем иначе мыслится его логический объем и, соответственно, его объективно-логическая функция в семантике пропозиции на структурно-синтаксическом уровне организации.
Методика выделения фигуры на внутрипропозициональном и межпропозициональном уровнях
Следует определить методику выделения фигуры (фигуры пропозиции) в текстовом дискурсе. Данная методика имеет не только теоретическое, но и непосредственно практическое значение. В одном случае речь идет об анализе текста, выделении соответствующего порядка его построения, интерпретации относительной смысловой значимости высказывания среди других высказываний в структуре текста. В другом случае речь идет о способе восприятия и понимания текста как коммуникативно развертывающейся структуры слушающим. Понятно, что эффективность восприятия текста заметно повышается, если слушающий выделяет для себя аспект его смысловой динамики, связывает смысловую функцию с особенностями текстовой композиции. Многие работы по интерпретации текста доказывают это [Кожин и др. 1982; Долинин 1985; Кухаренко 1988].
Фигура высказывания включается в логику текстовой композиции, является элементом последней. Текстовая композиция выразительно раскрывается как последовательность пропозициональных фигур. С этой точки зрения мы можем говорить о целостной композиционной фигурности текста. Впрочем, нас в меньшей степени интересует переход от фигурности отдельного высказывания к фигурности текста в целом, или взаимообусловленность двух уровней фигурности в тексте - локальной и общетекстовой, композиционной. В первую очередь, мы обращаем внимание на локальную фигурность высказывания, и именно в этой связи мы говорим о методике выделения пропозициональной фигуративной формы высказывания в текстовом дискурсе.
Важнейшим признаком фигуры на этом уровне рассмотрения можно считать ее относительную топиковость. С одной стороны, фигура служит локальному обособлению топика в текстовом дискурсе. Однако, с другой стороны, та же самая фигура служит экспрессивному выделению топика, раскрывает его коммуникативную смысловую значимость в общей динамике дискурса.
Следует признать совершенно умозрительными любые рассуждения о большей или меньшей значимости топика, как такового (топического аспекта), или способа смыслового выделения топика (аспекта коммуникативного комментария) в фигуре пропозиции. Оба аспекта здесь диалектически связаны, взаимно обусловливают друг друга. Форма фигуры рождается в самом единстве двух ее частей.
В целях более точного выделения фигуры пропозиции на теоретическом уровне целесообразно разграничивать внутренние и внешние критерии такого выделения. Прежде всего, обратимся к внутренним факторам выделения пропозициональной фигуры выражения.
На внутреннем уровне фигура пропозиции совпадает с формой высказывания в аспекте его актуального членения. Внутренним образующим признаком фигуры служит предикативное отношение между двумя частями высказывания: темой и ремой. В этой связи мы говорим о предикативной «полярности» фигуры, части которой ставятся в отношение логического тождества: смысловая функция ремы отвечает содержанию темы, в свою очередь, содержание темы подчинено смысловой функции ремы. При этом отношение логических объема и содержания предстает в перевернутом виде: граница объема мыслимого содержания устанавливается по реме (выделительному аспекту) высказывания, содержательное наполнение, соответствующее выделяемому объему мысли, задано в тематической части высказывания. Обратное отношение в терминах логических объема и содержания мы видим в подлежащно-сказуемостной структуре предложения, где логический объем выражается подлежащим, а соответствующее объему содержательное расширение - сказуемым.
В течение длительного периода развития лингвистики в части методик синтаксического анализа функциональное разграничение двух аспектов высказывания не проводилось. Однако, и в дальнейшем, в связи с появлением теории актуального членения, критерии такого разграничения не отличались достаточной точностью - прежде всего, в силу зыбкости выбираемых при этом логических оснований. По большей части, логика актуального членения (логика фигуры пропозиции) интерпретировалась в терминах традиционной объективной логики, которая обычно применяется при анализе связи подлежащего и сказуемого, т.е. грамматического аспекта высказывания. В связи с этим выделение объема и содержания в части взаимоотношения темы и ремы проводилось по обычному линейно-синтаксическому принципу.
В высказывании, о каком бы его аспекте ни шла речь, нам так или иначе открывается логика суждения. Однако, если применительно к синтаксическому аспекту мы говорим об объективной логике суждения, то в аспекте актуального членения мы должны выделять субъективную логику суждения - логику фигуры (суждения как фигуры). Говоря о субъективной логике суждения, мы в основных моментах не уклоняемся от обычных законов логики. И в том, и в другом случае, т.е. как там, где мы рассматриваем с объективно-логических позиций синтаксис предложения, так и там, где мы с субъективно-логических позиций рассматриваем тема-рематическое отношение в высказывании, - объем управляет содержанием в мыслимой логической структуре. В предложении это - подлежащее, в понятийном объеме которого мыслится выражаемое сказуемым (сказуемостной частью) содержание. В аспекте актуального членения не менее очевидно, что функция ремы управляет функцией темы. По реме устанавливается выразительная граница мыслимого содержания и, таким образом, выделяется его логический объем.