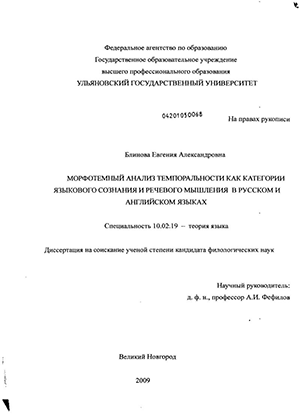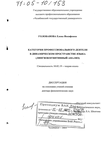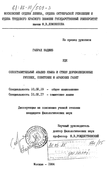Содержание к диссертации
Введение
Глава первая. Методологические основы изучения категории времени в отечественной и зарубежной лингвистике 14
1.1. Грамматический аспект категории времени 14
1.1.1. Категория времени вуровневой модели языка 14
1.1.2. Роль момента речи в формировании грамматической категории времени 19
1.1.3. Взаимосвязь категории времени с другими грамматическими категориями (видом и таксисом) 26
1.2. Анализ категории темпоральности в функциональной грамматике 33
1.3. Категория времени в когнитивной парадигме знания 36
1.4. Морфотемный подход к исследованию темпоральности 41
Выводы по первой главе 46
Глава вторая. Языковая объективация логико-мыслительной категории темпоральности 48
2.1. Процесс языковой объективации (семантизация и формантизация) концептуальных структур 48
2.2. Глагольно-предикатная объективация темпоральности в русском и английском языках 53
2.2.1. Формантизация темпоральности акциональными и трансмотивными глаголами 56
2.2.2. Формантизация темпоральности статальными глаголами 73
2.3. Субстантивная формантизация логико-семантической категории темпоральности в русском и английском языках 78
2.3.1. Ядерная логико-семантическая темпоральность : 81
2.3.2. Периферийная логико-семантическая темпоральность 87
Выводы по второй главе 97
Глава третья. Категория темпоральности в репрезентативном аспекте 100
3.1. Речевая репрезентация актуальных мыслительных понятий 100
3.2. Морфотемная темпоральная структура атрибутивной синтагмы и ее функциональная нагрузка в речевом контексте 106
3.3. Темпоральная локутема как объект анализа в репрезентативном аспекте 111
3.4. Типы темпоральных локутем 113
3.4.1. Формирование темпоральных стереотипов 113
3.4.2. Формирование темпоральных креативов 119
3.5. Участие языкового времени в формировании нетемпоральных креативных локутем 129
Выводы по третьей главе 134
Заключение 136
Библиография 142
Список источников исследования 161
Приложение 163
- Категория времени вуровневой модели языка
- Процесс языковой объективации (семантизация и формантизация) концептуальных структур
- Периферийная логико-семантическая темпоральность
- Участие языкового времени в формировании нетемпоральных креативных локутем
Введение к работе
Категория темпоральности в лингвистике изучается главным образом как грамматическая категория с присущими ей формами выражения (Ярцева, 1975; Шведова, 1978; Виноградов, 1986; Падучева, 1996; Перцов, 1998) или как некая экстралингвистическая (понятийная) категория, обозначаемая с помощью языковых средств (Слюсарева, 1981; Бондарко, 1983; Болдырев, 1994; Кравченко, 1996). На наш взгляд, в современной лингвистике не достаточно чётко определен статус категории темпоральности: является ли эта категория языковой, понятийной или языковой понятийной, которая связывает «языковой материал с общим строем человеческого мышления» (Мещанинов, 1948: 15).
Определяя статус категории темпоральности, важно исходить из того, что язык синтезирован с мыслью, а мысль интегрирована в языке, причем степень взаимопроникновения языка и мысли настолько высока, что разорвать это семантико-понятийное единство, отделив «форму» от «содержания», не представляется возможным. На самом деле, языковая форма имеет своё, формально-семантическое (интралингвистическое) содержание, которое складывается из совокупности номинационных, грамматических, словообразовательных и лексических (контенсиональных) признаков, составляющих собственное значение слова как результат оязыковленного фрагмента мысли. Правильнее было бы говорить не о языке в чистом виде, а о языкомысли, не о речи как таковой, а о речемысли (Фефилов, 2006). В свете когитологических (когнитивных) исследований в современной лингвистике проблема обоснования категории темпоральности как продукта взаимодействия, с одной стороны, языка и сознания, а с другой – речи и мышления представляется наиболее важной. Поставленная проблема неизбежно влечет за собой понимание того, что темпоральность, как и любая логико-мыслительная категория, детерминирована влиянием концептуальной сетки и вне этой сетки не существует. Актуальность темы диссертационного исследования, объясняется, таким образом, необходимостью изучения темпоральности как интегративной языкомыслительной и речемыслительной категории через совокупность межпонятийных связей, выявляемых в сфере языкового сознания и проецируемых на сферу речевого мышления.
Наиболее последовательным из существующих на данное время подходов, в рамках которого правомерно проводить исследование темпоральности, является морфотемная концепция (Фефилов, 1997; Шарафутдинова, 1999; Рохлин, 2002; Лобина, 2002; Стахова, 2007). Эта концепция исходит из признания тесной взаимосвязи между языком, сознанием и объективной действительностью и предполагает последовательный многоступенчатый анализ структуры объективируемого в языке понятийного комплекса и функционирования его в речи как средства выражения деятельности мышления.
Морфотемный подход компенсирует некоторые недоработки и упущения традиционной лингвистики в изучении темпоральности. Во-первых, он позволяет осветить категорию темпоральности как логико-семантическую категорию (аналог логико-мыслительной категории в языке) в её взаимосвязи с другими логико-семантическими категориями, в частности, локальности, акциональности, квантитативности. Во-вторых, морфотемный подход выводит анализ глубинного межкатегориального взаимодействия на описание и объяснение характера соотношения (слияния, соположения, противоборства) двух видов темпоральности, а именно, логико-семантической и грамматической. В-третьих, данная концептуальная перспектива дает возможность определить закономерности сотрудничества «оязыковленного» (объективированного, потенциального) темпорального комплекса с «совыражаемыми» (репрезентируемыми, актуальными) мыслительными понятиями как темпорального, так и нетемпорального характера.
Кроме того, морфотемный подход снимает противоречия, вносимые в лингвистический анализ некоторыми метаязыковыми понятиями, считающимися фундаментальными, например, такими как: «лексическое значение», «слово в языке», «слово в речи», «форма слова», предлагая использовать вместо них методологически более обоснованные термино-понятия «синтагмемная организация», «лингвема», «локутема», «морфа». Основополагающим термином метаязыка когитологии является понятие морфотемы. Морфотема представляет собой операционную единицу анализа и модель языкового знака (лингвемы) и речевого знака (локутемы); она символизирует взаимопереход и неразделимое единство морфы и темы, т.е. формально-семантической и глубинно-семантической организации лингвем и локутем.
Введение понятия морфотемы в лингвистический обиход позволяет разрешить ряд трудностей, связанных с необходимостью разделения так называемых «языковых» и «речевых» значений. Морфотема строго разграничивает номинативную и репрезентативную функции языкового знака, не теряя из виду их взаимообусловленность. «Слово в речи синтезировано с мыслью, но не настолько, чтобы утратить свою самостоятельность; оно совыражается; вернее, выступает в роли совыразителя собственного значения» (Фефилов, 2004:5). Такая методическая установка действительно объясняет механизмы поведения слова в речи, а не просто констатирует факт наличия у слова нескольких значений. В настоящее время в лингвистике слово в речи чаще понимается как определенный вариант смыслового инварианта, или реализация программы, заданной языковым потенциалом слова (Литвин, 1984), при этом потенциальность и инвариантность выводятся из главного значения слова, которое в свою очередь подгоняется под наиболее частотное актуальное значение слова в стереотипном контексте (Schmidt, 1986).
Целью исследования является проведение морфотемного анализа языковых и речевых знаков с компонентом темпоральности в аспектах объективации (переходе мыслительных понятий в языковой статус) и репрезентации (реализации типичных и нетипичных семантических характеристик знака в речевом контексте). Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Определение способа объективации грамматической категории времени в трех группах глаголов: акциональных, трансмотивных и статальных;
2. Обоснование в названных группах глаголов дуративности аспектуального порядка и определение её структуры;
3. Рассмотрение взаимодействия логико-семантических признаков (темпоральности, субстанциальности, локальности, реляциональности, квалитативности, квантитативности) в морфотемной структуре существительных для разграничения логико-семантической темпоральности как:
а) базового признака (день; summer);
б) фонового признака (ночлег; weekly;);
в) смежного признака (летний лагерь; day-book);
г) имплицитного признака (расписание; generation);
4. Изучение стереотипных, частично стереотипных и нестереотипных способов соотношения языковой семантики с обозначаемым актуальным понятием времени в семантической структуре речевых знаков (словосочетаний, предложений-высказываний и текстовых фрагментов);
5. Сопоставление морфотемных структур языковых и речевых знаков, включающих темпоральный компонент, в русском и английском языках и типологизация морфотемного класса темпоральности на основе полученных результатов.
Объект исследования: категория темпоральности как результат взаимодействия языкового сознания и речевого мышления в русском и английском языках.
Предмет исследования: способы обозначения и выражения темпоральности в системе межкатегориальных связей в языке и речи.
Научная новизна заключается в том, что в исследовании впервые обоснован статус темпоральности как интегративной языкомыслительной и речемыслительной категории. В диссертации впервые получили концептуальное объяснение способы воплощения, или базового, фонового, смежного и имплицитного наименования категории темпоральности в системе многогранных межпонятийных связей на уровне языка и процессы стереотипного, частично стереотипного и нешаблонного совыражения темпоральности с другими актуальными мыслительными понятиями (акциональности, локальности, квалитативности и др.) в речевом контексте.
Эмпирическая база. В работе проанализировано около 2000 словарных единиц русского и английского языков, в том числе и их переводных эквивалентов и около 500 фрагментов текста, полученных методом целенаправленной выборки из русской и англоязычной художественной литературы. Отбор текстовых фрагментов для сопоставления происходил отдельно на материале каждого из рассматриваемых языков. В работе использовались также источники всемирной сети Интернет.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит определенный вклад в изучение процессов и результатов взаимодействия мыслительного понятия с языковой единицей как на уровне языковой системы, так и на уровне речевого функционирования. Результаты исследования позволяют дополнить положения традиционной лингвистики о способах представления категории времени в лексике и грамматике, способствуют более глубокому пониманию семантической организации языковых единиц и особенностей их функционирования в речи. Полученные результаты могут использоваться при разработке спецкурсов по теории и практике перевода, в процессе обучения английскому и русскому языкам как иностранным.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Объективация понятийной категории темпоральности проходит по двум основным направлениям – как темпоральная грамматикализация глаголов и как темпоральная лексемизация существительных;
2. Темпоральная морфотемная структура глаголов формируется из двух категориально-семантических (базовых) компонентов: грамматической (событийно-временной) темпоральности формального уровня и логико-семантической (дуративной) темпоральности глубинного уровня объективации. В рассматриваемых трех группах глаголов (акциональных, трансмотивных и статальных) объективацию грамматической и логико-семантической темпоральности выполняет ядро глагольной синтагмемы – релятив (работал – выполнял работу; движется – осуществляет движение; сидит – находится в положении сидя), отграничивая тем самым темпоральный аспект от качества самого действия, движения или состояния.
3. Логико-семантическая темпоральность представляет собой дуративный признак аспектуального порядка, которая формируется взаимодействием дуративного релятора «продолжаться» и темпоратива «какое-то время», конкретизируемого факультативно или в обязательном порядке временными уточнителями. Дуративный признак имеется у всех рассматриваемых глаголов, кроме одноактных.
4. Темпоральная лексемизация существительных структурирует ядерную и периферийную логико-семантическую темпоральность. Ядерная темпоральность представляет собой базовый, категориально-семантический признак (КСП), который объективируется на фоне одного из формантов, получившего статус имплицитного, или ассоциативно-семантического (АСП), фонового, или номинационно-семантического (НСП), смежного, или детерминативно-семантического (ДСП) признака. Периферийная темпоральность объективируется на сопроводительных уровнях лексемизации, выполняя комитативную функцию и характеризуя субстантивные, локальные, релятивные, квалитативные и квантитативные признаки, выраженные базовым компонентом.
5. В речевом контексте темпоральность как речемыслительная категория выявляется в локутемах трех типов:
1) темпоральных стереотипах, которые образованы принципом контенсиональной тавтологии (А А), или симметричного соотношения языковой семантики с выражаемым понятием времени (День обещал быть пасмурным и теплым);
2) темпоральных креативах, формирование которых обусловлено принципами:
а) контенсиональной аналогии (А А+1), при которой репрезентируемое понятие времени является шире или уже объективированного понятия времени (Люди, они ведь как – сегодняшним днем живут, - рассуждал Баев; Люся поникла головой, замерла на целую вечность);
б) контенсионального тождества (А В), или уподобления языковой семантики актуальному понятию времени (Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным);
3) нетемпоральных креативах, которые представляют собой интеграцию объективированного темпорального признака с выражаемыми признаками (субстанциальными, локальными, квалитативными и др.) по принципу контенсионального тождества (А В) (Борис вдруг услышал запах утра в родном городишке);
Методы исследования: морфотемный сопоставительный анализ языковых и речевых единиц, метод семантического развертывания (квантования) и свертывания (синтеза) слова, метод анализа словарных дефиниций.
Апробация работы. Результаты исследования по теме диссертации были представлены на региональных научно-практических конференциях, проводившихся в Ульяновском государственном университете 16.05.2006 и 12.05.2007 и на международных научных конференциях, проводившихся в Чувашском государственном университете им. И. Я. Яковлева 9-11.11.2006 и Челябинском государственном университете 25-26.04.2008.
По материалам диссертации опубликовано 9 статей, в том числе одна статья в издании, рекомендованном ВАК.
Структура диссертации. Общий объем работы – 171 страница, из них 162 страницы основного текста и 9 страниц приложения. В структуру диссертации входит введение, три главы с выводами по каждой главе, заключение, библиография из 184 наименований, список источников исследования и приложение с терминами морфотемной концепции, используемыми в диссертации. Работа содержит 9 схем.
Категория времени вуровневой модели языка
В истории отечественного языкознания проблеме языкового выражения времени придавалось большое значение. Суммируя высказывания некоторых лингвистов, основные причины пристального внимания к изучению времени в языке можно свести к трем следующим аргументам:
1. Изучение категории времени способствует более полному представлению человека об окружающей действительности (Ардентов, 1955:3).
2. Категория времени необходима в построении связной речи. А.М.Пешковский, разделяя все языковые категории на несинтаксические (словообразовательные) и синтаксические, причислял к последним все категории глагола: число, лицо, род, время, наклонение. Он подчеркивал, что формы, образующие синтаксические категории, выполняют очень важную задачу: «они выражают отношения между нашими словами-представлениями и тем создают связную речь-мысль. Без них речь наша рассыпалась бы на отдельные бессвязные слова, а языковая мысль — на отдельные представления» (Пешковский, 1956:32).
3. Особое назначение категория времени приобретает в формировании предикативности, которая служит для организации сообщения (высказывания) (Смирницкий, 1957: 134; Виноградов, 1975: 268; Мещанинов, 1982:69). В своем отношении к объективному времени, язык, по мнению У. Куайна, «выказывает надоедливое пристрастие» (Куайн, 2000: 197). Оно проявляется в трех традиционно выделяемых способах темпоральной индексации: лексическом, морфологическом и синтаксическом (Ардентов, 1955:9; Хаманн, 1967). Морфологический и синтаксический способы составляют сущность грамматической категории времени. В лингвистической литературе под грамматическим временем понимается специфическое языковое отражение объективного времени, служащее для темпоральной (временной) локализации события или состояния, о котором говорится в предложении (Языкознание, 1998: 88).
«Специфичность» языковой категории времени, которая имеется в виду, заключается в следующем: во-первых, грамматическая категория времени является не «фотографией» объективного времени, а в определенной мере его редуцированным отображением, преломленным сквозь призму человеческого опыта в освоении окружающей действительности. Отсюда делается вывод о подчиненности грамматического (и шире — лингвистического времени) времени физическому (Дешериева, 1975:111). Другие исследователи придерживаются противоположной точки зрения на том основании, что наивная языковая картина мира сложилась задолго до формирования физического времени как категории естественнонаучной картины мира (Кравченко, 1996:13). Во-вторых, по характеру представления объективной действительности категория времени относится к числу так называемых дейктических языковых средств. Положение глагольных действий на временной оси задается относительно какого-либо ориентира, чаще всего им является момент речи. Иными словами, грамматическую категорию времени можно охарактеризовать как «векторную» категорию, направление которой задается моментом речи (ТФГ, 1990:7). В-третьих, грамматическая категория времени является важнейшим средством актуализации, позволяющим эксплицировать ситуацию речи (Общее языкознание, 1972:266). Морфологическое время связывается в индоевропейских языках с системой категориальных значений временных форм глагола (Смирницкий, 1959; Иванова, 1961; Мучник, 1971; Уорф, 1972; Бархударов, 1975; Ярцева, 1975). Морфологическая категория времени представляет собой систему противопоставленных друг другу рядов грамматических форм, используемых для выражения отношения действия к моменту речи или времени другого действия (Русская грамматика, 1980:628). Она охватывает глаголы изъявительного наклонения, причастия и деепричастия. Считается, что в сфере изъявительного наклонения эта категория является собственно грамматической (словоизменительной), а в сфере причастия она представляет собой лексико-грамматическую (классификационную) категорию (Ломтев, 1972:48; Распопов, Ломов, 1984:119). Наличие в языке глагольных временных форм свидетельствует о когнитивном характере морфологии, поскольку они представляют собой одно из средств обобщенного и отвлеченного выявления мыслительной (понятийной) категории темпоральности (Слюсарева, 1986: 119).
Парадигма времен в русском языке зависит от вида, поэтому говорят о системе пяти времен, из них три формы (настоящее, прошедшее и будущее сложное) принадлежат глаголам несовершенного вида и две формы (прошедшее и будущее простое) — глаголам совершенного вида (Русская грамматика, 1980: 642). В системе английского глагола различие по линии настоящее-прошедшее-будущее осложняется различием, с одной стороны, общих и длительных времен, а с другой стороны, неперфектных и перфектных времен (Смирницкий, 1959:334). У. Л. Чейф выделяет на основе этой особенности такие темпоральные категории глагола, как перфектив, прогрессив, антипатив и прошедшее (Чейф, 1975: 197).
Понятие синтаксического времени изначально ограничивалось обстоятельствами времени и придаточными предложениями времени, которые становятся таковыми благодаря синтаксическому употреблению, т.е. синтаксическим связям. На сегодняшний день проблема времени на синтаксическом уровне до конца не решена. Разногласия лингвистов по данной проблеме связаны, во-первых, с различными представлениями о сущности синтаксического времени и, во-вторых, с необходимостью выбора между морфологическим и синтаксическим временем в случаях, когда различия между ними стерты, и парадигма времен глагола неотличима от парадигмы времен предложения {читал — читаю — буду читать и Я читал — Я читаю — Я буду читать).
По мнению В.В.Виноградова, синтаксическое значение времени создается не только формами времени глаголов, кратких прилагательных и категории состояния (с помощью связки), но и другими средствами: формами наклонения и инфинитивными конструкциями (Виноградов, 1975:269). Во всех случаях отсутствия морфологических способов выражения времени, по мнению В.В.Виноградова, категория синтаксического времени оказывается производной от модальности и включенной в нее (там же).
Т.П. Ломтев, как и В.В.Виноградов признает, что синтаксическое время может проявляться независимо от наличия в предложении глагольных форм времени (предложения типа Быть дождю, Добро пожаловать), однако у него, в отличие от В.В.Виноградова, синтаксическое время обретает самостоятельный статус. «Набор грамматических категорий слова как единицы языка одного уровня не могут пересекаться. То, что является грамматической категорией слова, не может быть одновременно грамматической категорией предложения и наоборот» (Ломтев, 1972:62).
В более поздних исследованиях проблема выражения времени на синтаксическом уровне языка получила дальнейшее освещение в работах Н.Ю.Шведовой. Основной аргумент, который выдвигает исследователь, заключается в признании способности любого предложения грамматически выражать значение времени (Шведова, 1978:91). Н.Ю.Шведова определяет синтаксическое значение времени как систему, образованную противопоставлением определенного и неопределенного времени. Шкала определенных временных отношений соотносит сообщения в один из определенных временных планов: настоящего, прошедшего или будущего времени. Шкала неопределенного времени образована синтаксическими формами побудительного, сослагательного и желательного наклонений. Специфика шкалы неопределенных временных значений состоит в невозможности установить на ней точку отсчета для отнесения сообщения к какому-либо определенному временному плану. Обе шкалы образуются как исходно безглагольными предложениями (например, Это была она и Если бы это была она!) так и глагольными предложениями (Я здесь живу и Я бы здесь жил). Н.Ю. Шведова признает нераздельное существование на синтаксическом уровне форм времени и наклонения и считает их проявлением единого синтаксического времени.
В современной лингвистике под синтаксическим временем подразумевают время предложения как интегративное единство, образованное взаимодействием грамматических и лексических средств его выражения (Агрова, 2005).
Процесс языковой объективации (семантизация и формантизация) концептуальных структур
Главная функция, прямое назначение языкового знака состоит в том, чтобы опосредованно и абстрагировано представлять мыслительное содержание, исторически закрепляющееся за знаком в виде общего для членов коллектива значения (Уфимцева, 1976: 33). Язык, следовательно, выступает как способ закрепления всей отражающей мыслительной деятельности человека, как одна из форм объективации понятийного содержания, добытого (и добываемого) человечеством на протяжении своего существования.
Объективация в самом упрощенном приближении представляет собой движение от мысли к языку. Более внимательное изучение проблемы подводит нас к тому, что объективация - это не просто перевод мыслительного компонента в его языковой аналог, не просто «транспозиция» мысли в язык, а языковая категориальная семантизация мысли. «Переход логико-мыслительных понятий в языковые признаки, — отмечает А.И Фефилов, - это лингвокреативный процесс. Его следует представить в целом как вокабуляризацию и в частности как внутрисловную разноуровневую объективацию логико-мыслительных понятий, объединяющихся в концептуальные синтагмы и сетки» (Фефилов, 1992: 87).
Вслед за А.И.Фефиловым (Фефилов, 1997) мы понимаем под процессом объективации исторически обусловленную морфотемизацию мысли, в которой различаются этапы семантизации и форматизации.
На первом этапе объективации происходит становление семантической потенции языковой единицы. Динамичная мысль облекается в синтагмему, которая в приближенном понимании является аналогом логико-понятийного комплекса. Синтагмема представлена несколькими четырехярусными компонентами:
(1) структурно- позиционными признаками (исходными (Исх), промежуточными (Пром), смежными (Смеж), замыкающими (Зам);
(2) логико-семантическими признаками, такими как а) субстанциальность (Суб), б) реляциональность (Рел), в) локальность (Лок), г) темпоральность (Тем), д) квалитативность (Квал), е) квантитативность (Кван);
(3) функциональными и модификационными признаками, выступающими в роли припризнаков (модификационнные разновидности для реляциональности: экзистенциальность (Экз), акциональность (Акц), трансмотивность (Транс), локутивность (Локут), локальное отношение (Лок), темпоральное отношение (Тем) и др.; для субстанциальности - одушевленность/неодушевленность, агентивность/пациентивность, орудийность/инструментальность и др. )
(4) контенсиональными признаками, определяющими отличительные черты объективируемого понятия.
Рассмотрим примеры синтагмем, в которых темпоральность занимает разные структурные позиции (содержание контенсиональных признаков не конкретизируется):
день — «часть суток» (1) Исх (2) Тем (3) Меротив (часть) (4) Контенс.признак 1 + «которая длится» (1) Пром (2) Рел (3) Тем (4) Контенс.признак 2 + «от восхода» (1) Смеж (2) Рел (3) ..Акц (4) Контенс.признак 3 + «до заката» (1) Смеж (2) Рел (3) Акц Контенс.признак 4 + «Солнца» (1) Зам (2) Суб (3) Холотив (целое) (4) Контенс.признак 4;
зимовник - «то, где» (1) Исх (2) Лок (3) Внутрен.локальность (4) Контенс.признак 1 + «хранятся» (1) Пром (2) Рел (3) Акц (4) Контенс.признак 2 + «ульи» (1) Зам (2) Лок (3) Внутр. локальность (4) Контенс.признак 3 + «зимой» (1) Смеж (2) Тем (3) Время, Пора (4) Контенс. Признак 4. Синтагмема — это уже не мыслительная сфера, но еще и не совсем языковая, она является пограничным этапом между концептуальным и языковым сознанием. Логико-семантический синтагмемный признак темпоральности является языковым прообразом однопорядковой логико- мыслительной категории.
На этапе формантизации выделяются промежуточные ступени. Сначала синтагмема акустемизируется, то есть облекается в соответствующую звуковую форму. Акустемизированная синтагмема являет собой образ материальной формы языкового знака, но еще не сам языковой знак. Для того, чтобы семантические признаки получили возможность «выйти» на языковую поверхность, акустема должна получить номинационную, грамматическую и словообразовательную форму. Иными словами, процесс формантизации представляет собой способ облачения синтагмемных компонентов в разноуровневые формальные средства (фонетические, грамматические, словообразовательные, лексические признаки). Выделяются следующие уровни формантизации:
1. Уровень фонетической и звукоподражательной мотивации (ФОН) {каркать, шипеть);
2. Категориально-семантический (базовый номинативный) уровень. К нему относятся грамматические признаки базового имени: часть речи, род, число, падеж, лицо, время, наклонение, спряжение и другие признаки, а также категориально-семантические признаки (КСП), которые представляют собой исходное логико-мыслительное понятие концептуальной синтагмы {читала — КСП_РЕЛ(АКЦ); утро - КСП_ТЕМ);
3. Номинационно-семантический (фоновый) уровень, на котором совыражаются мотивационные признаки, закрепленные за корнем базового имени (НСП) {утренник, зарянка, зимник);
4. Детерминативно-семантический (смежный) уровень. Детерминативно семантический признак (ДСП) представляет собой отдельную лингвему, которая конкретизирует значение базового форманта, выступая в виде атрибута, обстоятельства или дополнения (ночная птица; сезонные овощи):
5. Ассоциативно-семантический уровень, на котором синтагмемные признаки объективируются без специальных формантов с опорой на целостную номинативную оболочку, получая статус ассоциативных семантических признаков (АСП) (завтрак («еда утром»), карантин («временное закрытие учреждения»);
6. Словообразовательный семантический уровень. Словообразовательные признаки (СЛП) входят в состав базового имени и детерминируют его семантически (писатель, водитель — суффикс —телъ формирует значение агенса).
В диссертации объективация логико-семантического признака темпоральное рассматривается на категориально-семантическом, номинационно-семантическом, детерминативно-семантическом и ассоциативно-семантическом уровнях формантизации на примерах двух основных типов лингвем — глаголов и существительных. В исследовании выделяются, таким образом, два направления темпоральной объективации: темпоральная грамматикализация глаголов и темпоральная лексемизация существительных.
Совокупность разноуровневых семантических признаков, синтезированных со словесной формой, является морфотемой слова. Морфотема представляет собой синтагмемно-акустемное единство. Это единство формы (морфы) как идеального языкового образа звуковой оболочки слова и содержания (темы), представленного совокупностью лексикализованных и грамматикализованных семантических признаков, организованных синтагмообразно. С помощью морфотемы как эталона анализа можно анализировать не только отдельные слова, но и предложения, и сложные синтаксические единицы (текстовые фрагменты).
Морфотема — это обобщенное понятие операционной единицы исследования любого уровня языка и/или речи. Единицей анализа плана языковой объективации становится абсолютная морфотема, которая накладывается как модель знака на реальную единицу языка — лингвему.
Таким образом, лингвема рассматривается в перспективе своей комплексной формально-семантической структуры, которая реализуется как единство формальных категориальных и мотивационных признаков и глубинных семантических признаков (единство формантемы и синтагмемы). К признакам формального и мотивационного порядка относятся грамматические, словообразовательные, номинационные, детерминативные и ассоциативные признаки, которые образуют интралингвистическое семантическое содержание самой формы языкового знака (лингвемы).
Периферийная логико-семантическая темпоральность
Кроме собственной логико-семантической темпоральности, мы выделяем периферийную темпоральность, которая формантизируется на НСП, ДСП и АСП уровнях, раскрывая сущностные характеристики других понятийных признаков, как то: локальности, квантитативности, квалитативно сти, субстанциальности и реляциональности.
Наиболее тесную связь категория темпоральности обнаруживает с локальностью. В.А. Кравченко отмечает, что «временные понятия возникли в ходе переосмысления первоначальных пространственных концептов, что нашло отражение в построении языковой модели временных отношений по пространственной схеме...» (Кравченко,1996:15). Согласно Г.Гийому, время не может быть представлено самим собой, а заимствует свое представление там, где оно место у пространственных средств (Гийом, 1992:9). Наглядный пример этому — временные предлоги русского и английского языков, которые семантически представлены на основе пространственных понятий и отношений между ними, ср. на улице — на этой неделе; в доме — в ноябре; к дому — к празднику; at school — at two o clock; on the table — on Monday; in the box — in three weeks. В результате такого взаимодействия происходит десемантизация грамматической структурной «локальности» и актуализация грамматической адвербиальной темпоральности.
Связь времени с пространством не является единственной. Так, в языкознании давно обнаружено, что слово время того же корня, как и вертеть, вращать, ворота, веретено, круговращение и означает вращение небесного свода и светил, то есть видимое движение солнца, месяца и звезд (Ярская, 1981:157). В.А.Кравченко предполагает, что первичным значением слова день в некоторых индоевропейских языках было «(видимый) путь, проходимый солнцем» (Кравченко, 1996:14). Следовательно, категория времени изначально (эмпирически и этимологически) соприкасается с пространством и движением.
Категория времени также тесно связана с категорией числа; ведь на протяжении всего человеческого существования временное осознание действительности содержало в себе количественный аспект. «Длительность действия, - отмечает Мигирин В.Н., - не что иное, как количество его существования, измеренное с помощью другого действия, принятого за измерительную единицу» (Мигирин, 1973:138). Большое внимание уделяется изучению семантики грамматической категории числа слов с временным значением (Яковлева, 1994; Плунгян,1997).
Особый интерес представляет рассмотрение взаимосвязи категорий темпоральности и квалитативности. Это достаточно обширная" область исследования: в понятие «качественности» времени входит и семантика слов, указывающая на способ протекания действия, семантика «нового» и «старого» (Арутюнова, 1999; Рахилина, 1997), модели субъективного времени (Красухин, 1997) и другие вопросы. В концепции Е.С. Яковлевой под качественным аспектом времени подразумевается время, проходящее под знаком событий (Яковлева, 1994:114).
К категории субстанциальности логико-семантическая темпоральность не имеет непосредственного, прямого отношения. В данном случае фиксируются сопутствующие временные характеристики лица или предмета, выявляющие его функциональную направленность.
Таким образом, логико-семантическая категория времени выступает как своего рода «сквозная» категория, определяющая другие мыслительные категории и определяемая через другие мыслительные категории. «Время представляет собой общий кадр, в котором имеет место бытие и всякое бытие может переходить во время и время может переходить в различные формы бытия» (Гак, 1997:124).
Периферийная логико-семантическая темпоральность осуществляет комитативную функцию, характеризуя субстантивные, локальные, релятивные, квалитативные и квантитативные признаки, выраженные исходной компонентой и образующие соответственно субстанциальные, локальные, релятивные, квалитативные и квантитативные морфотемные классы. В рамках класса субстанциальных лингвем мы выделяем следующие морфотемы темпорального типа:
(1) КСП_СУБ + НСП_ТЕМ:
1) АГЕНТИВНОСТЬ - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ср. почасовик, сезонник, временщик, часовой; daysman — поденщик; nightman;
2) СУБЪЕКТ - ПЕРИОД, ср. Decembrist - декабрист; winterer - зимовщик; современник, погодок, шестидесятник, ночница;
3) ОБЪЕКТ_ АУКСИЛИАРАТИВ - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ср. суточные, дневник; weekly;
4) ОБЪЕКТ_ИНСТРУМЕНТ - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ср. времянка;
5) ОБЪЕКТ_УТИТИВ - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ср. ночник, часы; timer таймер;
6) ОБЪЕКТ — СУЩЕСТВОВАНИЕ, ср. веснушки, озимые, столетник. Как видно из примеров, темпоральный признак номинализирующей, вспомогательной компоненты определяет не сам предмет, а указывает на время задействования или время действия этого предмета.
В релятивных, локальных, квалитативных и квантитативных морфотемных классах можно привести следующие примеры лингвем с номинализирующим темпоральным компонентом в их составе:
(2) КСП_РЕЛ + НСП_ТЕМ:
1) АКЦИОНАЛЬНОСТЬ - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ср. утренник, субботник, ночевка, маевка; wintering - зимовка.
(3) КСП_ЛОК + НСП_ТЕМ:
1) ВНЕШ. ПРОСТРАНСТВО - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ср. зимник;
2) ВНУТР. ПРОСТРАНСТВО - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ср. ночлег, десятилетка, зимовник.
(4) КСП_КВАЛ + НСП_ТЕМ +/- НСП_КВАН/АКЦ:
1) СУБЪЕКТН. КВАЛИТАТИВНОСТЬ - ПЕРИОД, ср. годовалый, пятилетний, столетний;
2) ИММАНЕНТ КВАЛИТАТИВНОСТЬ - ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ср. temporality -временность; зимостойкость; periodicity — периодичность.
(5) КСПКВАН + НСП_ТЕМ: 1) КОЛИЧЕСТВО - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ср. возраст.
В английском языке объективация логико-мыслительного признака темпоральности в цельнооформленных существительных происходит гораздо реже, чем в их русских эквивалентах, что связано в первую очередь с аналитичностью английского языка. Темпоральный признак либо не получает выраженной номинационной окраски и интегрируется в структуре морфотемы в качестве имплицитного, ассоциативно-семантического признака {веснушки — freckles; вечерня — vespers; зарянка — robin), либо формантизируется на детерминативно-семантическом уровне в виде отдельной лингвемы {утренник — morning performance; суточные — daily allowance; ночлег— nights lodging). Самый распространенный и тип взаимодействия темпоральности с остальным формантизированным логико-семантическим комплексом представлен в нашей классификации конфигурацией КСП_СУБ/РЕЛ/ЛОК/КВАЛ/КВАН + ДСП_ТЕМ, при которой темпоральный компонент играет роль сопутствующего признака, выявляя различные зоны пересечения основных мыслительных категорий.
Участие языкового времени в формировании нетемпоральных креативных локутем
Зачастую грамматическое время глагольного предиката совместно с семантико-синтаксической функцией его актантов оказывается главным механизмом репрезентации нового знания об объекте. Употребление, например, формы Present Continuous в предложении Не is painting a house дает приоритет акциональности, а употребление Present Simple в предложении Не paints houses акциональный признак «погашает». Формы Present Continuous могут служить для создания волитивного или квалитативного отношения у неакциональных глаголов, например, у глагола to be: The child is being very naughty ; You are being a child — Ты ведешь себя, как ребенок. В русском языке грамматическое времени участвует в выражении акциональных отношений: «Ты в школе был?» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 42); «Во вторник суд будет» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 67); «Он у нас председателем долгое время был, так?» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы,- с. 78). На основе грамматического времени выражаются действия учиться, заседать в суде, работать.
В английском языке основную нагрузку по временной маркированности события несет глагол-предикат, а дополнение лишь констатирует факт выбора той или иной формы глагола. В русском языке в глагольных формах отсутствует такая «прозрачность» в выражении времени и семантико-синтаксическую функцию выполняют актанты глагольного предиката, ср. Он читает книгу и Он читает книги. Как видно из этих примеров, время глагола ничего не сообщает о возможном изменении в обозначаемой речемысли, однако объект в единственном числе указывает на протекание действия, а объект во множественном числе — на характеристику самого субъекта действия.
Наиболее типичным проявлением репрезентативной способности грамматического времени глагола являются случаи так называемой «транспозиции», или сдвига времен. Посредством языкового времени становится возможным мысленно перенестись в прошлое, ср. «Не знал я тогда, что навсегда ухожу из родного села» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 39), или же представить некоторую ситуацию в будущем как свершившийся факт: Если я не найду деньги, я пропал. «Футуральные», запланированные на ближайшее будущее действия обозначаются настоящим временем: «Я выхожу замуж» (А.П. Чехов, Избранные произведения, с. 434); Не is leaving abroad tomorrow — Завтра он уезжает за границу. Все это свидетельствует о том, что языковое (грамматическое) время является мощным мотивационным фоном для выражения концептуального времени.
В целях нашего исследования больший интерес представляет изучение репрезентативных возможностей самих темпоральных лингвем, которые под влиянием контекста формируют другое речемыслительное качество — акциональное, квалитативное, квантитативное и др. Можно выделить несколько «линий» развития темпоральной лингвемы в речевом контексте.
1. Темпоральная лингвема — Квантитативная локутема:
"Лґ that time it cost approximately $350 each day for registered nurses around the clock" (B. Rollin, Last Wish, p. 138). На основе синтагмы around the clock выражается квантитативно-темпоральное понятие twenty-four hours a day - круглосуточно. 2. Темпоральная лингвема — Квалитативная локутема.
Квалитативность часто передается при помощи темпоральных лингвем, обозначающих суточное или календарное время: «Не стало осени, одиночества, не стало денег, хомутов...» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 102); «Ни о чем определенном он не думал, а все жила в нем ота радость, какая вломилась сейчас - с весной, светом — в душу, все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя...» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 269); «Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей» (А.П. Чехов, Избранные произведения, с.433); «Здесь - как проклятый: ни дня ни ночи. Ни воскресенья» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 142). Категориально-семантический признак темпоральности под встречным влиянием предицирующих единиц становится совыразителем квалитативно-оценочного признака: "The sound of isolation, a viewless sea, a cold night, apartness. That was the sound" (R. Bradbury, The Golden Apples of the Sun, p.5); «Немедленно прекратите! Чье это распоряжение? Это семнадцатый век!..» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 242); «А было и у старика раннее солнышко, и он — давно-давно — шагал по земле и крепко чувствовал ее под ногами. А теперь — вечер, спокойный, с дымками по селу» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 154).
3. Темпоральная лингвема — Акциональная локутема.
Акциональный признак может быть усилен темпоральным контекстом, ср. «Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война» (Думы, 148); «Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход — вот отсюда, от этой весны» (Шире шаг, маэстро, 270); « Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой ... и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным...» (А.П. Чехов, Избранные произведения, с. 149).
В других речеконтекстуальных условиях акциональный признак предицируется темпоральным: «...после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы..,» (А.П. Чехов, Избранные произведения, с. 321); «... мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом, - все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку» (А.П. Чехов, Избранные произведения, с. 227); "We re wasting our time in the past, Mr. Franklin. We must look to the future" ( Collected Classics, 2000, p. 89); "The problem as we all knew was tomorrow, when the chemotherapy would begin (B. Rollin, Last Wish, p. 37); «Теперь уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двадцатъ-тридцать было — все помнится та ночь» (В.М. Шукшин, Жил человек...: Рассказы, с. 148).
Примеры показывают, что темпоральные лингвемы формируют акциональное отношение: распорядиться насчет зимы — распорядиться насчет приготовлений к зиме; мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом — мечтал о том, что он сделает в будущем, вспоминал о том, что сделал в прошлом и т.п.
4. Темпоральная лингвема — Локальная локутема
Языковое время выступает репрезентантом внутренней и внешней локальности: «Уютная такая избушка, чем-то родная, осталась одна в зиме, в лесу, никто в ней огонька не затеплит....» (В. Астафьев, Повести и рассказы, с.332); «Бой откатился куда-то в сторону, в ночь» (В. Астафьев, Повести и рассказы, с. 379). 5. Темпоральная лингвема — Субстанциальная локутема Уже было отмечено, что в аспекте объективации логико-семантическая темпоральность не имеет непосредственного отношения к категории субстанциальности, однако в речевом контексте такое сближение возможно. Темпоральная лингвема репрезентирует субстанциальность как множественный объект: «На дворе цветет весна» (В. Астафьев, Повести и рассказы, с.543); «Борис вдруг услышал запах утра в родном городишке» (В. Астафьев, Повести и рассказы, с.457). Формирование субстанциальности может быть основано на метафорическом переносе: "Time was a film run backward" (R. Bradbury, The Golden Apples of the Sun, p. 90).
Темпоральный признак может стать мотивационным фоном для выражения сложного речемыслительного отношения, образованного сплетением нескольких признаков, например, субстанциальности, акциональности, квалитативности: "Suddenly the night was just so much wine and talk and dumb enchantments..." (R. Bradbury, Long After Midnight, p. 170).
В английском языке репрезентация мыслительных понятий на основе темпоральных лингвем протекает не менее активно, чем в русском, но есть и определенные расхождения, которые связаны с особенностями языковых сознаний данных языков, а также с тем, что они представляют собой разные «концепции времени» и в этом смысле — разные мировоззрения» (Яковлева, 1994:195). Там, где русский пользуется одним словом для выражения целого ряда концептуальных понятий, англичанин предпочтет специальное слово, конкретизирующее содержание его мысли. Например, в русском языке с помощью морфотемы обед в определенных речевых ситуациях выражается и субстанциальность (У тебя обед стынет), и темпоральность {Магазин закрылся на обед), и акциональность (Мы пригласили на обед своего старого знакомого). В английском языке аналогичное понятие темпоральности уточняется с помощью дополнительных языковых единиц: dinnerime (dinner hour, dinner break), а выражение акционального отношения на обед осуществляется за счет глагола to dine. В целом английский язык более избирателен при выборе средств выражения, а в русском языке мысль конденсируется, «сгущается» в слове, что и придает ему особую метафоричность.
Итак, анализ показал, что в условиях речеконтекстуального предицирования происходит взаимодействие и наслоение различных логико-мыслительных признаков друг на друга, подавление одних и выдвижение других, коммуникативно-релевантных признаков, формирующих содержание локутемы.