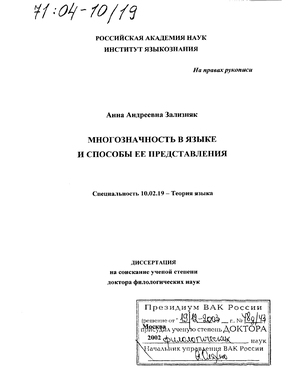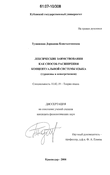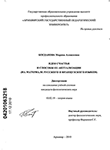Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Теоретические проблемы изучения многозначности 13
1. Общие проблемы 13
1. Понятие многозначности 13
1. Многозначность, полисемия и виды неоднозначности 13
2. Неоднозначность и языковая игра 18
3. Типы некаламбурного совмещения значений 19
2. Способы представления многозначности 24
1. Отечественная традиция 25
2. Зарубежная когнитивная лингвистика 28
3. Критические замечания * 29
3. Значение языковой единицы как реализация ее концептуальной схемы 32
1. Инвариант vs, исходное значение 32
2. Понятие концептуальной схемы 34
3. Устройство многозначности и онтологический статус частного значения 36
2. Внутренняя форма слова 40
1. Понятие внутренней формы слова 41
2. Типы внутренней формы 43
3. Внутренняя форма слова и его значение 44
4. Этимология и народная этимология 47
5. Внутренняя форм аи семантический инвариант 49
3. Метафора как источник многозначности 50 Г Метафора с лексикографической точки зрения 51
1. О двух способах интерпретации метафорических словосочетаний 51
2. О множественности «вещных коннотаций» абстрактных имен 53
3. «Телесная метафора души» в описании эмоций 57
2. Метафора движения в концептуализации интеллектуальной деятельности 59
Глава II. Лексическая многозначность и ее представление .. 65
1. Семантика глагола бояться в русском языке 67
1. Экспозиция 67
2. Бояться 1 и бояться 2 68
3. Синтаксис и семантика предложений с глаголом бояться 71
1. Конструкция с подчиненным инфинитивом 71
2. Конструкция с именным дополнением 74
4. Postscriptum 78
2. О семантике сожаления 79
1. Сожаление о плохом или о хорошем? 79
2. Модель мира сожалеющего субъекта. 82
3. Все могло быть иначе 84
4.. Жалко расставаться 90
5. Сожаление и раскаяние 93
6. Вместо заключения 94
7. Postscriptum 95
1. Еще раз о совмещении значений 95
2. Сожаление и жалость 98
3. Концептаульная схема сожаления 101
4. Глагол сожалеть в лексикографическом аспекте 101
3. Наречие напрасно: семантика и сочетаемость 106
1. Значение неэффективности действия ('напрасно Г) 107
2. Оценочное значение ('напрасно 3') 111
3. Значение ошибочности мнения (Напрасно 2') 113
4. К проблеме инварианта 118
4. Праздник жизни проходит мимо 119
1. Мимо 1 имимо 2 119
2. Пройти мимо и миновать 126
3. Концептуальная схема 'мимо' 127
5. Глагол мочь 132
1. Об одном идиоматическом значении мочь 132
2. Система значений глагола мочь 137
1. Объективное значение 137
2. Пермиссивное значение 141
3. Эпистемическое значение 143
3. Некоторые итоги 144
6. Глагол говорить 147
1. Семантические роли и их исполнители 147
2. Концепт 'говорить' в системе языка 154
3. Словарная статья глагола говорить 158
4. Структура многозначности глагола говорить 169
7. Считать и думать: два вида мнения 172
8. Обрадовать и порадовать: к проблеме коммуникативной организации толкования 179
Глава III. Полисемия, синонимия и межъязыковое сравнение: фрагменты русской языковой картины мира ... 188
1. Отражение «национального характера» в лексике русского языка 188
1. Языковая картина мира и способы ее реконструкции 188
2. Собираюсь 191
3. Постараюсь 197
4. Удалось, успел 199
5. Получилось, вышло, сложилось 203
6. Довелось, посчастливилось, повезло 207
7. Угораздило, умудрился 211
8. Вместо заключения 214
2. Преодоление пространства в русской языковой картине мира 216
1. Глагол добираться: словообразовательная и аспектуальная семантика 216
2. Преодоление пространства 222
3. Глагол добираться: семантическая эволюция 225
3. Собранность VS. рассеянность в метафорическом пространстве русского языка 227
4. Счастье и наслаждение в русской языковой картине мира 233
1. Предварительные замечания 234
2. Радость и. удовольствие 236
3. Ум 237
4. Счастье 239
1. Счастье: значение и семантическая эволюция 240
2. Счастье: сочетаемость и употребление 242
3. Русская мифология счастья 244
4. Межъязыковые сопоставления 245
5. Наслаждение 248
5. О семантике щепетильности: обидно^ совестно и неудобно 250
1. Концепт обиды в русской языковой картине мира 251
2. Обидно 260
3. Совестно и неудобно 262
6. К семантике межличностностного взаимодействия: общение, отношение,
просьба, друг 266
7. Чувства и эмоции 270
Глава IV. Многозначность служебных морфем: семантика глагольных приставок
1. Опыт моделирования семантики приставочных глаголов в русском языке 274
1. Вводные замечания 274
2. Семантические механизмы префиксации и принципы их описания 275
1. Одно значение или много? 276
2. Значение приставки или тип значения приставочного глагола? 279
3. Понятие семантической вычленимости приставки 280
4. Набор семантических признаков как способ отражения диффузности значения приставки 281
3. Модель семантики глаголов с приставкой ЗА 286
1. «Пространственная идея» приставки ЗА 286
2. Семантические признаки глаголов с приставкой ЗА 287
3. Типы значений глаголов с приставкой ЗА 289
4. Фрагмент словаря приставочных глаголов 292
1. Избранные примеры 298
5. Начинательность в значении приставки ЗА 313
1. Почему запомнить не значит начать помнить? 302
2.Инхоативные глаголы с аспектологической точки зрения 308
2. Семантическая деривация в значении приставки У 313
1. Вводные замечания 313
2. Схема семантической деривации приставки У 318
Глава V. К семантике грамматических категорий 323
1. О значении несовершенного видав русском языке 323
1. Онтологическая рснова русской видовой системы: события, процессы, состояния 323
2. Семантические типы видовых пар в русском языке 326
3. Видовая парность и лексическая многозначность 334
4. Типы непарных глаголов несов. вида 337
5. Частновидовые значения несов. вида 340
6. фрагмент аспектологического словаря русского языка 346
2. О значеними русского творительного падежа 360
1. К проблеме инварианта 360
2. Тождество или подобие? 362
1. Творительный сравнения 364
2. Творительный образа действия 367
3. Творительный предикативный 369
3. Метаморфоза 372
Глава VI. Неоднозначность как смыслопорождающии фактор 377
1. Любовь и сочувствие: содержание концептов в русском языке и в романе М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия» 377
1. Любовь 380
1. Любовь в русском языке 380
2. Любовь в романе М. Кундеры 385
2. Сочувствие 387
1. Soucit в романе М. Кундеры 387
2. Сочувствие в русском языке 391
2. О роли грамматической неоднозначности в поэтическом тексте: анализ одного стихотворения Катулла 394
Глава VII. Семантическая деривация в историко- типологическом аспекте 402
1. Семантическая деривация в синхронии и диахронии 402
1. Понятие семантической деривации 402
2. Семантическая деривация и семантическая реконструкция 405
2. К типологии семантической деривации 409
3. «Каталог семантических переходов» 412
1. Направление стрелки 413
2. Реализация семантической деривации 414
3. Ограничение материала 415
1. Степень регулярности 415
2. Масштаб изменений 417
4. Формальные типы семантических дериваций 418
1. Многочленные семантические деривации 418
2. Семантическая деривация с участием словообразования 420
4. Семантическая типология и проблема калькирования 421
Заключение 427
Литература 432
- Типы некаламбурного совмещения значений
- Сожаление о плохом или о хорошем?
- Глагол добираться: словообразовательная и аспектуальная семантика
- Набор семантических признаков как способ отражения диффузности значения приставки
Введение к работе
Одним из важнейших итогов развития семантической теории последних трех десятилетий является то, что многозначность «стала восприниматься не как отклонение от нормы, а как одно из наиболее существенных свойств всех значимых единиц языка, как неизбежное следствие основных особенностей устройства и функционирования естественного языка» [Плунгян, Рахилина 1996: 4]. Показательно, что именно феномен многозначности с самого начала был центральной проблемой когнитивной лингвистики (см., напр. [Deane 1988]).
То, что единицам языка свойственна многозначность, было известно лингвистам всегда. Однако отношение к этому факту в разные эпохи было различным. В частности, в отечественном языкознании важная роль многозначности в функционировании языка всегда признавалась в рамках «традиционного» направления; наоборот, в структуралистских концепциях многозначность слова рассматривалось как некое досадное обстоятельство, с которым нельзя не считаться - раз уж оно имеет место, - но от которой в семантическом описании следует как можно раньше и радикальнее избавиться, с которым необходимо так или иначе «справиться» (ср. выражение maitriser la polysemie, букв, обуздать, укротить в [Lerot 1985])1. Отчасти данью этой идеологии является принятый в Московской семантической школе термин лексема в понимании «слово в определенном значении» (см., например, [Апресян 2 000: XXVII], [Мельчук 1997]), который создает иллюзию решения именно этой задачи - избавления от многозначности: в исходной точке анализа множество употреблений описываемого слова разбивается на непересекающиеся подмножества (соответствующие разным «лексемам»), после чего исследователь имеет дело уже только с этими лексемами, т.е. с единицами, «свободными» от многозначности (ср. [Николаева 19976:270])2.
В некотором смысле противоположным является «инвариантный» взгляд на многозначность, который в своей крайней форме состоит в том, что всякая языковая единица имеет одно значение, а наблюдаемая полисемия сводится к «sui generis оптической иллюзии, возникающей при взаимодействии «настоящего» значения и определенного контекста» [Плунгян 2000: 96]. Впрочем, как справедливо отмечается в цитированной работе В. А. Плунгяна, при внешней
противоположности указанных подходов их объединяет то, что полисемия является источником «теоретического дискомфорта», что «хорошее» описание должно быть свободно от полисемии.
Однако сейчас можно с уверенностью сказать, что одной из составляющих произошедшей в последние 20 лет смены парадигмы является перенос центра тяжести семантической теории с синонимии, бывшей в 60-е - 70-е гг. базовой категорией семантики, на полисемию. Заметим при этом, что здесь важно изменение именно методологической установки, общего взгляда на феномен языкового значения (ср. популярное в свое время понимание смысла как инварианта синонимических преобразований, опирающееся, в частности, на идеи Якобсона)3. Дело в том, что граница между синонимией и полисемией - это, в значительной степени, вопрос концептуализации; так, к числу «синонимических средств языка» (ср. подзаголовок книги «Лексическая семантика» Ю. Д. Апресяна 1974 г.) относятся, например, различные преобразования, связанные с меной диатезы, - а именно такого рода преобразования как варианты реализации потенций одного слова являются важнейшим полем разработки современной теории полисемии. Да и сама «Лексическая семантика» до сих пор является одним из основополагающих исследований в области многозначности, в том числе, регулярной многозначности, которая, очевидно, находится в центре интересов сегодняшней семантики.
В лингвистике имеется несколько базовых оппозиций, касающихся принципиального устройства языка в целом, на фоне которых формируется отношение к многозначности. Это, прежде всего:
1. Дискретность VS. градуальность. Это противопоставление является наиболее глобальным; оно существенно для всех уровней и аспектов функционирования языка. В области структуры многозначности это касается статуса отдельного значения слова: образуют ли разные значения слова множество дискретных единиц или непрерывный континуум, в котором одно значение «плавно переходит» в другое4.
2. Гумбольдтовское противопоставление ergon vs. energeia: строит ли человек в процессе говорения грамматические формы, словосочетания и предложения по неким формулам или образцам - или запоминает их в готовом виде? До относительно недавних пор сторона «energeia» была общепринятой, однако в последнее время теории в духе Б. М. Гаспарова [Гаспаров 1996]
пошатнули этот постулат, причем как среди сторонников, так и среди противников этих теорий.
3. Является ли язык системой «чистых значимостей», где значение каждого знака определяется его местом в системе оппозиций, или любое слово в каждом своем употреблении выражает тот единственный смысл, который вкладывает в него говорящий и который составляет результирующую бесконечного числа факторов (в частности, опирается на неповторимый индивидуальный опыт говорящего). В связи с этим: способен ли слушающий воспринять тот смысл, который хочет ему передать говорящий? Возможна ли вообще идентификация смыслов?
Очевидно однако, что для каждого из этих вопросов единого ответа, общего для всех языковых единиц во всей полноте их функций искать не следует. В языке есть дискретное и градуальное, воспроизводимое и порождаемое, объективно-системное и субъективно-поэтическое. Нельзя забывать также и о различиях в способе усвоения и пользования языком различными говорящими в зависимости от их ментального склада (в частности, тех, которые в лингвистике принято связывать, в свете работ Вяч. Вс. Иванова об асимметрии полушарий мозга [Иванов 1995], с относительной доминантностью того или другого полушария; ср. также более широкое понятие когнитивного стиля обучения в [Clair, Raffler-Engel 1982], [Leaver 1998]). Действительно, наряду с подсознательным отождествлением структуры родного языка со структурой языка вообще (о чем много писали), весьма распространенной методологической аберрацией среди лингвистов является отождествление своего способа владения языком с единственно возможным. В частности, спор о том, усваивает ли человек в процессе овладения языком правила или готовые блоки, равно как и оппозиция выросших из того и другого постулата теорий, покоятся, как кажется, на ложной предпосылке о единственнности способа усвоения и пользования языком для всех говорящих.
Настоящая диссертация обобщает результаты моих исследований в области русской лексической, грамматической и словообразовательной семантики, русской аспектологии, концептуального анализа, семантической типологии, а также исследований русской языковой картины мира в межкультурной перспективе, проводившихся на протяжении последних 15-ти лет , Разделы II. 8, III. 3, IV. 1.5.2, V. 1 основаны на статьях, написанных в соавторстве с А. Д. Шмелевым; в основу раздела II. 5 положена статья, совместная с Е. В. Падучевой; в разделе III. 1 использованы материалы статьи, написанной в соавторстве с И. Б. Левонтиной.
Разумеется, на протяжении этих лет мои представления об устройстве многозначности и оптимальных способах ее описания эволюционировали. Эта эволюция отчасти отражена в расположении разделов в Главах II - IV, посвященных лексической и словообразовательной семантике. В целом она совпадает с общим направлением изменений, произошедших за это время в мировой лингвистике; в частности она состоит в переносе внимания с различий в значении той или иной языковой единицы и поиска тех контекстных условий, в которых эти различия создают смысловую оппозицию - на нахождение общности концептуальных конфигураций, присутствующих, в тех или иных модификациях, в различных языковых единицах, от морфологии до синтаксиса (так, например, концептуальная конфигурация как бы само собой , присутствует в ряде русских полнозначных слов, во множестве синтаксических конструкций, а также в некоторых словообразовательных моделях). Упомянутая эволюция, однако, не нарушает единства представления о многозначности как о множестве различных явлений некой единой сущности (которая в более ранних вариантах модели называлась «общим значением» или «семантическим инвариантом», а в окончательной ее версии называется «концептуальной схемой»), также как и не затрагивает оставшееся неизменным убеждение автора в принципиальной возможности адекватного описания сколь угодно диффузной семантической материи, причем не за счет формализации метаязыка, а лишь за счет ясности мысли и точности ее выражения (в том числе, средствами обычного русского языка).
Одна из наиболее фундаментальных связей, формирующих семантическую структуру языковых единиц всех уровней (и проходящая сквозной нитью через все главы настоящей работы) - метафорический перенос из наблюдаемого мира физических явлений в мир ненаблюдаемых идеальных сущностей (внутренних состояний человека, логических и прочих «абстрактных» отношений). Это касается, в первую очередь, полнозначных слов, где данный перенос имеет системный и всеохватывающий характер, но в значительнои тепени также и значений служебных слов и морфем (предлогов, приставок); при этом существенно, что исходное пространственное значение почти всегда является в той или иной форме и степени актуальным и для производного непространственного. Не случайно именно эта двойственность является одним из основных инструментов поэтической техники самых разных эпох и стилей (и может быть также конституирующим принципом на уровне текста).
Характеризуя общие теоретические установки данного исследования, можно сказать, что основными идейными истоками для них послужили: Московская семантическая школа; методы «концептуального анализа», применяемые в рамках направления, обозначающего себя как «Логический анализ языка»; работы Анны Вежбицкой. Что касается когнитивной лингвистики, связываемой с именами М. Джонсона, Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, Л. Талми и др., чьи работы вошли в российский лингвистический обиход приблизительно в середине 90-х годов, то близость некоторых ее идей и методов к тем, которые
реализованы в данном исследовании, можно определить скорее не как «заимствование», а как «параллельное развитие». Так, представление «общего значения» слова в форме пространственной схемы, из которой разные частные значения выдвигают на первый план разные элементы, было предложено мною в статье, посвященной слову мимо [Зализняк 1994]; в значительной степени аналогичный принцип описания был использован мною ранее для представления «общего значения» предикатов внутреннего состояния в [Зализняк 1985, 1986], а затем в книге [Зализняк 1992а]. Да и в целом не будет преувеличением сказать, что отечественная семантика по существу всегда была «когнитивной» (см. об этом подробнее в разделе I. 1.2).
Научная новизна работы определяется тем, что в ней строится концептуальный аппарат описания многозначности в языке, отвечающий потребностям семантики XXI века; центральное место в нем занимает понятие концептуальной схемы и множества ее реализаций. Выявлены принципы функционирования многозначности для языковых единиц разных уровней (полнозначные слова, служебные слова и морфемы, дискурсивные слова). Выявлены организующие принципы, обеспечивающие единство значения некоторых грамматических категорий. Показано влияние индивидуального когнитивного стиля на языковую и метаязыковую деятельность говорящего и обоснована установка на принципиальную множественность семантического описания. Разработаны основы построения семантической типологии, понимаемой как типология семантической деривации, и изложен проект создания «Каталога семантических переходов», служащего фактологической базой для семантической типологии.
Теоретическая значимость исследования определяется рядом выдвинутых новых теоретических положений; о характере соотношения дискретного и континуального, воспроизводимого и порождаемого, системного и внесистемного - в языке вообще и в структуре значений многозначного слова в частности; о множественном характере путей семантической деривации; о необходимости разграничения описательного и моделирующего аспекта представления многозначности, о влиянии ментального склада говорящего на функционирование механизма многозначности и когнитивного стиля исследователя - на способ его представления; о единстве синхронной и диахронической семантической деривации; о необходимости инвентаризации фактов параллельного семантического развития как базы для построения семантической типологии и семантического критерия реконструкции. Важное теоретическое значение имеет произведенное в исследовании распространение методов семантического анализа, разработанных Московской семантической школой для анализа полнозначных лексических единиц, на другие области семантики: описание структуры многозначности приставки и значений грамматических категорий; применение методов описания синонимических рядов к сопоставлению русских слов с их переводными эквивалентами с целью выявления лингвоспецифичных компонентов значения: способ представления значений приставки в форме набора семантических компонентов, задающий разбиение на
пересекающиеся классы и позволяющий отразить диффузность значений приставки.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования его результатов в практической лексикографии (при составлении толковых, двуязычных, словообразовательных и др. словарей), в преподавании теоретических курсов русской грамматики, семантики, лексикографии и аспектологии; результаты в области реконструкции русской языковой картины миры особенно ценны при переводе и при преподавании курсов русского языка и лингвокультурологии иностранным студентам.
Работа включает семь глав. В Главе I рассматриваются общие проблемы описания многозначности и излагаются основные теоретические положения работы. Главы II и III посвящены лексической семантике: в Главе II собраны семантические описания отдельных слов и групп слов русского языка, выполненные в различных жанрах; в Главе III предлагается анализ ряда лингво-специфичных слов русского языка на фоне русской языковой картины мира. В Главе IV описано устройство многозначности одной категории служебных морфем - русских глагольных префиксов: способность говорящего пользоваться приставкой как самостоятельной двусторонней единицей языка моделируется как имплицитное знание, обнаруживающее себя в обращении к разным рядам аналогий (разным семантическим классам глаголов с данной приставкой). Глава V посвящена семантике грамматических категорий - рассматривается многозначность граммем несовершенного вида и творительного падежа в русском языке. В Главе VI многозначность рассматривается как смыслопорождающий фактор художественного текста. Глава VII посвящена исследованию семантической деривации в типологическом аспекте.
При работе над разными частями данного диссертационного исследования автор пользовался поддержкой фондов: РГНФ (гранты № 98-04-06214, № 01-04-00201а), РФФИ (гранты № 97-06-71094, № 98-06-80111, № 01-06-80401), ИНТАС (грант № IR-97-0822), RSS CEU (грант №797/1997).
Работы, вошедшие в диссертацию, докладывались на международных конференциях и семинарах: ежегодная конференция «Логический анализ языка» (Москва, ИЯ РАН, 1987, 1990, 1998, 2000, 2001, 2002); «Проблемы морфо-синтаксиса славянских языков» (Чертоза ди Понтиньяно, Италия, апрель 1993); «Языковые универсалии и славянские языки» (Цюрих, Швейцария, май 1996); Международная летняя школа по формальной лингвистике (Москва, 1993, 1994, 1995), международный семинар ДИАЛОГ-98, 2000, 2001, 2002; международная конференция «Русский язык конца XX века: лексика, синтаксис, фразеология» (Экс-ан-Прованс, Франция, май 2000); VI международный конгресс по проблемам Центральной и Восточной Европы (Тампере, Финляндия; июль-август 2000); конференции Европейского лингвистического общества (Лёвен, Бельгия, август 2001; Потсдам, Германия, июль 2002); «Преподавание русского и других славянских языков в университетах Италии» (Флоренция, Италия, сентябрь 2001); 1-я и 2-я ежегодная конференция по славянской когнитивной лингвистике
(Чепелл-Хилл, США, ноябрь 2000; Шарлотсвилль, США, октябрь 2001); 5-е Шмелевские чтения (ИРЯ РАН, февраль 2002); III зимняя типологическая школа (февраль 2002); семинар проблемной группы «Логический анализ языка» (ИЯ РАН, сентябрь 1995, октябрь 2001), семинар по теоретической семантике и лексикографии (ИППИ РАН, апрель 1997, сентябрь 1998, июнь 2001) аспектологический семинар (филологический факультет МГУ, март 1997; декабрь 2002), славистические семинары университетов: Мюнхен (Германия; июль 1998, ноябрь 2001); Тюбинген (Германия; декабрь 1994), Экс-ан-Прованс (Франция; январь 1991, январь 1994, январь 1995, апрель 2001); Копенгаген, Орхус, Оденсе (Дания; октябрь 2001), Пиза, Форли, Флоренция (Италия; март 2002).
По теме диссертации были прочитаны учебные курсы для студентов-лингвистов в РГГУ (1998), а также для иностранных студентов-русистов в университетах Париж-Х Нантер (1991, 1993), Экс-ан-Прованс (1992), Флоренция (1993), Мюнхен (1994-1997).
По теме диссертации опубликовано три монографии и серия статей (см. автореферат).
Как известно, при семантическом анализе лингвист имеет дело с сущностями трех типов: сами слова, заключенные в них концепты и соответствующие им фрагменты действительности. Объекты первого рода обозначаются обычно курсивом, второго - заключаются в марровские кавычки , третьего - обозначаются обычным прямым шрифтом. Однако, как показала практика, реальное словоупотребление таково, что довольно часто два, или даже все три типа смыслов могут выражаться одновременно (и при этом не возникает неоднозначности); тем самым полностью последовательно указанный принцип нотации проведен быть не может. Поэтому обозначение курсивом изначально признается многозначным и может использоваться для указания на сущность любого из указанных трех типов. Способ нотации при помощи марровских кавычек зарезервирован для семантических ярлыков, указывающих на определенную концептуальную конфигурацию и которая может быть заключена в различных материальных носителях (например смысл, обозначаемый как бояться 2\ может быть выражен русским глаголом бояться, французским avoir реиг и другими средствами).
Я хочу выразить искреннюю благодарность тем людям, которые повлияли на облик данной работы, как и на сам тот факт, что она была написана, - моим учителям, друзьям и коллегам: Т. Б. Алисовой, Ю. Д. Апресяну, Н. Д. Арутюновой, И. М. Богуславскому, Т. В. Булыгиной, Д. Вайсу, А. Вежбицкой, Е. М. Вольф, М. Гиро-Вебер, А. В. Дыбо, А. А. Зализняку, А. А. Кибрику, А. Е. Кибрику, М. А. Кронгаузу, С. А. Крылову, И. Б. Левонтиной, Х.-Р. Мелигу, И. А. Мельчуку, И. Микаэлян, М. Ю. Михееву, Е. В. Падучевой, Д. Пайару, Н. В. Перцову, В. А. Плунгяну, Е. В. Рахилиной, О. Н. Селиверстовой, Н. И. Серикову, В. Туровскому, А. Д. Шмелеву, Т. Я. Янко и всем, кто на протяжении этих лет участвовал в обсуждении волновавших меня проблем, связанных с многозначностью в языке.
Типы некаламбурного совмещения значений
Остановимся сначала на самом понятии совмещения значений4. К сожалению, этот термин не имеет единого общепринятого понимания, и это порождает досадные недоразумения - ср., например, полемику в [Санников 1999: 181-183] в отношении работы [Перцов 1996]. Действительно, нельзя не согласиться с мнением В. 3. Санникова, что «каламбурное обыгрывание слов (в том числе и обыгрывание многозначности слов) не имеет отношения к вопросу о единстве слова, наличии инварианта и т.д.» [Санников 1999: 183]. Но это совершенно справедливое утверждение нисколько не опровергает мнения Н. В. Перцова о том, что возможность совмещения значений является доказательством проницаемости границ между отдельными значениями слова, аргументом в пользу существования инварианта [Перцов 1996: 27-30]. И дело здесь не только в том, что помимо многозначности, каламбур может быть построен на омонимии или паронимии (аргумент В. 3. Санникова), а еще и в том, что каламбурное и некалабмурное совмещение значений - это два разных явления. Если каламбур сталкивает и противопоставляет - безразлично, значения одного слова, омонимы или любые другие внешне сходные вещи (омофоны, омографы, случайно совпавшие формы, само слово и словосочетание, возникшее в результате его паразитического переразложения, ср. шутки типа «Когда цветочник бывает предателем? - Когда он продает нас Турции», игру «Почему не говорят...?» т.п.) - то некаламбурное совмещение значений (возможное, заметим, только для разных значений многозначного слова, но не для омонимов), наоборот, их объединяет. Глава I
Нас будет интересовать далее лишь некаламбурное совмещение значений. Здесь возможны, как минимум, следующие типы (между типами 2 и 3 граница не совсем определенная). 1. «Склеивание». Объединение в одном слове (в пределах одного высказывания) двух отчетливо различных, но при этом не взаимоисключающих его пониманий, не создающее никакого специального эффекта: «неоднозначность» в таких случаях обнаруживает лишь лингвист, поставивший перед собой задачу идентификации словарного значения. Случаи «склеивания» одинаковых означающих, имеющих различные означаемые, обычно не замечаются ни говорящим, ни слушающим, но при их обнаружении «расклеивание» не представляет ни малейшего труда и проходит совершенно безболезненно для смысла предложения в целом. Этот случай может быть проиллюстрирован уже обсуждавшимися в лингвистической литературе примерами (1), (2). (1) Пустое сердце бьется ровно, /В руке не дрогнул пистолет (Лермонтов)5 (2) Через край полная аудитория была неспокойна и издавала глухой, сдавленный гул. (А. Герцен) В примере (1) в слове сердце «склеиваются» значения цетральный орган кровообращения (сердце бьется) и этот орган как символ средоточия чувств (пустое сердце); в (2) слово аудитория употреблено одновременно как обозначение помещения и множества находящихся в ней людей. В работе [Перцова 1988: 65] пример (1) справедливо охарактеризован как случай конъюнктивной неоднозначности (т.е. предполагающей одновременное наличие двух прочтений), при этом ненамеренной со стороны говорящего. В работах [Перцов 1994; 2000а, 2001] разбирается пример некаламбурного совмещения значений глагола петь в примере (3): (3) Фигурно иль буквально: всей семьей, От ямщика до первого поэта, Мы все поем уныло. [...] (Пушкин. Домик в Коломне) Автор усматривает здесь объединение значений на основе семантического инварианта, включающего смыслы эстетическое1, приятное1, ритмичность1 и человеческий голос [Перцов 2001: 36]. Этот анализ вызывает возражения. Во-первых, хотя в данном примере эффекта каламбура, действительно, не возникает, нельзя согласиться с тем, что совмещение значений здесь «несмотря на предупреждение в первой строке, большинством читателей не замечается» [Перцов 2000а: 58]. Пушкин безусловно Глава I обыгрывает возможность соединения очевидно различных смыслов - и не заметить этого может лишь очень невнимательный читатель. Совмещение значений здесь - это прием, целью которого (возможно, не единственной и даже не истинной) является создание иллюзии единства -за счет нанизывания аналогичных совмещений в последующих словах песнь напев и дальнейшего распространения этой аналогии (о чем пишет Н. В. Перцов). Во-вторых, согласно Словарю языка Пушкина, одно из двух совмещаемых здесь значений глагола петь — это творить, слагать стихи [СЯП; III: 333]: смысловой компонент человеческий голос здесь, очевидно, отсутствует, и тем самым он не может входить в инвариант (между тем исключение данного компонента из предполагаемого инварианта уж слишком явно противоречило бы основному значению глагола петь). Возможность некаламбурного совмещения значений, как кажется, опирается в данном случае скорее не на инвариант, а на устойчивое европейское культурное клише «поэт - певец», восходящее к реальному совмещению этих функций (в античности и в другие «древние» эпохи, ср. Баян). 2. «Сплав». Этот тип совмещения значений особенно характерен для поэзии. Речь идет о том, что два, вообще говоря, отчетливо различных значения как бы соединяются в одно; при этом ощущение их разности тоже сохраняется, и именно на этом основан эффект: разные вещи предстают как одна (в частности - совмещение прямого и переносного значения одного слова, как в примере (5))? и из этого соединения возникает новый, третий смысл. Приведем два таких примера (курсив мой А.З.): (4) Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. [...] Он думал не только о процессе, т.е. о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них, так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется судьба. (Н. Мандельштам. «Вторая книга») Согласно словарям (напр. MAC), слово узнавание может означать интеллектуальное обретение либо нового либо старого (отождествление с образом, имеющимся в памяти). Данное употребление, очевидно, не относится ни к одному из них: речь идет (приблизительно) об узнавании нового, которое субъективно ощущается как обретение уже имевшегося ранее6. Ясно, однако, что никакой проблемы с пониманием того, что имеется в виду, не возникает; с другой стороны, очевидно, что никакой необходимости в пересмотре словарного толкования слова узнавание также нет.
Сожаление о плохом или о хорошем?
События происходят во времени, а время течет от прошлого через настоящее к будущему. Мы воспользуемся такой моделью этого процесса, которая представляет его как последовательную смену дискретных состояний мира. Каждое состояние мира приурочено к некоторой точке на временной оси, соответствующей моменту времени, в который оно имеет (имело, будет иметь) место. Но мы можем говорить не только о состоянии мира, которое имеет место в некоторый момент времени, но и о тех, которые могли бы иметь место в тот же момент. Тем самым каждой точке на оси времени оказывается сопоставлено некоторое множество различных возможных состояний мира, или «возможных миров» - с одним и тем же индексом, обозначающим момент времени: Wj ={Wj, W/, Wj",...}13; каждый из миров представляет собой множество положений дел: W; = {А, В, ...}. Множество положений дел, которое имеет место в настоящий момент (t0), мы будем называть действительным миром (W0). Если некоторое положение дел А имело место в момент tj (tj t0)14, это значит, что А принадлежит такому миру Wj, который был действительным в момент Ъ Если А имело место в течение периода времени от th до tj, это значит, что А принадлежит всем мирам из последовательности Wh, Wh+i,..., Wj.i, Wj, которые были действительными, соответственно, в моменты времени th, th+i,..., t и, tj.
Последовательность возможных миров с непрерывно возрастающими индексами может составить линию развития событий. Это означает следующее. Если мы фиксируем некоторое положение дел А, то линию развития событий будет составлять такая последовательность миров Wj, Wj+, Wj+2,..., что каждому из них принадлежит либо само А, либо А , где А есть последствие А. Понятие последствия мы принимаем за неопределяемое: достаточно сказать, что А и А связаны некоторой очевидной причинно-следственной связью (ср. семантический примитив «становиться» у А.Вежбицкой и в целом идею становления одного «мира» из другого как способ описания временных отношений в языке [Wierzbicka 1980а: 194-216], а также одно из возможных определений отношения достижимости, которое встречается во временной логике: «мир, или состояние дел Ъ достижим из положения дел я, если b является возможным будущим состоянием а» [Прайор 1981:90]). Если окажется, что некоторой точке tj не соответствует ни одного мира, которому принадлежало бы А (или А , А" и т.д.), то это значит, что линия развития событий «оборвалась», что это «тупиковая» линия16.
Ось времени делится на две части точкой настоящего момента t0. Для каждой из временных точек, предшествующих настоящему моменту (т.е. для прошлого), в множестве соответствующих ей возможных миров есть один выделенный - тот, который был в этой временной точке действительным, в противоположность всем остальным, которые могли бы осуществиться, но уже не осуществились. В той части оси времени, которая соответствует будущему, множества возможных миров, сопоставленные каждой временной точке, однородны (их элементы могут различаться лишь по количественной оценке вероятности своего осуществления); в этом случае мы будем говорить о реально возможных мирах.
Течение времени, таким образом, состоит в том, что точка настоящего момента, равномерно продвигаясь от прошлого к будущему, превращает бесконечно ветвящееся дерево возможных путей изменения мира в одну линию -действительную линию развития событий (ср. [Хинтикка 1980: 74]).
Обратимся к прошлому. Если понимать действительный мир как множество положений дел, соответствующих точке настоящего момента, то прошлого, очевидно, нет - так как его нет в действительном мире. Как пишет Б. А. Успенский, «Прошлое - это то, чего нет сейчас (в э т о й действительности, в действительности настоящего), но то, что, как мы уверены, было раньше (в иной, прошедшей действительности) [...] Прошлое, в отличие от настоящего, не поддается непосредственному, чувственному восприятию, однако оно связано с настоящим опосредованно - оно оставляет свой след в настоящем, как в субъективных переживаниях, т.е. в явлениях памяти, так и в объективных фактах, которые естественно объясняются как следствия прошедших событий» [Успенский 1994а: 15-16]. Мы будем различать два типа отношения настоящего к прошлому: отношение непосредственной преемственности (наличие непрерывной последовательности промежуточных состояний) и «идеальная» связь (воспоминание).
Пусть А - некоторое положение дел, принадлежащее миру W„ который был действительным в tj (tj t0). Тогда возможны следующие случаи. 1) Положение дел А находится на «тупиковой» линии развития событий, т.е. ни само А, ни какое-либо его последствие А1 не принадлежат Wj. В этом случае А -это «абсолютное» прошлое - то прошлое, которого нет и которое может быть связано с настоящим лишь отношением воспоминания. 2) Некоторое положение дел А , являющееся последствием А, принадлежит W0. 3) Положение дел А имеет место в течение всего промежутка времени от t, до t0, т.е. само А принадлежит W0. В этом случае положение дел А принадлежит, безусловно, настоящему, а не прошлому. Случай 2 - промежуточный; в зависимости от обстоятельств, он может примыкать как к первому, так и к третьему. Как будет видно из дальнейшего, обстоятельства, диктуемые семантикой сожаления, таковы, что он объединяется с третьим, т.е. то прошлое, последствия которого имеют место в настоящем, приравнивается к настоящему, и они оба противопоставляются прошлому, не имеющему последствий, как то, что есть, тому чего нет.
Итак, продвигаясь вместе с точкой настоящего момента от прошлого к будущему, мы постоянно проходим «развилки» (мы будем пользоваться этим удачным образом из работы [Арутюнова 1983], употребляя слово «развилка» для обозначения временной точки, из которой исходит несколько линий развития событий). В одних случаях то, как сложится дальнейший ход событий, от нас не зависит, но в других мы сталкиваемся с необходимостью (или имеем возможность) сами выбирать какой-то один из альтернативных путей. Как пишет Д. Фоллесдаль, «человек может действовать, т.е. учитывая наличие различных возможных вариантов развития событий, способствовать осуществлению одного из них» [Фоллесдаль 1986: 145], ср. также [Хилпинен 1986: 308], [Столнейкер 1985:428]. Осуществление выбора предполагает, в свою очередь, ценностное сравнение возможных альтернатив: «При этом мы исходим из наших представлений, касающихся вероятности различных последствий возможных действий, а также из той значимости, которую мы приписываем каждому из этих последствий. Умножая вероятность на значимость и суммируя результаты, человек вычисляет эффект каждой альтернативы и выбирает альтернативу с наибольшей ожидаемой полезностью» [Фоллесдаль 1986: 146]; ср. также описание механизма ценностного сравнения в [Арутюнова 1983].
Глагол добираться: словообразовательная и аспектуальная семантика
Имеется другой класс употреблений этого слова, когда оно используется для оценки заведомо намеренных действий. В этом случае компонент Р маловероятно реализуется в виде чего-то вроде Говорящий удивлен или Говорящий не ожидал Р (не думал о возможности Р) ; на первый план при этом выходит идея неконтролируемости, содержащаяся в компоненте произошло Р\ Прагматика такого употребления угораздило может быть различной. В примере (83) это слово служит средством передачи (в имплицитной, и тем самым, более действенной форме - так как ассертивных компонентов в угораздило нет) мнения, что такую глупость как жениться человек не может сделать по доброй воле.
С другой стороны, слово угораздило может использоваться и как способ снятия ответственности за контролируемые действия - оцениваемые отрицательно либо самим субъектом постфактум, либо другим лицом. Ср.: (92) Меня/его угораздило ввязаться в эту историю. Здесь речь идет о некотором сознательном поступке, который впоследствии (или с точки зрения другого лица) переоценивается и соответственно пере-называстся (ср. косвенную номинацию ввязаться в эту историю), а употребление слова угораздило позволяет к тому же представить эту ситуацию как не полностью контролируемую субъектом. Другой аналогичный пример - из пьесы Е. Шварца «Два клена», где на признание Медведя, что он нанялся на службу к Бабе Яге, Василиса восклицает: (93) Да как же это, Мишенька, тебя угораздило! Слово угораздило указывает здесь на то, что добрая женщина хочет извинить неблаговидный поступок Медведя, объясняя его неполным владением ситуацией в большей степени, чем моральным падением героя. одну и ту же семантическую эволюцию, состоящую в переосмыслении оценочного компонента под воздействием иронии. При этом слова угораздило и умудриться в современном языке утратили исходное «позитивное» значение, а у глагола ухитриться оно сохранилось (ср. On ухитрился попасть па спектакль без билета). Различия между умудрился и угораздило состоят в следующем. Прежде всего, умудрился в отличие от угораздило, имеет ассертивный компонент: это сообщение о том, что имело место некоторое событие (можно сказать, что умудрился — это сопровождающая утверждение о событии оценка); в этом отношении умудрился сходно с такими словами, как удалось или посчастливилось, а также поленился, постеснялся, побоялся, поторопился уйти (безударное) и др. - см. о таких глаголах [Зализняк 19886]. Кроме того, умудрился предполагает большую, чем угораздило, степень ответственности субъекта за происшедшее: умудрился включает идею, что субъект мог бы предотвратить нежелательное событие, если бы приложил какие-то усилия. Хотя само по себе событие является неконтролируемым, ведущая к нему причинная цепь включает контролируемые звенья - например, не простудился бы, если бы не сидел на сквозняке (ср. [Зализняк 1992а: 72]). Слово угораздило этой идеи не содержит, поэтому в контексте полностью неконтролируемых событий употребление умудрился неуместно: ср., например, невозможность замены угораздило па умудрился в предложении (85). Умудрился, в отличие от угораздило, не градуируется (ср. Эк его угораздило! Надо же, чтобы так угораздило!). Наконец, в отличие от угораздило, умудрился содержит однозначно отрицательную оценку субъекта и не выражает никакого чувства. 1.8. Вместо заключения Описывая слова, в которых заключены «национально-специфические» концепты, исследователь неизбежно сталкивается с проблемой переводимости. А.Вежбицкая, которая специально интересуется данной проблемой, придерживается следующей точки зрения: она отвергает распространенный тезис о невозможности полного и адекватного перевода с одного языка на другой на том основании, что любую мысль, согласно ее концепции, можно выразить на «естественном семантическом метаязыке» и перевести это выражение на любой другой язык. Последнее возможно в силу того, что используемый семантический метаязык с одной стороны оперирует лишь универсальными концептами, с другой - является, вообще говоря, подмножеством соответствующего естественного языка. Иными словами, тексты на этом семантическом метаязыке являются одновременно текстами на некотором естественном языке и могут, a la rigeur, рассматриваться как переводные эквиваленты. Нельзя однако не отметить, что при переводе через семантическое представление меняется весьма важное свойство исходного текста - степень эксплицитное выраженных в нем смыслов. Действительно, любое семантическое представление отличается от толкуемого выражения тем, что все элементы смысла представлены в нем эксплицитно, дискретно и линейно (более того, семантическое представление тем лучше, чем более ясны и отчетливы его компоненты). В словах же естественного языка степень семантической конденсации бывает очень высокой; некоторые элементы смысла спаяны между собой, а другие - принципиальным образом затушеваны. Насильственно разъединяя, выявляя и линейно выстраивая эти элементы, мы не только изменяем форму подачи смысла, но и меняем сам смысл. Труднее всего перевести в словах то, что в них как бы и не сказано: при переводе на язык семантического представления (а значит, в общем случае, и при переводе на другой язык - по крайней мере, в рамках обсуждаемой модели) все эти смыслы приобретают равную определенность. Между тем «национальная специфичность» слова чаще всего определяется специфичностью присутствующих в нем неявных смыслов; она заключена в тех бесплотных и трудноуловимых смысловых элементах, которые передаются подспудно как нечто самоочевидное. К таким смыслам в русском языке относится компонент как бы само собой в рассмотренных нами глаголах, описывающих целенаправленную деятельность человека. Слова, содержащие такого рода смысловые компоненты, труднее всего перевести: при переводе то, что должно читаться между строк, приобретает тяжесть и определенность, которые все меняют.
То, что слово не равно сумме содержащихся в нем смыслов, можно проиллюстрировать следующим отрывком из «Анны Карениной»:
Если бы Стиве просто кто-то сказал, что все будет хорошо и что это произойдет в результате естественного хода вещей, постепенно и незаметно (что есть своего рода экспликация слова образуется), то он вряд ли бы поверил. Силой убеждения здесь обладает само слово образуется (ср. в последней реплике «хорошо словечко») - благодаря тому, что в нем все эти элементы смысла выражены одновременно и нерасчлененно. Это, с одной стороны, дает человеку уже готовую, апробированную опытом других людей (закрепленную в слове) и тем самым вызывающую определенное доверие концептуальную конфигурацию; с другой стороны, из-за того, что элементы смысла здесь столь тесно спаяны друг с другом и столь неотчетливы сами по себе, что человеку трудно «ухватить» какой-либо один из них, чтобы подвергнуть его сомнению.
Набор семантических признаков как способ отражения диффузности значения приставки
Однако это не совсем так. Как справедливо отмечается в работе [Janda 1986: 19] классификация приставочных глаголов является более трудной задачей, чем это кажется на первый взгляд, так как существует множество глаголов, которые нельзя с определенностью отнести к какому-то одному классу. Например, глагол заболеть: относится он к категории change of state или inchoative ? Заплесневеть: covering или change of state ? В дальнейшем Л. Янда называет такие глаголы «multiply motivated».
Принадлежность одного глагола сразу к нескольким категориям (т.е. классам, образуемым значениями приставки) является, на наш взгляд, принципиальным обстоятельством, определяющим семантику приставочных глаголов. Наше главное утверждение состоит в том, что: значения приставки, реализующиеся в приставочных глаголах, не должны задавать разбиения множества глаголов с данной приставкой на непересекающиеся классы.
Позитивная сторона этого тезиса состоит в следующем. Каждой приставке может быть сопоставлен набор семантических признаков. Каждый глагол с данной приставкой (или его отдельное значение, если глагол многозначный) характеризуется одним или несколькими признаками из набора, соответствующего данной приставке. Если в глаголе представлен лишь один семантический признак, то значение приставки совпадает с названием признака (например, FIX «фиксировать», или DAMAGE «причинить ущерб»), а данный глагол попадает в «чистый» семантический класс (с тем же названием). Если же в глаголе реализуется одновременно несколько семантических признаков приставки, это значит, что значение приставки здесь является сложным, а сам глагол попадает в «смешанный» семантический класс, формируемый данной комбинацией семантических признаков приставки6. Так, например, в засыпать яму песком у ЗА имеется два семантических признака: FILL «наполнить» и ANNIHIL «уничтожить»; каждый из них в качестве единственного мы находим, например, в глаголах заселить дом жильцами и застирать пятно . При этом, чем больше семантических признаков реализуется в значении данного приставочного глагола, тем менее отчетливым оказывается семантический вклад приставки в значение глагола в целом и, соответственно, тем менее лингвистически интересной становится задача его вычленения. Поэтому и оказывается, что если определение значения приставки вызывает затруднение, то это скорее всего означает, что оно не имеет смысла.
Такой подход моделирует следующее устройство семантики приставок: в значении каждой приставки имеются «дискретные» области (дискретность которых обязана их противопоставленности другим дискретным областям) и «диффузные» области, границы между которыми носят градуальный характер. Признание наличия в одном глаголе сразу нескольких семантических признаков есть способ отразить эту реальную диффузность значения. Кроме того, такой способ представления позволяет установить степень сходства между двумя диффузными значениями.
Осталось установить количество и состав этих семантических признаков для каждой приставки. Эта процедура больше всего напоминает задачу воспроизведения картины, написанной красками, средствами мозаики: сколько и какие цвета нужно выбрать, и какого размера камешки использовать, чтобы достаточно точно передать все имеющиеся в данной картине цвета и оттенки? Очевидно, что это можно сделать несколькими способами, различающимися как размером элементов мозаики (и, соответственно, их количеством), так и набором цветов: так, можно взять желтые, оранжевые и красные камешки среднего размера, а можно обойтись лишь желтыми и красными, уменьшив размер частиц и смешивая их в нужной пропорции; можно не брать зеленый цвет, используя вместо него сочетание желтого с голубым, но зато, возможно, придется взять дополнительный коричневый, который в наборе, где есть зеленый, может быть заменен сочетанием зеленого с красным, и т.д.
Предлагаемый ниже набор семантических признаков приставки ЗА составлен, в основном, из значений этой приставки, обсуждавшихся в литературе (см. [Boguslawski 1963], [Головин 1964], [Грамматика-70: 259], [Грамматика-80: 360], [Levin 1984: 165], [Janda 1986], [Guiraud-Weber 1988а], [Paillard 1991], [Keller 1992]). Окончательным критерием выбора состава этих признаков является возможность с его помощью представить значение глаголов с данной приставкой таким способом, чтобы это не противоречило естественной лингвистической интуиции (тем самым, как и в случае с мозаикой, здесь в принципе могут быть равно приемлемыми различные решения). Хотя это требование кажется естественным и одновременно не слишком строгим, ни в одном из существующих описаний оно не выполнено: напомним, что речь идет об интерпретации не нескольких десятков глаголов, привлекших внимание исследователя, а, вообще говоря, всех русских глаголов с данной приставкой.
При установлении набора семантических признаков мы пользовались одним квазиоперациональным критерием, который основан на предположении, что область наиболее очевидного противопоставления значений приставки - это полисемичный приставочный глагол. Действительно, в некотором смысле тот же глагол, но с другим значением приставки - это другой глагол: так, неологизм, созданный ad hoc, может оказаться омонимом к уже существующему глаголу, где приставка имеет другое значение, И этот «старый» глагол оказывается связан с «новым» ничуть не более тесно, чем глагол с другой приставкой; по крайней мере, «старый» глагол никак не используется ни при порождении, ни при понимании таких неологизмов. Например:
Члены движения «Память» приняли эти слова на свой счет и захлопали конец речи вице-президента (из газет). Глагол захлопать здесь образован с использованием приставки ЗА в значении, представленном, например, в глаголах заштопать дырку застирать пятно , замолить грех , замолчать факт . В существующем в русском языке глаголе захлопать представлено другое значение приставки ЗА - «начинательное».
Дело в том, что хотя наличие дополнительного распределения является аргументом для трактовки соответствующих двух единиц как реализаций некоторой одной сущности (в данном случае имеется в виду распределение значений приставки по глаголам или их значениям), в языковом сознании скорее наоборот, существование дополнительного распределения для некоторых двух семантических сущностей является основанием для их противопоставления. Так, у ряда русских приставок имеется два значения, которые дополнительно распределены между двумя сериями глаголов движения, а именно, одно из них сочетается только с глаголами определенного движения (типа идти), а другое -только с глаголами неопределенного движения (типа ходить). Ср.: зайти в комнату „ несов. заходить и заходить по комнате начать ходить . При этом, хотя различие между двумя заходить определяется деривационной историей глагола (соответственно, имперфективация приставочного глагола определенного движения или префиксация глагола неопределенного движения), значение приставки является в некотором смысле главным, что их различает. Так, именно оно используется в учебниках русского языка при формулировке правила определения вида для таких глаголов (несов. вид, если приставка имеет пространственное значение и сов. вид, если она имеет временное значение). Ср. также работу [Кронгауз 1993], где на основании сочетаемости глагола с разными значениями приставок производится анализ семантики исходного глагола (тем самым наличие дополнительного распределение рассматривается как основание для различения, а не отождествления значений).