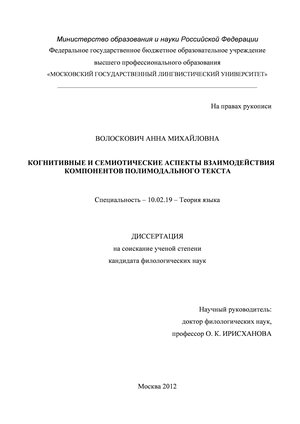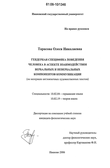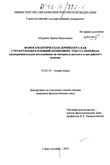Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Понятия полимодальности и иконотекста: теоретические предпосылки исследования
1.1. Полимодальность в лингвосемиотике и смежных науках 9
1.1.1. Полимодальность, синкретизм, гибридный текст 9
1.1.2. Полимодальность в постструктурализме. Интертекст 15
1.1.3. Полимодальность в социальной семиотике и психологии 21
1.1.4. Изучение полимодальных текстов в лингвистике. Иконотекст
1.2. Взаимодействие вербального и графического знаков в рамках иконотекста
1.2.1. Типы знаков как отражение разнообразия актов семиозиса в иконотексте
1.2.2. Соотношение иконичности и символичности в когнитивных исследованиях
1.2.3. Процессы концептуальной гибридизации в иконотекстах 61
Выводы к первой главе 68
Глава 2. Полимодальная гибридизация в различных типах текста 72
2.1. Инструкции 72
2.2. Газетно-публицистические статьи 88
2.3. Искусствоведческие комментарии к произведениям живописи 117
Выводы ко второй главе 154
Заключение 160
Список использованной литературы 166
Список используемых Интернет-ресурсов 185
Список источников 186
- Полимодальность, синкретизм, гибридный текст
- Типы знаков как отражение разнообразия актов семиозиса в иконотексте
- Газетно-публицистические статьи
- Искусствоведческие комментарии к произведениям живописи
Введение к работе
Актуальность обращения к семиотически гибридным текстам обусловлена устойчивым вниманием лингвистов к полимодальным видам коммуникации, во многом связанным с постструктуралистским и постмодернистским «поворотом» в лингвистике XX века. Кроме того, в последние годы в связи с развитием новых мультимедийных технологий наблюдается всплеск интереса к семиотической гетерогенности как в науке о языке, так и за ее пределами. Вместе с тем, несмотря на активное изучение полимодальности в лингвистике, анализ взаимовлияния знаковых систем при формировании значения в тексте остается одной из проблем лингвистического описания из-за недостаточной методологической согласованности различных школ, в том числе семиотических и когнитивных направлений. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение семиотической полимодальности с учетом достижений когнитивной семантики, предложившей различные способы описания семантических взаимодействий в языке.
Лингвокогнитивное исследование взаимодействия вербального и графического компонентов в иконотекстах разных типов позволяет представить взаимную адаптацию данных компонентов как действие когнитивных механизмов концептуальной интеграции и выявить особенности процессов иконизации и символизации в иконотексте как на концептуальном, так и на формально- языковом уровнях.
Объектом исследования является иконотекст как единство вербального и невербального (графического) компонентов.
В качестве предмета исследования выступают особенности и языковые средства взаимной семиотической адаптации компонентов иконотекста в разных типах соответствующих полимодальных текстов.
В основу настоящей работы положена следующая гипотеза, взаимодействие вербального и графического знаковых комплексов в иконотексте предполагает их взаимную адаптацию, т. е. двусторонний перенос семиотических свойств с одного комплекса на другой; при этом вербальный компонент, вне зависимости от характера и роли изображения, подвергается иконизации, т. е. начинает «уподобляться» графическому компоненту. Данные процессы, обусловливающие интерпретацию иконотекста, зависят от жанровых особенностей полимодального текста.
Цель диссертации - исследовать взаимодействие вербального и невербального компонентов иконотекстов разных типов в лингвокогнитивном и лингвосемиотическом аспектах, уделяя особое внимание организации вербального знакового комплекса.
В процессе работы были поставлены следующие конкретные задачи:
проанализировать существующие подходы к исследованию иконотекста, уточнив понятия семиотической полимодальности и семиотической гибридизации;
рассмотреть соотношение понятий иконичности и символичности в современной лингвистике;
описать особенности взаимодействия вербального и графического компонентов иконотекста с точки зрения процессов концептуальной интеграции;
установить связь между характером концептуальной интеграции и особенностями иконизации (типами иконичности) в инструкциях, газетно- публицистических статьях и искусствоведческих комментариях к произведениям живописи;
выявить основные тенденции взаимовлияния вербального текста и изображения в данных типах иконотекста и систематизировать языковые средства, реализующие адаптацию вербального компонента к графическому компоненту.
Для решения поставленных в диссертации задач использовались следующие методы: общенаучный описательный метод с его основными компонентами: наблюдением, интерпретацией и обобщением; лингвистические и лингвокогнитивные методы контекстуального анализа, построения ментальных пространств, концептуального анализа семантики языковых единиц.
Методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных исследователей в области общей семиотики: Р. Барта, М. М. Бахтина, М. Жоли, Г. К. Косикова, Ю. Кристевой, И. Лангле, Ю. М. Лотмана, М. Б. Мечковской, Ч. Морриса, Ч. С. Пирса, Дж. Сонессона, Ю. С. Степанова, Ж. А. У. Хеффернана, У. Эко; в когнитивной лингвистике: В. З. Демьянкова, В. И. Заботкиной, О. К. Ирисхановой, Е. С. Кубряковой, С. Кулсон, Р. Лэнекера, Т. Оукли, М. Тернера, Ж. Фоконье; в области семиотики синтаксиса, полимодальности текста, семиотической гибридизации: Е. Е. Анисимовой, Д. Будор, Т. ван Левена, И. В. Вашуниной, М. Б. Ворошиловой, А. Ж. Греймаса, Т. Гивона, О. К. Ирисхановой, А. Е. Кибрика, Г. Кресса, Ж. Куртеса, Л. Лувела, Ф. Мантандона, В. И. Михалковича, Е. Табаковской, К. Я. Сигала, Ю. А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова, Дж. Хаймана, О. Фишер, Ф. Унгерера, Р. О. Якобсона.
Научная новизна работы заключается в следующем:
впервые взаимодействие графического и вербального компонентов в иконотексте анализируется с учетом когнитивных процессов концептуальной интеграции;
впервые в ходе лингвокогнитивного исследования семиотически гибридного текста анализируются такие типы русско- и англоязычных иконотекстов, как инструкции, газетно-публицистические статьи и искусствоведческие комментарии к произведениям живописи;
впервые выявляются и систематизируются языковые средства (фонетические, лексические, синтаксические и др.), реализующие взаимную адаптацию семиотически разнородных компонентов гибридного текста через иконизацию;
впервые показана зависимость типа иконичности вербального текста от характера процессов концептуальной интеграции в иконотексте.
Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейшем развитии когнитивной теории языка с семиотических позиций; в уточнении понятий семиотической гибридности и иконотекста, иконичности и символичности, иконизации и символизации; в дальнейшей разработке методов когнитивного анализа дискурса, совмещающего свойства графической и вербальной знаковых систем.
Практическая ценность работы заключается в возможности применять результаты исследования в лекционных курсах и семинарских занятиях по общему языкознанию, лингвосемиотике, когнитивной семантике, теории коммуникации, лингвистике текста, анализу дискурса, а также в практике преподавания родного и иностранных языков.
Достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных на их основе выводов обеспечивается репрезентативной выборкой использованного в ходе исследования языкового материала из корпусов русско- и англоязычных текстов, а также применением методов, адекватных поставленной цели.
Материалом исследования служат современные русско- и англоязычные тексты инструкций, газетных статей и искусствоведческих комментариев к произведениям живописи, в которых реализуются разные типы взаимодействия графического и вербального знаковых комплексов. В работе проанализированы русско- и англоязычные корпуса текстов общим объемом 1 187 000 словоупотреблений (общее количество текстов 2853) Из них англоязычные тексты объемом 570 000 словоупотреблений (1 440 текстов: 170 инструкций, 650 газетно-публицистических статей, 620 искусствоведческих комментариев) и русскоязычные тексты объемом 617 000 словоупотреблений (1 413 текстов: 200 инструкций, 573 газетно-публицистические статьи, 640 искусствоведческих комментариев).
На защиту выносятся следующие положения:
Взаимодействуя в пространстве полимодального текста
(иконотекста), его компоненты, относящиеся к различным знаковым системам - вербальной и графической, влияют на семиотические свойства друг друга.
Процессы взаимной адаптации находят отражение в формально-структурной и содержательной организации вербального текста, который подвергается иконизации вне зависимости от степени символичности или иконичности изображения и его роли в иконотексте.
-
Порождение новых смыслов при интерпретации различных типов иконотекстов (инструкций, газетно-публицистических статей и искусствоведческих комментариев к произведениям живописи) является результатом действия процесса концептуальной интеграции как когнитивной способности человека создавать новые структуры знания из нескольких заданных структур.
-
Существует зависимость между механизмами концептуальной интеграции (типами блендов) в иконотексте и типами иконичности, наблюдаемыми в вербальном компоненте. Так, образование блендов путем дополнения и сложения сопровождает индексальную иконизацию вербального текста. Механизм концептуального наращивания приводит к появлению в тексте базовых типов иконичности, таких как иконичность релевантности, локативная (отражающая место события, изображенного на иллюстрации) и диаграмматическая (отражающая отношения между предметами, движение взгляда зрителя/читателя) иконичность.
-
Иконичность вербального компонента, находящегося под влиянием графического изображения, проявляется на разных уровнях вербального текста - фонетическом, лексическом, синтаксическом, а также в структурной организации всего текста.
-
В результате иконизации вербального текста не только меняются его семиотические свойства, но и происходит взаимная адаптация обоих компонентов иконотекста. Вербальный текст, сближаясь в семиотическом плане с изображением, может дополнять интерпретацию последнего новыми инференциями, непосредственно не связанными с сюжетом, структурными и иными характеристиками иллюстрации, что приводит к символизации графического компонента.
Апробация работы: основные положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры общего и сравнительного языкознания и лаборатории гендерных исследований МГЛУ в 2009-2012 годах, а также получили отражение в ряде публикаций автора. Результаты работы были представлены на следующих конференциях: "Langage et signification. L'ambiguite dans le discours et dans les arts" (Университет Тулузы, Universite Toulouse II - Le Mirail, Франция, 11-14 июля 2011); "Cognition, Conduct & Communication" (University of Lodz, Польша, 06-08 октября 2011); «Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: теория и практика» (МГЛУ, Москва, 27-28 октября 2011); «Дискурс как социальная деятельность: приоритеты и перспективы» (МГЛУ, Москва, 17-18 ноября 2011).
Исследование проведено в рамках проекта «Семиотическая теория языкового творчества» по аналитической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009 - 2011 гг.).
Структура диссертации определяется спецификой ее целей, задач и методов. Работа объемом 188 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического перечня (278 наименований).
Полимодальность, синкретизм, гибридный текст
В вербальную коммуникацию, как известно, вовлекаются различные сферы семиозиса и разные по своей природе знаки: языковые знаки и жесты, тексты и изображения, тексты и знаки музыки и т. д. Именно поэтому семиологи нередко говорят о принципиальной полимодальности процессов формирования языкового значения.
Термин «полимодальность», появившийся в результате слияния греческого polus и латинского modus, самим актом своего возникновения свидетельствует о склонности человека смешивать разные семиотические коды в пространстве языка. И хотя в лингвистике данный термин довольно долгое время употреблялся в узком грамматическом значении - как свойство грамматической формы или категории выражать отношения действия или состояния к действительности, его современное использование сохраняет изначально широкую семиотическую трактовку. Когнитивная лингвистика, в рамках которой выполнено настоящее исследование, наследует подобное понимание и рассматривает полимодальность как способность разнородных знаков взаимодействовать в вербальной коммуникации как на когнитивном, так и на формально-структурном уровнях, и влиять на семиотические свойства друг друга, порождая новые смыслы в тексте.
Первые самостоятельные семиотические теории полимодальности возникли в начале XX века. В них полимодальность как недифференцируемое переплетение знаковых систем изучалась в рамках теории искусства при анализе синкретизма различных художественных жанров (А. М. Веселовский, Г. В. Плеханов, Н. Я. Марр). В общем плане синкретизм (лат. syncretismus — соединение обществ) означает «сочетание или слияние несовместимых и несопоставимых образов мышления и взглядов, а также их согласованность и единство» (http://www.rubricon.com/fes_l.asp). Синкретизм — это древнейший принцип восприятия действительности, отношения человека к самому себе и окружающему его социуму. Он характеризуется нерасчлененностью, невычлененностью модальностей (то есть полимодальностью), отсутствием «понимания отличия мира и явлений от логических дуальных оппозиций при одновременном полном произволе в истолковании явлений, например, соотнесение их с тем или другим полюсом оппозиции на основе принципа все во всем» (Ахиезер 1998, с. 45).
Чаще всего термин синкретизм применяется к области искусства, к фактам исторического развития музыки, танца, драмы и поэзии, особенно в первобытную эпоху. Под синкретизмом первобытного искусства обычно понимают слитность, нерасчлененность в нем основных форм художественного творчества - изобразительного искусства, драмы, музыки, пляски и т. д. (то есть сочетание различных семиотических кодов). По мнению В. Кабо, «в первобытном обществе каждый человек одновременно и художник, и зритель» (Кабо 1969, с. 105).
В определении А. Н. Веселовского, который изучает явления синкретизма с целью уяснения путей дифференциации поэтических родов, синкретизм — это «сочетание рифмованных, орхестических движений с песней-музыкой и элементами слова» (http://az.lib.ru/w/weselowskij_a_ n/tex OOSO.shtml)1.
Иное освещение синкретизм получает в трудах основоположника яфетической теории — академика Н. Я. Марра. Признавая древнейшей формой человеческой речи язык движений и жестов («ручной или линейный язык»), Н. Я. Марр связывает происхождение звуковой речи, как и трёх искусств: народного танца, пения и музыки, — с магическими действиями, считавшимися необходимыми для успеха производства и сопровождавшими тот или иной коллективный трудовой процесс (Марр 1933). Так, в концепции Н. Я. Марра синкретизм приобретает практическое измерение, описывая определённый период в развитии человеческого общества, форм производства и первобытного мышления.
Концепции А. Н. Веселовского, Н. Я. Марра, В. Г. Плеханова и др. о неразделенности первобытного искусства, связанной с мифологичностью мышления человека, безусловно, вносят значительный вклад в изучение семиотической полимодальности как взаимодействия различных знаковых систем, однако вербальный язык остается вне поля зрения ученых. В этом, как мы продемонстрируем далее, семиологи, изучающие данное явление в контексте синкретизма, схожи с постструктуралистами, анализирующими взаимовлияние различных «языков культуры», но нередко оставляющими за пределами своего внимания их связь с естественным (вербальным) языком.
Отметим, однако, что термин «синкретизм» стал широко употребляться также в лингвистике (В. А. Богородицкий, В. В. Виноградов, Л. Ельмслев, Д. Н. Шмелев, И. С. Улухонов, А. А. Уфимцева, С. Г. Ильенко и др.), обозначая «совмещение (синтез) дифференциальных структурных и семантических признаков языковых единиц (некоторых разрядов слов, значений, предложений, членов предложения и др.), противопоставленных друг другу в системе языка и связанных явлениями переходности. Это разного рода гибридные (контаминационные, промежуточные, диффузные) образования» (Большой энциклопедический словарь под редакцией В. Н. Ярцевой, 1:446). Синкретизм здесь - функциональное объединение разных форм выражения, нейтрализация противопоставлений (оппозиций), совпадение означающих при различении означаемых. Как мы видим, при таком понимании синкретизм связан с понятием полимодальности, но не является тождественным ему. Полимодальность ставит акцент на изучении знаков разной природы, различных семиотических кодов, в то время как о синкретизме в языке говорят как о снятии оппозиции между различными формами выражения.
Типы знаков как отражение разнообразия актов семиозиса в иконотексте
В основе классификации знаков лежит известная концепция Ч. С. Пирса, согласно которой выделяются три основных класса знаков — знаки-индексы, знаки-копии (или знаки-иконы) и знаки-символы, которые отражают три ступени семиозиса. В знаках-индексах связь означающего и означаемого мотивирована их естественной смежностью (соприкосновением или пересечением), при которой означающее является частью означаемого. По мнению Ч. С. Пирса, «индекс есть знак, отсылающий к Объекту, который он денотирует, находясь под реальным влиянием (being really affected by) этого Объекта» (Пирс 2000, с. 90; 59). Отношения смежности, пересечения в одной ситуации двух означающих лежат в основе метонимии, поэтому мотивированность означающего означаемым в знаках-индексах правомерно характеризовать как метонимическую.
В знаках-копиях (варианты термина: знаки-иконы, или иконические знаки) связь означающего и означаемого мотивирована сходством, подобием между ними. Сам Ч. С. Пирс полагает, что иконические знаки во многом уступают знакам-индексам (они в работе Ч. С. Пирса занимают центральное место), так как не могут передавать большой объем информации: «Собственная Интерпретанта Иконического знака не может репрезентировать его как Индекс, поскольку Индекс по самой своей природе более сложен, нежели Иконический знак. Поэтому среди Иконических знаков не может быть информационных знаков» (Пирс 2001, с. 169). В настоящее время в результате расширения понятия иконичности иконическим знакам приписывается более существенная роль в языке и, как будет показано далее; данный тип знаков выполняет важную функцию в построении значения в тексте.
С точки зрения Ч. С. Пирса, иконический знак - это знак, который обладает рядом свойств, присущих обозначаемому им объекту, "независимо от того, существует ли этот объект в действительности или нет" (Пирс 2001, с. 167). Отношения между знаком и объектом - это отношения подобия, а знак оказывается знаком просто в силу того, что ему «случилось быть похожим» на свой объект. Ч. Пирс выделяет несколько разновидностей иконического знака (http://www.niv.ru/doc/philosophy/encyclopedia-post-modern/156.htm): образы (или изображения), в которых означающие похожи на означаемые на денотативном (фотографии, скульптура, живопись) и на коннотативном уровне (например, в случае отражения ощущений, вызванных музыкальными произведениями); метафоры, в которых означаемое и означающее организованы по принципу параллелизма между знаком и объектом; диаграммы, схемы, чертежи и другие виды «нефигуральных» изображений, которые, по мнению Ч. С. Пирса, не обязательно должны быть похожи на свой объект, но должны отражать отношения между частями означаемого (как, например, в математике).12 В отличие от знаков-индексов, в которых мотивированность означающего означаемым носит метонимический характер, мотивированность знаков-копий основана на подобии, сходстве означающего с означаемым, т. е. носит метафорический характер.
По мнению Ч. С. Пирса, в знаках-символах мотивированность связи данного означающего с данным означаемым практически отсутствует (Пирс 2001). Как можно заметить, знак и денотат могут обладать разной степенью подобия, что позволяет семиологам говорить о большей или меньшей степе ни иконичности. Последователь Ч. С. Пирса, Ч. Моррис, говорит о наличии континуума иконичности, в котором осуществляется плавный переход от иконических знаков, подобных своим объектам, к совершенно арбитрарным «знакам-символам» через создание промежуточных форм.
Итак, при переходе от икон к символам условность (конвенциональность) знака возрастает. Наименьшая степень условности характерна для знаков-индексов, наибольшая — для знаков-символов. Сам Ч. С. Пирс осознавал град у а л ь н ы й характер оппозиции знаков-индексов, икон и символов и указывал на двойственные ипереходные случаи между основными классами знаков.
Данные различия в семиотических свойствах знаков важны для интерпретации свойств и роли вербального и графического знаковых комплексов в иконотексте.
Изображение выступает в паралингвистическом аспекте в качестве самостоятельного носителя информации, обладает определенной семантикой, и, хотя может в известной степени рассматриваться как эквивалент вербального знака, не совпадает с ним по свойствам. Словесный язык занимает среди других знаковых систем особое, исключительное положение, ибо, как пишет Э. Бенвенист, «знаки, имеющие хождение в обществе, могут быть полностью интерпретированы посредством знаков языка, но не наоборот» (Бенвенист 1974, с. 78). Поэтому в отношении других знаков словесный язык является, по Э. Бенвенисту, интерпретирующей системой. Для пользующегося языком она представляется чем-то первичным, некой основой всего знакового многообразия. Слово определяется семиологами как знак-символ, изображение — как знак-икона. В отличие от иконических знаков, которые, напомним, служат знаком «просто потому, что им случилось быть похожим на свой объект», символ осуществляет свои знаковые функции «независимо от какого-либо сходства или аналогии со своим объектом и равным образом независимо от какой-либо фактической связи с ним» (Михалкович 1986, с. 10). Однако некоторые лингвисты приписывают символические свойства изображению. В. А. Колеватов, в частности, отмечает, что «изображение стремится под воздействием речи к символической дискретности, когда, например, картина распадается на отдельные символические фигуры и ее восприятие приближается к восприятию рассказа» (Колеватов 1984, с. 123)13. В рамках рассмотрения иконотекстов исследователи также предлагают способ анализа рисунка, основанный на понятии фигур. При этом они обращаются к вопросу о соединении фигур в рисунке - своего рода «изобразительной грамматике». Следовательно, становится очевидным, что анализ рисунка часто происходит так же, как анализ вербального языка. М. Торговник пишет, что при чтении книги, так же как при «чтении» картины, задействуются одинаковые механизмы интерпретации: «Когнитивные лингвисты опровергли тот факт, что чтение книги и восприятие картины представляют собой два различных умственных процесса. Они доказали, что восприятие изображения не всегда происходит симультанно, а восприятие слов последовательно» (Torgovnik 1985, p. ЗО). Данную точку зрения разделяют отечественные лингвисты-семиологи. В. А. Колеватов пишет о том, что: «любое созданное непосредственно человеком изображение абстрактно, ибо оно обозначает отвлеченные выделенные человеком свойства объекта. В этой своей функции изображение не отличается от слова. Как слова, так и изображение могут выражать понятия разной степени абстрактности» (Колеватов 1984, с. 112). По мнению В. И. Михалковича, в реальной коммуникации изображение «становится своего рода текстом — совокупностью материальных понятий и представлений, сумма которых и есть идеальный образ» (Михалкович 1986, с. 14). Изобразительный язык схож со словесным еще в одном своем свойстве - гибкости. Проявлением этой гибкости служит синонимия. Изобразительный язык, также как словесный, является высоко синонимичным, что ведет к «лавине интерпретаций» (Лотман 1986, с. 107) и позволяет осуществлять творческие акты.
Газетно-публицистические статьи
Для более полного освещения процессов концептуальной интеграции и их влияния на тип взаимодействия вербального и графического знака мы выбрали для анализа не только иконотексты с фотографиями, на которых изображены реальные события, но и статьи с авторским рисунком.
Осознавая тот факт, что некоторые изображения в газетно-публицистических текстах являются более поздними включениями в иконотекст, нежели сам вербальный текст, и не всегда подбираются автором текста, мы бы хотели подчеркнуть, что в данной работе внимание сосредоточено не на последовательности включения изображения и текста в иконотекст, а на их соотнесенности при его интерпретации. Предполагается, что при восприятии иконотекста читатель воспринимает текст и изображение как единое целое не зависимо от очередности их включения в иконотекст и, следовательно, устанавливает корреляции между этими двумя семиотическими системами на разных уровнях иконотекста. Выявленные тенденции взаимодействия вербального и графического знаковых комплексов проявились во всех анализированных газетно-публицистических иконотекстах (650 англоязычных и 573 русскоязычных). Анализ некоторых из них приведен ниже. Данная статья, опубликованная на сайте газеты «Коммерсант», представляет собой распространенный случай взаимодействия иллюстрации и вербального текста в публицистическом дискурсе. В иконотекстах данного типа иллюстрации наиболее часто выполняют функцию предоставления информации. Она либо конкретизирует текст (например, визуализируя место проведения действия или представляя участников), либо сопровождает вербальный компонент дополнительными сведениями о фактах, которые имеют отношение к основным событиям, описываемым в тексте. В анализируемой статье фотография тематически связана с текстом, однако изображает некое отдельное событие, которое не получает непосредственной вербализации в текстовой части. Концептуальную интеграцию вербального и графического компонентов представим следующим образом :
Смешанное пространство в данном примере создается в результате включения фреймов и элементов из обоих вводных пространств - текста и изображения. Заметим, что фрейм вводного пространства изображения, «пожар», связан устойчивыми ассоциациями с более широким общим пространством «беспорядки», и его встраивание в бленд не требует сложных инференций от интерпретатора.
Результат процесса концептуальной интеграции представляет собой совокупность фреймов и элементов двух вводных ментальных пространств, не осложненную комплексными инференциями, что применительно к данному примеру позволяет говорить о сложении (composition) как об основном механизме концептуального слияния. В отличие от инструкций, где изображение существует в неделимой связи с текстом и участвует в процессе метонимического дополнения, при анализе некоторых газетно-публицистических текстов и комментариев к произведениям живописи мы, вслед за Ж. Фоконье и М. Тернером, особо выделяем механизм концептуального сложения. При сложении в бленд заимствуются как фрейм текстового пространства, так и фрейм пространства изображения, в отличие от метонимического дополнения, при котором бленд структурируется фреймом из одного вводного пространства - в основном, пространства текста. В газетно-публицистических статьях концептуальная интеграция приводит к необходимости выстраивать дополнительные инференций, которые в иконотекстах инструкций минимальны вследствие непосредственной структурной и содержательной смежности (индексальности) компонентов иконотекста.
Искусствоведческие комментарии к произведениям живописи
При изучении особенностей иконотекстов представляется необходимым проанализировать искусствоведческие комментарии к картинам различных художников. Анализ более 1200 иконотекстов данного типа позволил выделить следующие закономерности. В отличие от газетно-публицистических статей, здесь центральную роль играет произведение живописи, а сам текст существует лишь благодаря ей - как способ «прочтения» произведения изобразительного искусства. Искусствоведческий комментарий обычно содержит информацию об истории создания картины, о ее композиции, интерпретирует ее символику, раскрывает индивидуальный замысел художника. Несмотря на то, что вербальный текст в данном типе гибрида построен «вслед за» картиной, его иконичность носит иной характер по сравнению с инструкциями, в которых, как было продемонстрировано ранее, вербальный текст также может подчиняться изображению как в содержательном, так и в структурно-формальном плане.
Как правило, в текстах-комментариях иконичной является лишь та часть, которая непосредственно описывает композицию и персонажей картины, в то время как информация об истории создания картины или жизни художника является отступлением от принципа иконичности. Тем не менее, как в любом типе иконотекста, взаимовлияние текста и изображения в искусствоведческих комментариях очевидно. Тип взаимоотношений зависит от характера картины и имеет свои особенности в каждом отдельном случае. Если в газетно-публицистических статьях иконизация текста проявлялась при его интерпретации и относилась к функциональным свойствам знаков, в искусствоведческих комментариях речь может идти не только о функциональной иконизации, но и об онтологической иконичности текста по отношению к изображению, которое является первичным по отношению к тексту в данном типе иконотекстов. В любом случае иконические проекции между вербальным и графическом знаком могут быть установлены на всех уровнях иконотекста. Рассмотрим анализ данного типа текстов на материале комментариев к реалистическим произведениям живописи. Первый искусствоведческий комментарий представляет собой анализ картины А. А. Дейнеки «Оборона
В картине даны скупые, но впечатляющие индивидуальные характеристики уходящих на фронт. При этом художник в образах рабочих и работниц прежде всего выявляет черты непреклонной решимости, беззаветного мужества и патриотизма. Сдержанный, скупой в оттенках колорит картины, строгий ритм повторяющихся линий, четкость силуэтов - все это усиливает эмоциональную действенность художественного образа, сообщает полотну монументальную значительность и внутреннюю силу. Глубокое осознание художником темы народа, родины, духа революционного времени явилось источником подлинного новаторства. Рассказывая о работе над этой картиной, Дейнека подчеркивал: «Всем построением картины, ритмом ее хотелось добиться впечатления воли, мужества и тяжелых страданий. Я боялся чем-либо разбить ритм, которого добивался, и поэтому отказался о т многих бытовых деталей, присутствующих в первом эскизе. Мне фигуры на снегу всегда представляются в виде силуэта. Но я все-таки стремился моделировать их объемно, скупым цветом создать портретные характеристики людей, идущих на защиту Петрограда, придать им конкретные черты знакомых бойцов, с которыми встречался в гражданскую, отстаивая власть Советов. Хотелось передать их духовное величие - спокойный шаг людей, идущих на подвиг» (Парамонов, Червонная 1981).
Представляется, что данный иконотекст являет собой пример иконического влияния картины на текст при ограниченном символическом влиянии последнего на изображение. Символическое влияние текста на изображение проявляется здесь в основном в частичной символизации его восприятия. Даже если при первоначальном взгляде на картину зритель уже до определенной степени осознает ее смысл, текст, тем не менее, позволяет глубже осознать понимание символики художника. Следовательно, после чтения текста восприятие картины несколько меняется, приобретая дополнительное символическое измерение. Картина же, как и в других проанализированных нами выше примерах, приводит к иконизации текста. Анализ процессов концептуальной интеграции показывает, что в различных искусствоведческих иконотекстах характер и направление этих процессов во многом совпадают. Пространство текста в основном репрезентирует композицию картины, а ментальное пространство картины - то, что непосредственно на ней изображено. Итак, схема концептуального слияния в анализируемом иконотексте может быть изображена следующим образом:
Приведенная выше схема является типичной для искусствоведческих иконотекстов. В процессе концептуальной интеграции участвуют два вводных пространства, отражающих содержание текста и картины. Пространство вербального текста, представляющего собой комментарий к картине, организовано фреймом [анализ картины]. В нем разбирается ее денотативный (ее композиция) и коннотативный смысл (героизм изображенных на ней людей).
В вводном пространстве картины репрезентируются объекты, изображенные на ней. Актантами этого пространства являются воины, идущие защищать Петроград, и раненые солдаты, которые возвращаются с фронта. За их фигурами зритель может различить заснеженные очертания Невы и самого города, соответствующие в ментальном пространстве картины единому понятию «Петроград». Данное вводное пространство структурируется фреймом [композиция картины].
В бленде происходит сложение двух вводных ментальных пространств, при котором информация из них в полной мере заимствуется в бленд. Это происходит потому, что иллюстрация, как и текст, передают в этом случае денотативный и коннотативный смысл, следовательно, концептуальная интеграция не приводит здесь к появлению множества комплексных инференций, характерных для концептуального наращивания. При этом информация обоих ментальных пространств, участвующих в процессе сложения, является одинаково релевантной и ни один элемент не может быть исключен из процесса концептуальной интеграции.