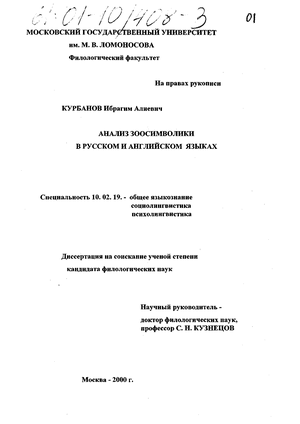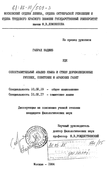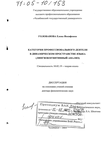Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Условно-символическая номинация как особый тип образной номинации 15
1. К вопросу об ономасиологической типологии номинаций 15
1.1. Иерархическая типология номинаций и предмет ономасиологии 17
1.2. Типология номинаций "от номинатора" 25
1.3. Типология номинаций "от объекта" 31
1.4. Технические средства номинации и типология 36
2. Определение образной номинации 38
3. Специфика условно-символической номинации 59
ГЛАВА II. Природа лингвистического зоосимвола 70
1. История изучения символов в лингвистике 70
2. Эволюционная система зоосимволов 83
3. Генеративные свойства анималистической лексики 95
2.3.1. Ассоциативные свойства * 95
2.3.2. Коннотативные ассоциации 100
2.3.3. Метафорические и метонимические ассоциации 106
ГЛАВА III Национально-культурная специфика анималистической лексики (зоосимволов) 115
1. Культурно-национальная коннотация как способ воплощения культуры в языковой знак 115
2. Национально-специфические особенности зоосимволов русского и английского языков.. 120
Заключение 173
Список сокращений 177
Список литературы 179
Приложения и таблицы:
- К вопросу об ономасиологической типологии номинаций
- Определение образной номинации
- История изучения символов в лингвистике
- Культурно-национальная коннотация как способ воплощения культуры в языковой знак
Введение к работе
Настоящая работа посвящена условно-символической номинации.
являющейся особым типом образной номинации, а также проблеме определения природы лингвистического зоосимвола. его национально-культурной специфики. Анимализмы русского и английского языков, то есть слова и словосочетания, образованные от названий животных, составляют языковой материал данного исследования. Наименования животных представляют собой древнейший пласт языка и являются существенным компонентом его словарного состава. Названия животных наряду с именами собственными, ботанизмами, соматизмами, а также некоторыми разрядами имен прилагательных, образуют фонд, который традиционно служит источником метафорических сочетаний слов. Кроме того, лексико-семантическая группа "наименования животных" давно привлекает внимание исследователей в связи со способностью ее единиц обладать многозначностью, основанной на метафорических и метонимических связах.
Понятие "анимализмы" охватывает как зоонимы, так и зооморфизмы (или зоосемизмы) на основе имеющейся между ними генетической связи. Зоонимы (или зоологическая лексика) - собственно названия животных в прямом номинативном значении. Зооморфизмы (зоосемизмы) - названия животных, используемых не для первичной номинации, а для характеристики человека или другого явления в переносном значении, которое реализуется в составе устойчивых словосочетаний.
Зоосемизмы достаточно хорошо изучены в сравнительном языкознании /см.: Гутман, Литвин, Черемисина, 1970, 1972, 1974, 1977; Гюлумянц 1971; Войтик 1975; Белкина 1977; Молчанова 1981; Петрова 1983; и др./. Этимологию фразеологического "зоопарка" изучает В. М. Мокиенко /Мокиенко 1975,
1986/, тюркских языков в сопоставлении со славянскими языками - Д. С. Сетаров /Сетаров 1990, 1992/. Изучению анималистической фразеологии русского языка посвящены диссертации Н. В. Бирюковой /Бирюкова 1990/, Т. В. Козловой /Козлова 1991/, национально-культурной специфики анималистической фразеологии русского языка посвящена диссертация А. В. Буробина /Буробин 1995/. Однако целостного изучения зоонимов на примере двух языков (русского и английского) до настоящего времени не предпринималось.
Современная эпоха - время своеобразного "номинативного напряжения", резкого возрастания активности процесса номинации. Развитие науки и техники, разработка новых технологий, возникновение новых фирм, социальных объединений, выпуск множества товаров и т.п. - все это влечет за собой потребность в создании новых научных и номенклатурных терминов, новых названий. В этой связи особенно актуальными оказываются ономасиологические исследования, призванные не только изучить все нюансы номинативного процесса, но и дать реальные эффективные рекомендации по управлению им.
Вместе с тем ономасиология как наука о номинации, т. е. о "процессе обращения фактов внеязыковоЙ действительности в достояние системы и структуры языка" /Языковая номинация 1,3/9 является эффективным инструментом изучения механизмов и истории человеческого познания. А. В. Суперанская характеризует номинацию следующим образом: "обозначение предметов реальной действительности словесными знаками - процесс постоянный и непрерывный. Таким образом создается множество более или менее устойчивых именований, называющих феномены окружающего нас мира (включая нас самих), свойства которых всецело зависят от трех компонентов, участвующих в акте номинации: именующий, означаемое, означающее" /Суперанская 1986, 15/. Перефразируя высказывание В. Н.
Телии, подчеркнем, что номинативные единицы языка "прямо или косвенно -через их культурные коннотации - связаны с духовной и материальной культурой народа" /Телия 1993, 313/ и дают возможность реконструкции (в истории) или выявления (в современности) основных концептов мировидения данного этноса, что позволяет говорить о национально-культурной специфики номинативных единиц языка.
Науку об именах, о природе и типах наименований называют ономасиологией; ее главная задача заключается в "изучении средств и способов называния отдельных элементов действительности" и "обозначения целостных событий'УЯзыковая номинация I (Общие вопросы), 37/. Ономасиология как самостоятельная лингвистическая область изучения слов как средств обозначения со своим предметом и методами исследования оформилась лишь к 50-м годам XX века. Ее становление связывают с работами Л. Вейсгербера, В. Краузе, Ф. Дорнзейфа, Б. Кводри (Куадри) и В. фон Вартбурга /Языковая номинация II (Виды наименований), 5/. В современном как отечественном, так и зарубежном языкознании, проблемам языковой номинации уделяется большое внимание; достаточно указать, что круг проблем широк, а предлагаемые их решения - разнообразны.
Отечественная ономасиология, возникнув как самостоятельное направление в науке более 30 лет тому назад, в настоящее время весьма неоднородна. С одной стороны, последовательно развивается изучение номинации в собственно лингвистическом аспекте, в маштабах текста, при котором фактически исключается из поля исследования номинативная лексика в ее прямом употреблении и основной акцент переносится на изучение "использователя уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции наречения" /Телия 1977, 129/. Такой подход оказывается продуктивным в работах, посвященных индивидуальной номинации в поэтической речи и других видах текстов (ср., например, исследования Н. А. Басилая, Н. И. Бахмутовой, А. А. Брагиной, В. Н. Вовк, Е. Б. Вовк, В. Г.
6 Голышевой, В. А. Дудко, А. Л. Кораловой, Н. А. Купиной, Ю. И. Левина, А. Н. Молчановой, Л. Н. Мурзина и мн. др.), однако выводит за рамки исследования собственно ономасиологический аспект соотношения слова и действительности, подменяя его анализом новых текстовых смыслов. Вместе с тем данное направление достигло значительных успехов в формировании теоретической базы учения о номинации: в трудах Э. С. Азнауровой, Н. Д. Арутюновой, В. Г. Гака, Н. Д. Голева, А. Ф. Журавлева, Г. В. Колшанского, Н. Г. Комлева, Е. С. Кубряковой, А. А. Уфимцевой, Б. А. Серебренникова, А. В. Суперанской и др. нашли подробное описание параметры номинативной ситуации, совокупность технических средств номинации, получила детальную разработку общая типология номинаций и видов наименований.
На необходимость выделения ономасиологии как особой науки, стоящей на
стыке лингвистики и психологии, указал И. С. Торопцев, в течение ряда лет
разрабатывавший основы ономасиологии как науки о
словопроизводственном процессе, в ходе которого реализуется от лексически невыраженного содержания к вербальному и создается новая лексическая единица /Торопцев 1970/. Специфика номинативного акта еще более подчеркивается тезисом об особом ономасиологическом контексте, не входящем в коммуникативный, выбивающемся из него и творящем новую лексическую единицу /Торопцев 1980, 3-29/. Предложенная И. С. Торопцевым концепция в большей степени соответствует задачам практической науки о номинации, ибо концентрирует внимание на самом факте зарождения имени, необходимого для обозначения новой реалии. Проблема изучения словоупотребления здесь сменяется проблемой изучения словотворчества (термины Н. Г. Комлева /Комлев 1968, 84/, анализ причин выбора лексической единицы уступает постижению тайн рождения имени. Создание самостоятельной номинативной единицы - это постоянно возникающий в сознательной человеческой деятельности акт, законы управления которым имеют практическую ценность. Важен и постулат о
психической стороне номинативного процесса, поскольку создание имени начинается до вербализации, и самые различные психологические характеристики номинатора могут выступить решающим фактором в именно такой реализации номинативного процесса. Однако и в школе И. С. Торопцева исследователи уходят от изучения законов уже закрепленной в узусе и языке номинации: в поиске материала для наблюдения за живым процессом лексической объективизации ученые обращаются к "индивидуальноязыковому" (термин И. С. Торопцева) лексикону: звукоподражательным словам (идеофонам) и междометиям (И. С. Торопцев), авторским окказионализмам (О. А. Габинская), данным лингвистического эксперимента (М. С. Малеева) и т. п. /Рут 1994, 6-8/
Разработка положений теории и практики номинации последовательно проводится в конкретных исследованиях, посвященнным тем или иным группам номинативной лексики: различным классам имен собственных, анималистической лексики, названий растений, научной и нормативной терминологии и т. п. В этих конкретных ономасиологических описаниях номинативного материала отечественных исследователей отрабатывается терминология, выявляются необходимые характеристики, определяющие своеобразие тех или иных номинативных систем. Например, М. Э. Рут дает комплексное описание образной номинации в своей работе /Рут 1994, 49 -90/. Условно-символическая номинация (УСН) является наименее разработанной в теоретическом плане областью номинации. Попытку обобщения и теоретического осмысления УСН предпринял Н. Д. Голев /Голев 1980, 47-55/. Необходимо отметить, что даже описательных работ на материале отдельных тематических групп УСН еще сравнительно мало, все они на материале русского языка. Нет работ, где бы предпринималась попытка полного описания наименований животных на материале двух языков: русского и английского.
s В данном исследовании символ рассматривается в качестве разновидности языкового знака. Исследование семантики символа как многосмыслового знака, практически не предпринималось отечественной лингвистикой, в частности семасиологией и теорией номинации. На наш взгляд на наиболее удачную разработку этого явления претендует диссертация Шелестюк Е. В. "Семантика художественного образа и символа" /Шелестюк 1998/. В данной работе автор пишет: "Языковые символы - символы, объективно фиксируемые словарями как факт тезауруса языка. Они подразделяются на два подтипа - культурно-стереотипные символы и древние символы-архетипы. Культурно-стереотипные символы - символы современности, понятные всем представителям данной культуры, с прозрачным, либо полупрозрачным, основанием переноса. Символы-архетипы - символы, основанные на древнейших пралогических, мифологических либо первичных бессознательных представлениях о мире, с затемненным основанием переноса. Главными общечеловеческими символами-архетипами являются отец-небо, мать-земля, яйцо, змея, рыба, солнце-глаз, дерево (росток), вода (ритуальное омовение), парящая птица, путь или дорога и странствие, круг или шар и некоторые другие. Эти символы не являются продуктом одной культуры, а действуют в культурах, разделенных во времени и отличных по историческому развитию". Автор также вводит понятия "символы в речи (в тексте)", под которым подразумевает "актуализирующиеся в тексте языковые символы и индивидуальные символические переменные произведения (автора)" /там же, 4/.
Испокон веков звери служили человеку "символическими выражениями как различных явлений внешней природы, так и собственной его духовной жизни, его страстей, пороков и добродетелей" /Шеппинг 1868, 1/. Характеризуя своего ближнего названием животного, человек концентрирует в последнем лишь одно качество, делает из животного символ этого качества. Мы привыкли к такой символике и не удивляемся, что осел, баран -
труженики и кормильцы человека - являются символом глупости, свинья -символ нечистоплотности, грязи, змея - символ коварства, а змей - символ мудрости и т.д. Вслед за Н. В. Бирюковой /Бирюкова 1990/ названия животных, используемые в языке как слова-символы, в данной работе называются зоосимволами.
Контекст культуры - одна из сфер "среды обитания" человека. Культура - это продукт духовно-нравственного осмысления человеком мироустройства, на фоне которого формируется самосознание личности. Поэтому установки культуры, лежащие в основе ценностных ориентиров жизненной философии и жизнедеятельности личности, постигаются рефлексивно. Они становятся достоянием культурного сообщества благодаря их означиванию. Установки культуры, образующие ее "язык", - это ментофакты, обладающие знаковой функцией. Содержание последней соотносимо с формами сознания -обыденного, научного, художественного, мифотворческого, религиозного и т. п. Оно связано и с характерным для того или иного сообщества - этноса, народа, нации - окультуренным мировидением, отражающим восприятие мира через призму культурного его сознания /Фразеология в контексте культуры 1999, 8/.
Для лингвокультурологического анализа понятия культуры и культурно-национальной коннотации являются базовыми.
В данной работе мы, вслед за В. Н. Телия, под культурой понимаем "мировидение и миропонимание, обладающее семиотической природой" /Телия 1996, 222/. Однако на наш взгляд интересно было бы рассмотреть и отношение известного за рубежом и в России лингвиста А. Вежбицкой к понятию культуры: "Конечно, термин "культура" используется разными авторами в различном значении, и, прежде чем что-либо утверждать касательно "культур", неплохо было бы выяснить в каком смысле используется этот термин. Со своей стороны, я нахожу особенно плодотворным определение, предложенное Клиффордом Герцем (Geertz
1979): "Понятие культуры, которого я придерживаюсь, означает исторически передаваемую модель значений, воплощенных в символах, систему наследуемых представлений, выраженных в форме символов, при помощи которых люди общаются между собой и на основе которых фиксируются и развиваются их знания о жизни и жизненные установки"/Вежбицкая 1999, 289/.
"Культурная коннотация - это в самом общем виде интерпретация денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры" /Телия 1996, 214/.
Применительно к зоосемизмам как к знакам вторичной номинации, характерной чертой которых является образно-ситуативная мотивированность, которая напрямую связана с мировидением народа-носителя языка, средостением культурной коннотации, ее основным нервом является это образное основание.
При анализе особенностей культурно-национальной коннотации мы будем исходить из постулата о том, что система образов (символов), закрепленных в анималистической лексике русского и английского языков служит своего рода "нишей" для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой русской и английской (британской и американской) языковых общностей, а поэтому может свидетельствовать об их культурно-национальном опыте и традициях.
С учетом вышеизложенных положений цель данного исследования можно сформулировать следующим образом:
1. Описать природу условно-символической номинации как особого
типа образной номинации.
2. Определить специфику лингвистического зоосимвола.
3. Выявить национально-культурные особенности зоосимволов
русского и английского языков.
11 Для реализации поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
1. Определить место образной номинации и условно-символической
номинации среди других типов номинаций.
Проследить историю изучения символов в лингвистике.
Описать эволюционную систему зоосимволов.
Рассмотреть генеративные свойства анимализмов.
Выявить на основе имеющихся источников состав зоонимов русского и английского языков.
Выработать методику сопоставительного анализа зоонимов русского и английского языков.
7. Произвести качественную и количественную характеристику
зоонимов, описать особенности их употребления в смысловых (понятийных)
классах.
Актуальность исследования обусловлена его проблематикой, степенью изученности данного вопроса и поставленными целями.
Научная новизна исследования. В диссертации впервые предложена концепция условно-символической номинации как особого типа образной номинации, которая обладает высокой гносеологической проницаемостью и позволяет выявить основные установки восприятия мира номинатором в момент создания системы символических именований, что в свою очередь позволяет говорить о культурно-национальной специфике этих символов.
Материал исследования составляют наименования животных в русском и английском языках, извлеченные из различных словарей. Основными источниками материала являлись: фразеологические словари обоих языков, толковые словари русского языка, диалектные фразеологические словари и материалы к ним, различные толковые словари, тезаурусы, энциклопедии английского языка, изданные за рубежом. Полный перечень словарей приводится в "Списке литературы". Кроме того
использовались материалы картотеки диссертанта, составленной на основе примеров, взятых из произведений художественной литературы и периодики. Анализу подвергаются также фразеологизмы с зоонимным компонентом из некоторых диалектов русского языка (среднеобских старожильческих говоров, говоров Северного Прикамья, русских говоров Сибири, говоров Воронежской области; псковских, курских, смоленских говоров); частично привлекаются примеры употребления зоонимов в сленге британского и американского вариантов английского языка. Ограничение исключительно литературным материалом привело бы к ограниченности описания. Необходимо отметить, что некоторые диалектные фразеологизмы с зоонимным компонентом, в частности из сибирских говоров, не сопоставимы с общелитературными и имеют узколокальный характер, что, очевидно, связано с особыми условиями формирования этих говоров. В целом анализу подвергаются 142 зоонима русского языка, продуктивность которых по нашим подсчетам составила (см. Таблицу I) - 1371 лексическая и фразеологическая единицы русского языка, и 150 зоонимов английского языка, продуктивность которых составила (см. Таблицу II) - 1021 лексическая и фразеологическая единицы английского языка.
Методы исследования. Основными методами, применяемыми в работе являются классические методы лингвистического наблюдения и описания: от анализа фактов, их сопоставления, классификации к обобщениям и выводам. Использованы также элементы статистического (количественные подсчеты) и частично социолингвистического (опрос носителей языка) методов. Основные положения работы, вынесенные на защиту: 1. Условно-символическая номинация (УСН) - номинация, мотивированная восприятием признака предмета как символа другого предмета. Она сочетает в себе отобъектную мотивировку (как признаковыделяющая номинация) и отсубъектное, уже не зависящее от предмета представление о стандарте восприятия такого признака. УСН
всегда подчеркнуто субъективизирована, и "прочитываемость" информации целиком зависит от уровня информированности о субъекте номинации, однако признак объекта остается основополагающим и определяющим мотивом номинации. УСН - особый тип образной номинации.
2. Зоосимвол, будучи разновидностью языкового знака, обладает
генеративными свойствами, основанными на его ассоциативных свойствах,
коннотативных, метафорических и метонимических ассоциациях.
Распределение материала по понятийным классам свидетельствует о тенденции к антропоцентризму, которая проявляется в том, что анималистическая (зоологическая) лексика обоих языков главным образом специализируется на характеристике человека, прежде всего как общественного и разумного существа, раскрывает социальные и психологические особенности человеческой личности.
Для нашего исследования существенным является тот факт, что зоологической лексике присущи такие категории как оценка (оценочность), национальная специфика оценки, антропоморфизм и интертекстуальность.
Национальные признаки русской и английской анималистической лексики органически аккумулируют в себе как опыт отдельной личности, так и сложившееся веками представление о том или ином наименовании животного (зоосимволе) всего этноса, проживающего на территории России, Великобритании, США.
Апробация работы. Основные положения работы изложены автором в докладе на первой окружной конференции молодых ученых и специалистов ХМАО "Наука и образование 21 веку" /Сургут, 2000/. По теме диссертации опубликованы 4 статьи. Диссертация обсуждалась на кафедре общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ (апрель 2000 г.).
Практическая ценность работы определяется возможностью использовать результаты исследования при изучении фразеологии английского и русского языков, в семинарах по лексикологии, в спецкурсе по
лингвокультурологии, на занятиях по практике устной речи английского языка, в практике преподавания русского языка носителям английского языка. Основные положения работы находят применение в написании курсовых работ студентами Отделения лингвистики и межкультурной коммуникации Сургутского госуниверситета под руководством диссертанта.
Цель и задачи работы определили ее структуру. В первой главе разрабатывается общая модель условно-символической номинации как особого типа образной номинации. Вторая глава посвящена описанию природы лингвистического зоосимвола. В третьей главе рассматриваются национально-культурные особенности анималистической лексики в русском и английском языках.
К вопросу об ономасиологической типологии номинаций
Если для В. Г. Гака термины вторичная и косвенная номинация равнозначны и обозначают ситуацию, когда "одна и та же форма может приспосабливаться для обозначения иных объектов (а не того, для обозначения которого она была создана) ... в то время как, с другой стороны, данный объект может получить иное наименование" /Гак 1977, 243/, то для Э. С. Азнауровой, Е. С. Кубряковой, В. Н. Телии, А. А. Уфимцевой вторичная номинация подразделяется на непрямую и косвенную, причем их противостояние, очевидно, может быть выражено в терминах номинация автономная (вторичная = непрямая - и неавтономная синтагматически обусловленная = косвенная согласно типологии В. Г. Гака /ср. Гак 1977, 286, 292; Уфимцева -и др. 1977, 73 и след.; Телия 1977, 129 и след./. Данное несовпадение носит характер уточнения, развития принятой В. Г. Гаком классификации. Существуют вместе с тем и принципиально отличные интерпретации терминов первичная и вторичная номинация. Так, А. Ф. Журавлев, характеризуя предшествующую трактовку как семасиологическую, предлагает интерпретацию понятий первичной и вторичной номинации, имеющую ономасиологическую направленность: "Под первичной номинацией понимается акт присвоения имени предмету, еще не имеющему своего языкового обозначения и только ждущему его. Вторичная же номинация есть называние новым именем предмета, уже названного" /Журавлев 1982, 50/. Такое понимание терминов действительно ставит вопрос об иерархической типологии номинации как процесса словопроизводства, однако приходится признать, что область применения подобного типологического разграничения оказывается весьма ограниченной: номинация может быть квалифицирована как вторичная согласно А. Ф. Журавлеву лишь в тех случаях, когда она: а) производна от первичной (например, при стяжении раздельнооформленных номинаций: неотложная помощь - неотложка, высшее учебное заведение - вуз, Петроград - Питер и т. п.); б) носит ярко выраженный оценочный или экспрессивный характер (ср. окказиональные номинации телефона - болтальник. аллешник. а также жаргонные и сленговые номинации тачка, травка, телега вместо литературных такси, наркотики, жалоба: buzzword (букв, "жужжащее слово") - "красивое словечко"; bullpen (букв, "стойло для быка") - камера предварительного заключения; quack (букв, "кряква", "утка") - знахарь, шарлатан; frogman (букв, "человек-лягушка" - о водолазе; gorilla (букв, "горилла") - бандит; головорез;) в) возникла целенаправленно как замена первичной (ситуация переименования - Урал вместо Яик, М. Горький вместо А. Пешков; языковое табу - не наш вместо черт, леший ; хозяин вместо медведь и пр.). Во всех остальных случаях такие парадигматические (по терминологии В. Г. Гака /Гак 1977, 282/) номинации иерархической детерминации не поддаются и определение первичности - вторичности возможно лишь в ходе кропотливого исторического исследования, далеко не всегда результативного. В синтагматическом плане противопоставление пер вичной и вторичной номинации по А. Ф. Журавлеву актуально как про тивопоставление "первого обозначения данного лица или предмета" и повторных /Гак 1977, 286-287/. Таким образом, противопоставление первичная - вторичная номинация может интерпретироваться как: - созданная специально/приспособленная; - первое название не названного ранее предмета / повторное название (в парадигматическом и синтагматическом аспектах).
Новый оттенок второму противопоставлению придает дихотомия, предложенная О. А. Габинской, согласно которой первичной признается номинация, реализующая образование нового слова, а вторичной - любая последующая /Габинская 1986, II/. В то же время автор предлагает разграничение номинации I ("при помощи слова, закрепленного в общем языке традицией употребления") и номинации П ("при помощи слова, образованного в результате словопроизводственного процесса, но еще не ставшего достоянием всего языкового коллектива") /Габинская 1986, 12/. Несмотря на невыразительность терминов, выражаемые ими противопоставления представляются весьма продуктивными в плане изучения живого, наблюдаемого процесса номинации. Проиллюстрируем это примерами: - Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на нее внимания. Он нагнулся к ней и спросил: "Псина, ты откуда? Ах, бедный песик! Совсем лисица! ... Эй ты, пес, поди сюда!... А ты, рыжик, не бойся... Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат... Вот что... Ты будешь - Тетка... Понимаешь? Тетка!" /А. П. Чехов, "Каштанка"/.
В этой смоделированной писателем ситуации номинации есть все описанные О. А. Габинской типы: именуя собаку "псина", "песик", герой использует номинацию I (традиционное нарицательное именование животного данного вида, хотя и с ярко выраженной коннотативной окрашенностью, но тоже вполне традиционной), затем наступает черед номинации II- "лисица", "рыжик" и, наконец, "Тетка". Эти окказиональные имена можно в то же время считать первичными номинациями по Габинской, однако лишь последняя из них становится достоянием языкового коллектива, обретая вторичную номинацию (вернее, вторичные номинации). Возможность выстраивания подобных рядов конструктивна для выявления факторов появления имени.
Определение образной номинации
Как показывают труды ученых-ономасиологов, разрабатывающих модель того или иного комплексного типа номинации, должен быть выделен опорный, базовый атрибут, который служит определяющим моментом квалификации типа. Так, для типологического разграничения искусственной и естественной номинации таким базисом становится поведение субъекта номинации, ср.: "Естественная номинация - процесс стихийного выбора языковым коллективом оптимального варианта содержания и формы языковой единицы в ходе использования ее в актах речевой коммуникации. Искусственная номинация - осознанный и целенаправленный номинативный акт, ориентированный на априорную узуализацию созданной номинативной единицы" /Голомидова 1987, 6/; для выделения условно-символической номинации главным критерием оказывается отношение к языку, ср.: "УСН (условно-символические номинации)... представляют собой специфический разряд в номинативной сфере современного русского языка. Их специфика ... подчеркнуто номинативно выделяющая функция, особые приемы создания, в частности, относительно свободное использование разнообразных лексических единиц во вторичной номинативной функции... /Голев 1980, 47/. Для выделения образной номинации в качестве базисного избран типологический признак отношения к свойствам объекта номинации. Отметим, что объект представляется нам главным компонентом любой номинативной ситуации, поскольку номинация - это установление отношения языка к действительности, репрезентантом которой и выступает номинируемый предмет или класс предметов.
Поводом к осознанию необходимости выделения нового типа послужило несогласие с уже упоминавшимся общепринятым разграничением прямого и опосредованного способа воплощения мотивировочного признака объекта, ср.: например: "Сущностью прямого способа номинации является тождество мотивировочного и мотивирующего признака, прямое выражение первого через второе... Опосредованный (способ номинации) - при котором мотивировочный признак выражается словом, обозначающим предмет, в котором данный признак только находит свое проявление" /Голев 1976, 93-94/. Другими словами, прямая номинация предполагает собственное воплощение признака объекта в названии, а опосредованная - через воплощение этого же признака в другом предмете. Возникает вопрос: что стоит за двоякостью воплощения признака в названии: стремление языка к разнообразию в выражении тождественного или разница в восприятии предмета, познании его свойств?
Наиболее естественный ответ на вопрос - и то, и другое. Действительно, мы часто встречаемся в речевой коммуникации с фактами поиска небанального выражения того или иного содержания, в том числе и яркого, образного имени объекта.
М. Э. Рут дает комплексное описание образной номинации в своей работе /Рут 1994, 49 - 90/, где приводит следующие примеры: - Слушай, я тут программу составил (для ЭВМ), чтобы определенная информация сразу в память уходила, вот думаю, как назвать. "Память" -самое естественное, но просто слишком и потом неудобно - программа "Память", еще подумают чего ... - Назови ... "Незабудка". А еще лучше -"Узелок". -Ах, ты Шарик! Хороший, хороший ... Вон ты какой, и правда - Шарик. - Да уж Шарик. Внучка говорит: "Что вам Шарик, все собаки Шарики". Хотела Пончик назвать - он, дескать, тоже круглый. А я Шариком зову.
Путь развития номинативного процесса здесь такой: выделение признака объекта, создание на его основе прямой номинации (иногда на уровне синтаксической конструкции) и затем подыскивание более оригинального, нестандартного воплощения того же номинативного содержания.
Однако чаще анализ смысловой нагруженности опосредованных номинаций показывает их содержательную неадекватность прямым, ср.: оз. Круглое - оз. Чаша, Калачик, Монетка; поле Плоское - поле Блюдечко; прозвище Длинная - прозвище Жердь; hog (букв, "боров") - большой и тяжелый мотоцикл типа "Харлей-Дэвидсон"; hogshead (букв, "голова борова") - большая бочка; hogback (букв, "спина борова") - о крутом горном хребте, напоминающем гребень; pony (букв, "пони") - 1) маленький бокал пива; 2) шпаргалка; и т. п. Само собой разумеется, что в названии Чаша содержится не только информация о круглой форме озера, но и об его расположенности в котловине, его глубине, в то время как озеро Монетка, напротив, должно быть относительно мелким и иметь ровные, но обрывистые берега /ср. Овчар 1991, 66/; что на оз. Калачик наверняка есть большой остров посередине; что поле Блюдечко - не только ровное, плоское, но круглое ( и не только круглое, но и плоское); что девочка по прозвищу Жердь не только высока ростом, но и худа, и, скорей всего, нескладна; английские примеры с зоонимоом hog подчеркивают огромные размеры предметов, а зооним pony, наоборот, указывает на предметы небольших размеров. Следовательно, разница между так называемой прямой и опосредованной номинацией не только в языковом проявлении признака, но и в характере самих признаков, в специфике выявления свойств объекта.
История изучения символов в лингвистике
Проблема символа является одной из наиболее сложных в лингвистике, философии и психологии, и продолжает поэтому оставаться открытой для дискуссий.
Основополагающим исследованием символов в русском языке стала диссертация А. А. Потебни "О некоторых символах в славянской народной поэзии" /1863/, которая стала программным документом русских символистов. А. Белый отмечает, что взгляды Вяч. Иванова, В. Брюсова на происхождение символа являются прямым продолжением или "перепевом" мыслей А. А. Потебни /Белый 1910, 245/. Для самого А. А. Потебни, по замечанию А. Белого, символизм языка заключается в его поэтичности /Белый 1910, 251/. В. Брюсов считает, что символизм заключен в выражениях общих, извечных идей, которые не могут быть адекватно выражены ни в одном определенном образе или логическом понятии /Брюсов 1987, т. 2,431/.
Отечественные логики и лингвисты считают символом идейно-художественное содержание произведения /Вартазарян 1973; Виноградов 1976 ; Солодникова, 1984 и др./.
Термин «символ» по-разному используется в лингвистике и в литературоведении. Например, Ю. С. Степанов утверждает, что «символ -понятие не научное, это - понятие поэтики; он всякий раз значим лишь в рамках определённой поэтической системы, и в ней он истинен» /Степанов 1985, 85/. Именно так воспринимались символы поэзии французских символистов в конце XIX века или русских символистов в начале XX века.
Однако наряду с поэтическими существовали и существуют символы, которые можно было бы назвать историческими. Это символика связанная, например, с греческой и римской мифологией. Подобного рода символика рождалась как концентрированное выражение содержания верований, легенд, преданий, его квинтэссенция. В дальнейшем такого рода символика была характерна для различных жанров фольклора. Говоря о символах в языке, мы имеем в виду не символику художественных произведений и не исторические символы, хотя функционально они очень близки. Речь идёт о символах, порождаемых процессом эволюции языка, о символах-носителях определённого значения, обладающих собственной спецификой. Специфика языкового символа состоит в мотивации языкового знака, связанной не с переносом значения, как это характерно для тропов, а с картиной мира, фоновыми знаниями, прагматикой в широком смысле слова. Несмотря на многозначность слова «символ» и его «занятость», мы не считаем нужным отказываться от него. Символ содержит в себе сему условности именования и однозначность, а потому вполне удобен для того, чтобы им называли определённую манифестацию значения в языке» /Телия 1988, 85/.
К изучению отдельных свойств символа обращались советские и зарубежные лингвисты /Лясота 1962; Лендьел 1972; Гвоздарев 1977; Стерлигов 1977; Молчанова 1981; Петрова 1983/. Однако фундаментального труда по языковой символике до сих пор нет.
Объясняется этот факт тем обстоятельством, что каждый язык имеет особенности своего фразообразования, а также тем, что любой символ трудно измерить каким-либо количеством величин. "И тем не менее он есть нечто точное, абсолютно закономерное и в идеальном смысле слова системное" /А. Ф. Лосев 1976, 13/.
Обратимся к значимым с нашей точки зрения взглядам лингвистов на языковый символ. Они все разные, потому что теории нет, а в решении проблемы, как известно, возможны и заблуждения, и верные подходы.
А. А. Потебня считал, что символ это - забытый образ. Дальнейшее развитие эта идея получила в теории фразообразования Ю. А. Гвоздарева, который писал, что в основе внутренней формы некоторых фразеологических единиц лежит символическое представление и развивает эту идею вслед за представителями школы Ф. Ф. Фортунатова следующим образом. Слова-символы, как правило, составляют образно-смысловой центр фразеологической единицы. Вокруг такого символа обычно возникает целый ряд образований, что и позволяет более или менее определенно осознать его значимость /Гвоздарев 1977, 163/. Аналогичным образом решает вопрос о синтаксическом выражении символа А. Ф. Лосев: символ представляет собой абстрактную сущность, закономерно разлагаемую в ряд отдельных единичностей /Лосев 1982, 65/. Добавим, что лингвистический символ образует полную или неполную парадигму. Например: баран, как баран , баран бараном (о глупом человеке): стадо баранов , как стадо баранов (о слепом безрассудном подражании): как баран на новые ворота, как баран на воду (о непонятливом, недогадливом): бараньи мысли с подливом (шутливое выражение о глупых рассуждениях): баранья шапка на бараньей голове (о глупом). Символический компонент, образующий подобную парадигму, определяет единый характер значения каждой отдельно взятой фразеологической единицы. Элемент символического значения «глупый» в приведенной выше парадигме имеют анималистические фразеологические единицы стадо баранов, как стадо баранов, как баран на новые ворота , как баран на воду .
Культурно-национальная коннотация как способ воплощения культуры в языковой знак
При анализе особенностей культурно-национальной коннотации мы будем исходить из постулата о том, что система образов (символов), закрепленных в анималистической лексике русского и английского языков служит своего рода "нишей" для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, социальной или духовной культурой русской и английской (британской и американской) языковых общностей, а поэтому может свидетельствовать об их культурно-национальном опыте и традициях. "Культурная коннотация - это в самом общем виде интерпретация денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры" /Телия 1996, 214/.
Применительно к зоосемизмам как к знакам вторичной номинации, характерной чертой которых является образно-ситуативная мотивированность, которая напрямую связана с мировидением народа-носителя языка, средостением культурной коннотации, ее основным нервом является это образное основание.
В. Н. Телия выдвигает следующую гипотезу, связанную с технологией воплощения культурной коннотации в содержание языкового знака: "если единицы языка обладают культурно-национальной спецификой, то последняя должна иметь свои способы ее отражения и средства соотнесения с ней, т. е. служить своего рода "звеном", соединяющим в единую цепь "тело знака" (а для знаков вторичной номинации - это и "буквальное значение" самого означающего) - с одной стороны, а с другой - концепты, стереотипы, эталоны, символы, мифологемы и т. п. знаки национальной и шире общечеловеческой культуры, освоенной народом - носителем языка" /там же, 215/.
Применительно к нашему материалу это означает, что если зоосимволы обладают культурно-национальной спецификой, то они должены, по-нашему мнению, иметь свое средство воплощения в их знаковую организацию и свой способ указания на эту специфику. Таким средством воплощения культурно-национальной специфики зоосимволов служит образное основание (в том числе и включающее в себя культурно маркированные реалии), а способом указания на эту специфику является интерпретация образного основания в знаковом культурно-национальном "пространстве" данного языкового сообщества. Такого рода интерпретация и составляет содержание культурно-национальной коннотации, что является, с точки зрения В. Н. Телия, базовым понятием для лингвокультурологии - научной дисциплины, исследующей воплощенные в живой национальный язык материальную культуру и менталитет и проявляющиеся в языковых процессах в их действенной приемственности с языком и культурой этноса /там же, 216/. Далее дается другое определение лингвокультурологии - "та часть этнолингвистики, которая посвящена изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в синхронном их взаимодействии" /там же, 217/. Для лингвокультурологического анализа, оперирующего культурно-национальной коннотацией, понятие культуры является базовым. Ее главным онтологическим признаком (по сравнению с другими: 1) эволюционный характер, 2) ценностная ориентация, отраженная в жизненной философии народа, 3) историзм, и т. п.) является ее семиотический характер. Культура, по мнению В. Н. Телия, - это мировидение и миропонимание, обладающее семиотической природой /там же, 222/.
Культура и язык существуют в диалоге между собой. При этом субъект речи и ее адресат - это всегда субъекты культуры. Для культуры, как для языка, характерны антиномии, связанные с индивидуальными или общественными формами их бытия: субъект культуры или языка - это всегда индивид v.s. социум, личность v.s. общество. Свободе субъекта поэтому всегда противостоит необходимость следовать социальным канонам, выбору -общественное предписание, творчеству, креативности - нормативность.
"Нормативность- это общая для языка и культуры черта. Как в языке, так и в культуре, норма выполняет "охранную" функцию. Норма, поддерживающая константность этих систем, расшатывается вариативностью, а репродуктивный характер функционирования культуры и языка - творчески креативной деятельности субъектов культуры и языка" и далее читаем "культура - это своеобразная историческая память народа. И язык, благодаря его куммулятивной функции, хранит ее, обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в настоящее, но из настоящего в будущее" /там же, 225 -226/.
Взаимоотношения языка и культуры являются объектом изучения не только лингвокультурологии, но и таких научных дисциплин как этнолингвистика и лингвострановедение. Фундаментальными для этих дисциплин является положение теории лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа о том, что структура языка и системная семантика его единиц коррелируют со структурой национального мышления и способами познания внешнего мира у того или иного народа. Гипотезу языковой (лингвистической относительности не случайно называют одной из самых эффективных гипотез языкознания. Предположение, что мышление и поведение человека детерминированы его языком, придает лингвистике совершенно особый статус в кругу всех прочих наук.