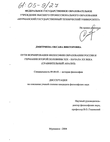Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Эсхатология в традиции христианского самосознания: историко-философская ретроспектива
1.1. К вопросу определения понятия «эсхатология» в христианском религиозно-философском дискурсе 19
1.2. Эсхатологические представления в русской религиозно-философской традиции: от апокалиптики к утопизму 34
Глава II. Общая эсхатология как проблема русской религиозной метафизики и философии истории
2.1. Эсхатологическая утопия Н.Ф. Федорова: между «вечным становлением» и «вечным возвращением» .58
2.2. Метафизические и утопические аспекты эсхатологии В.С. Соловьева .66
2.3. Хилиазм С.Н. Булгакова: между апокалиптикой и эсхатологией ...85
2.4. Эсхатологическая парадигма в метафизике пространства-времени П.А. Флоренского .97
Глава III. Идея индивидуальной эсхатологии в метафизике русского персонализма
3.1. Экзистенциальная эсхатология Н.А. Бердяева 108
3.2. Учение Н.О. Лосского о перевоплощении: идея эсхатологической эволюции 119
Заключение 132
Библиография
- К вопросу определения понятия «эсхатология» в христианском религиозно-философском дискурсе
- Эсхатологические представления в русской религиозно-философской традиции: от апокалиптики к утопизму
- Хилиазм С.Н. Булгакова: между апокалиптикой и эсхатологией
- Учение Н.О. Лосского о перевоплощении: идея эсхатологической эволюции
К вопросу определения понятия «эсхатология» в христианском религиозно-философском дискурсе
Эсхатология как богословский термин возник в первой трети XIX-го века в среде немецкого либерального протестантизма. Пролиферация значения термина происходит в рамках школ библейской герменевтики начала XX-го века. В зависимости от интерпретации новозаветных греческих слов , , (могущих означать как Первое, так и Второе Пришествие Христа), формулировались три парадигматические сценария: осуществленной, отложенной, и вступившей в свое осуществление эсхатологии. В строгом смысле, эсхатология трансцендентна истории, однако богословские эсхатологические концепции детерминируются историософскими представлениями, т.к. опираются на экзегезу апокалиптических событий, истории имманентных.
Эсхатология в своей теоретико-философской артикуляции представлена онтологическим, гносеологическим и антропологическим аспектами. В рамках первых двух эсхатология выступает символом предельного разрешения онтологических дихотомий и гносеологических антиномий («имманентного – трансцендентного», «феноменального – ноуменального», «абсолютного – относительного», «конечного – бесконечного», «времени – вечности», «единого – множественного» и т.п.). В этом смысле эсхатология («мировая» эсхатология) выступает символом конца объективного бытия, означающим переход от падшего пространственно-временного и разрозненно-феноменального состояния мира к состоянию целостному и абсолютному. Предпосылкой философско-антропологического аспекта эсхатологии («индивидуальной» эсхатологии) служит предположение о несовершенстве человеческой природы, когда идеальная сущность природного человека отчуждается в трансцендентное. Символом восполнения неполноты человеческого бытия в большинстве мировых религиозно-философских доктрин выступает инициация, прохождение через которую означает символическую смерть для нового возрождения. Эсхатология и инициация, таким образом, представляют собой единую парадигму, описывающую трансформацию личности в онтологически более совершенное состояние.
Вопрос соотношения истории и культуры с апокалиптикой и эсхатологией является традиционной аксиологической темой русской религиозной философии и богословия. Основной проблемой здесь является то, каким образом не девальвировать достижения культуры (временные и преходящие) перед лицом вечности, как инкорпорировать культуру в вечность. С особой остротой данная проблематика возникла в культуре Серебряного века, который сопровождался такими кризисными явлениями, как декаданс, апокалиптизм, утопизм. Николай Бердяев даже считал культуру по самой ее сути и смыслу великой неудачей. Неудачей творческого преображения бытия, кристаллизующей все человеческие неудачи, т.к. все ее достижения не реальны, а носят лишь символический характер. В этом смысле, кризис культуры – это последняя воля человека к переходу от символически-условных достижений к достижениям реально-абсолютным. Большинство мыслителей предреволюционной поры жили в утопических предчувствиях такого перехода.
Многие русские философы (например, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Зеньковский, Г.В. Флоровский) говорили о склонности русского духа к мессианству, утопизму, хилиазму, апокалиптике. Флоровский видел этому метафизические предпосылки. Он считал подобное самосознания не историческим (т.к. оно не опирается на конкретный исторический опыт), а отвлеченным, оперирующим логическими схемами. Так, например, в утопизме основным оценочным мерилом выступает хронология: то лучше, что впереди. Хронологическая последовательность отождествляется с оценочной иерархией. Будущее превращается в идеал. Происходит приравнивание ценности и факта. История становится телеологией, получая имманентную ей цель. Но, утверждает философ, в истории нет имманентных ей целей (цель всегда трансцендентна), а потому ложна любая историческая телеология, будь то мессианизм, утопизм, прогрессизм или эволюционизм. В противном случае, в грезах о «мессианском пире» забываются личные и чужие страдания. Мир превращается в безличное органическое целое, индивиды в котором служат «прогрессу кораллового рифа». Поэтому утопия всегда тоталитарна. А тоталитаризм, как отмечал Бердяев, всегда утопичен и привлекателен в условиях нашего мира, т.к. в нем происходит отказ от личного (ради отказа от боли, страдания, смерти) в пользу безличного, в пользу органического бессмертия.
В перспективе общей эсхатологии развивали свои учения Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский. Эсхатология В.С. Соловьева выстроена по двум направлениям: онто-гносеологическому (метафизическому) и утопическому. Концептуально его эсхатология коренится в метафизике всеединства. Она не является в полном смысле слова ни всемирно-исторической, ни индивидуальной эсхатологией, а представляет их синтез. Ее ключевыми элементами являются идеи всеединства, всечеловече-ства, софиологии и богочеловечества. В соловьевской философской парадигме строится эсхатология Н.Ф. Федорова. Его проект воскрешения предков представляет собой, своего рода, обращение причинности (вместо рождения – воскрешение), поворот времени вспять. Прекращение деторождения есть остановка мировой истории, а заменяющий его процесс воскрешения отцов – обращение хода мировой истории вспять, «возврат к истокам» в «золотой век».
Эсхатологические представления в русской религиозно-философской традиции: от апокалиптики к утопизму
Слово «эсхатология» появилось в богословском словаре сравнительно недавно, в начале XIX-го столетия18, хотя содержательная сторона этого понятия уходит в глубь веков. Технический термин «эсхатология», подобно многим другим понятиям, имеет как широкое, так и узкое значение. Для прояснения специального богословского значения термина проследим примеры его лексического употребления. Так, согласно «Словарю Вебстера», слово «эсхатология» впервые встречается (не в богословском значении) в народной английской литературе не позднее 50-х годов XVI-го века19. Эсхатология как теологический термин разрабатывается в среде немецкого либерального протестантизма в первой трети XIX-го века как неологизм, призванный заменить собой традиционное богословское понятие «последние события». В книге 1822-го года «Христианская вера» (Der Christliche Glaube…) Фридрих Шлейермахер пишет: «Довольно широко принятое словосочетание “последние события” имеет странный вид, который лучше скрыть за словом “эсхатология”, ибо слово “события” угрожает нам тем, что оно может увести нас далеко в сторону от сферы внутренней жизни, которая исключительно и интересует нас»20. Одним из первых энциклопедических определений термина «эсхатология» является краткая статья «Оксфордского словаря английского языка» 1897-го года, сообщающая о нем: «Часть теологии, касающаяся смерти, суда, и окончательных судеб [отдельной] души и [всего] человечества»21. Данное слово - єахатоЬуіа - образовано от греческих корней: eoyaxoq, ц, о [v] - самый удаленный, отдаленный; последний, крайний, предельный; и корня Myoq - слово, знание, учение22. В написанном на греческом койне «Новом Завете» слово eoyaToq (єахатоп) встречается в нескольких позициях. Как прилагательное єа%ато ;, п, ov используется в смысле «последний», «крайний», а также как «худший», «ничтожнейший», «низший». Как существительное среднего рода то SCJ%(XTOV - «конец», «край» (eoq saxaxov ще, уце, - до края земли, т.е. по всему миру (Деян. 1:8; 13:47)). Как наречие saxaxov пдл/шу - «напоследок», «наконец» (Мк. 12:22; IKop. 15:8), а также как наречие єахатюс; - «окончательно»; єа%ата с; є%ю - быть при смерти (Мк. 5:23)23.
В 1904-ом году в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» выходит статья князя С.Н. Трубецкого, посвященная определению данного понятия: «Эсхатология - учение о последних вещах, о конечной судьбе мира и человека - искони занимала религиозную мысль. Представления о загробном существовании - томлениях в подземном царстве мертвых, мучениях, странствованиях в призрачном мире или упокоении и блаженстве в стране богов и героев - распространены повсеместно и имеют, по-видимому, глубокие психологические корни...»24. Отмеченная Трубецким универсальность и глубина данных представлений естественным образом потребовала для своего выражения термина более абстрактного, чем буквально-образное «последние события». Вокабула Шлейермахера, родившаяся из его интуиции опасности отчуждения духовной жизни во внешние сферы, возымела всеобщую популярность, вытеснив прежнее словосочетание. При этом понятие «эсхатология» приобрело более широкое содержание, чем просто четыре последних события.
В конце XIX - начале XX веков в школах библейской герменевтики (в первую очередь протестантских), происходит пролиферация смыслов понятия «эсхатология»25. Так английский теолог Джордж Кеерд выделяет следующие эсхатологические концепции, сложившиеся в рамках экзегетических школ с начала XX-го века: «индивидуальная эсхатология», «историческая эсхатология», «последовательная эсхатология», «реализованная эсхатология», «экзистенциальная эсхатология», «эсхатология новизны», «эсхатология намерения»26. Их отличие обусловлено различностью научных подходов к исторической реконструкции представлений первых христиан о явлении Христа в конце мира. В Новом Завете пришествие Христа в судный день представлено тремя греческими словами - , , , интерпретация каждого из которых приводит к определенной парадигме в конструировании смысла и содержания понятия «эсхатология».
Обычно ко второму пришествию в Новом Завете употребляется слово , (1 Петр. 1:7, 13; 1 Кор. 1:7), но оно также применяется и для первого пришествия при вочеловечивании Христа (Рим. 16:25). Данный термин происходит от древнегреческого - открывать, раскрывать, показывать (от предлога ( , ), означающего местонахождение «из», «от», «с» и корня - «крыть»)27. В Новом Завете используется как существительное - явление, видение, откровение; и как глагол () - открывать, раскрывать, делать явным, обнаруживать, являть
Хилиазм С.Н. Булгакова: между апокалиптикой и эсхатологией
Основной проблемой XIX и XX века Бердяев называет проблему отношения творчества (культуры) и жизни (бытия). Вопрос ставится так: создавать или быть? Гении творили, но не достаточно были: святые были, но мало творили. Творчество рождается из недостатка и несовершенства. Совершенные перестают творить. Бердяев говорит, что творчество, с одной стороны, антагонистично совершенству человека, с другой – совершенству культуры. Творчество есть грань между созиданием ценностей культуры и личного совершенства. Оно есть продление дела Божьего творения. Антагонизм культуры и личного совершенства говорит о том, в мире не было еще религиозной эпохи творчества (Царство Духа). Только с ее наступлением творчество выйдет из тисков личного совершенства и совершенства ценностей культуры. Мировой кризис культуры, по мысли Бердяева, должен вывести из этой противоположности, а современная культура, согласно мыслителю, подошла к глубочайшему внутреннему кризису. Причем, что парадоксально, культура по самой своей сути и смыслу есть великая неудача. Философия и наука – неудача в творческом познании истины, искусство – неудача в творчестве красоты, семья – неудача в творчестве любви, мораль – неудача в творчестве человеческих отношения и т.д. Культура есть неудача творческого преображения бытия. Культура кристаллизует человеческие неудачи109. Все достижения культуры символические, а не реалистические. Культура столь же символична, сколь и породивший ее культ, который есть религиозная неудача. Культ является религиозным истоком культуры, сообщающим ей свой символизм. И все великое в культуре есть символически-культовое, но не реально-бытийственное.
Кризис культуры – это последняя воля человека к переходу от символически-условных достижений к достижениям реально-абсолютным. Кризис свидетельствует о том, что человек стремится не к символу истины, а к самой истине, не к символу богообщения, а к самому богообщению. Эсхатология есть символ этого кризиса. Бердяев пишет: «Неудача и неудовлетворительность культуры связана с тем, что культура во всем закрепляет плохую бесконечность, никогда не достигает вечности. Культура есть лишь творчество плохой бесконечности, бесконечной серединности. Поэтому культура метафизически буржуазна. Творчество вечности есть приведение всякой культуры к концу, к пределу, т.е. преодоление плохой бесконечности»110. Кризис культуры означает невозможность дальнейшего существования культуры дурной бесконечности. Грядущая мировая эпоха станет сверхкультурной религиозной творческой эпохой, в которой культура будет преодолена изнутри, через имманентный приход мирской культуры к религиозной жизни.
Гибель своей эпохи в Революции большинство русских мыслителей переживало как религиозное событие, связанное с крушением целого мировоззрения, по своей сути идеалистичного, оторвано от почвы, утопичного. Так Георгий Флоровский писал, что бывают эпохи предельного истончения эмпирии, когда каждому становится видна глубинная метафизическая борьба, от которой, однако, не следует впадать в апокалиптический транс, Она бушует издревле, но свидетельствует не о последних временах, а о разложении утопического духа конкретной исторической эпохи, о крушение очередной системы жизни и ее духовного уклада. Причем, общественный утопизм есть только симптом, верхний пласт целостного мировоззрения. Утопизм исходит из определенных мировоззренческих предпосылок. Мыслитель называет утопизм неизбывным соблазном человеческой мысли, ее отрица тельным полюсом, заряженным величайшей ядовитой энергией. Не случайно в него упиралась и средневековая католическая мысль, и обмирщавшая философия Нового времени, и эпоха Просвещения, и эпоха «исторической реакции», и богоборческий социализм.
Утопическое мировоззрение представляет собой сложное многоуровневое образование. Его поверхностным слоем является общественный утопизм, в рамках которого, существует вера в имманентное истории достижение социального идеала. Веру в возможность достижения идеала как части истории Флоровский называет «этическим натурализмом», в рамках которого происходит приравнивание ценности и факта. «Этический натуралист» верит в устранение во времени противоположности «должного» и «действительного», лежащих в одной плоскости бытия. При этом, хронология выступает оценочным мерилом: то лучше, что впереди. Хронологическая последовательность отождествляется с оценочной иерархией. Так за социальным утопизмом просвечивает, обосновывающая его, утопическая философия истории – вера в прогресс, согласно которой развитие может актуально достигнуть абсолютного значения – совершенства. При этом, конец прогресса будет концом истории, ознаменовывающим собой начало утопии («утопист должен утверждать, что “история” длиннее “прогресса”»111). Идеал становится фактом достижимого будущего. Вся история совершается ради имманентной ей цели: «Утопист обязан мыслить и толковать историю в категориях телеологических. … Идея целесообразного развития неизбежно приводит к своеобразному логическому провиденциализму»112. Причем, утопические идеалы не историчны, т.к. отталкиваются не от конкретного социо-культурного опыта, а имеют отвлеченно логический характер, оперируя различного рода теоретическими конструкциями
Учение Н.О. Лосского о перевоплощении: идея эсхатологической эволюции
Павел Флоренский не создал собственную эсхатологическую систему. Он вообще мало употребляет слово «эсхатология»265, однако эсхатологическая проблематика в имплицитной форме встречается в его метафизике достаточно часто. Это требует для ее изучения провести определенную метафизикой эсхатологической. реконструкцию. Для этого проанализируем предельные проблемы метафизики Флоренского (теорию мнимости пространства-времени сновидения, теорию геометрической замкнутости физического пространства-времени и аритмологическую концепцию прерывности мира) на предмет их эквивалентности логической структуре эсхатологии.
Так, одним из центральных вопросов философии Флоренского является проблема трансценденции как перехода границы между реальным и идеальным. «Реальное» и «идеальное» (или «феноменальное» и «ноуменальное») являются фундаментальными онтологическими категориями, их дихотомия, порождает гносеологическую проблему способа и формы описания ноуменального языком рационалистической метафизики. Проблема заключается в том, что ноуменальное по сути своей не может быть адекватно схвачено вербальным знанием, так как, находится вне сферы феноменального, описываемого пространственно-временной логикой причинно-следственных связей (отсюда образность религиозной и мифологической эсхатологической символики). Связь идеального и реального есть антиномия. Для ее разрешения в рамках рационалистической метафизики было предложено несколько способов решения, например: концепция предустановленной гармонии Лейбница, идея «беспричинных» следствий Шопенгауэра («Об очевидном узоре в судьбе человека»), сочетание теорий «двойных причин» и «двойных эффектов» у Н.О. Лосского266, идея синхроничности (нем. – synchronizitt) К.Г. Юнга267.
Флоренский, в свою очередь, разрабатывает теорию «мнимости», как некоего следствия, возникающего на границе трансцендентального перехода из реального в идеальное. Для его обозначения философ использует термин
На основании наблюдений за композицией сновидения философ заключает, что время во сне имеет обращенный или мнимый характер. Это положение является развитием идеи Карла Дюпреля о мгновенном времени сновидения, когда сновидец за ограниченное время сна может прожить в сновидении целую жизнь. Обращая на это внимание, Флоренский рассуждает о возможности «…времени течь с бесконечной скоростью и даже, выворачиваясь через себя самого, по переходе через бесконечную скорость, получать обратный смысл своего течения. … Время действительно может быть мгновенным и обращенным, от будущего к прошедшему, от следствий к причинам, телеологическим, и это бывает тогда, когда наша жизнь от видимого переходит в невидимое, от действительного – в мнимое»271.
Вывод об обратном времени сновидения мыслитель делает на основании того, что часто причиной пробуждения человека служит какое-либо внешнее событие (например, звуковое воздействие), которое в преломленном виде представляется последним событием сна. Причем внутри сна последнее событие выглядит как логичное окончание развития всего сна. Получается так, как будто вся причинно-следственная цепь сновидения, начиная с первого события в сценарии сна (первопричины) развивалась именно так, чтобы в его конце, последнее его событие (следствие) логично перекликалось с внешней причиной пробуждения (например, хлопок двери в реальности преломляется во сне в звук выстрела). Этому возможны две интерпретации: либо прошлое детерминируется будущим, т.е. в пространстве сновидения действует телеологическая причинность, либо, вообще, в сновидении будущее совпадает с прошлым, т.е. в нем нет привычного нам физического времени. Последний вывод удобно выразить языком структурализма: с точки зрения бодрствования – «диахронического» времени, весь сценарий сновидения занимает один миг, все его содержание представляет собой «синхронию» – пространство событий, лежащее за границей физической реальности (срез одновременных событий «перпендикулярен» их истории развития во времени). Обе интерпретации взаимно дополняют друг друга. Представления об обращенном времени (инверсированной, телеологической причинности) в целом свидетельствуют о трансцендентальном переходе духа из одного измерения реальности (диахронии) в другое (синхронию). Обращенность времени, т.е. причин и следствий, представляет собой распространенный эсхатологический признак (наравне с неведением умершего о собственной смерти в первый момент)272. Обратное, мнимое, время является полем действия телеологической причинности, связывающей события целесообразностью и смыслом (синхрония по Юнгу), но не пространственно-временной причинностью нашего мира. лишением сна новиция274. Что позволяет поставить в один синонимический (эсхатологический) ряд такие феномены как: смерть, инициацию, сон. Все три присутствуют в «Божественной комедии» Данте, где путешествие героя в загробный мир начинается с некоего невнятного состояния, наподобие сна: «Не помню сам, как я вошел туда, / Настолько сон меня опутал ложью, / Когда я сбился с верного следа / … / Так и мой дух, бегущий и смятенный, / Вспять обернулся, озирая путь, / Всех уводящий к смерти предреченной» (Ад, Песня I, строки 10-12; 25-27). Именно к нему обращается Флоренский в девятой главе своей книги «Мнимости геометрии»275, анализируя представления о пространственности средневекового мира, мировоззрение которого разделяет (в русской религиозной философии существовало целое течение, превозносившее идеалы средневековья, одним из самых известных представителей которого был Л.П. Карсавин). Исходя из средневековых представлений, философ отстаивает идею конечности мироздания, его замкнутости в пространстве и времени. Для подтверждения данного тезиса он обращается к научной аргументации: «Ф. Клейн указал, что сферическая плоскость обладает характером поверхности двусторонней, а эллиптическая – односторонней. … Мировое пространство должно быть мыслимо именно как пространство эллиптическое, и признается конечным, равно как и время, – конечное, замкнутое в себе»276. Те же положения философ видит и у автора четырнадцатого века. Анализ пути Данте-рассказчика и Вергилия (в результате которого Флоренский приходит к заключению, что пространственность, описанная в книге, представляет собой одностороннюю поверхность), философ начинает уже с критики самой иллюстрации к «Божественной Комедии». Она, по его словам, не отвечает повествованию произведения: «чертеж не соответствует ни повествованию