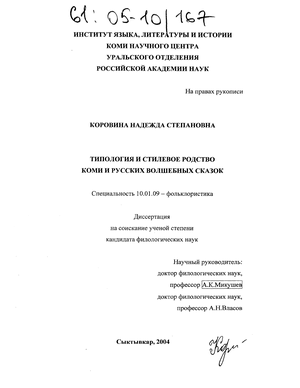Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА I. Коми-русские сказочные связи в устной традиции 21
1.1. Сюжетно-тематический фонд коми волшебных сказок (общая характеристика) 21
1.2. Типология взаимодействия коми и русских сказок 24
ГЛАВА II Коми сказка и русская книжная традиция 56
2.1. Устные коми версии русских лубочных сказок... 59
2.1.1. Устные сказки о Бове-королевиче в коми фольклорной традиции 59
2.1.2. Устные сказки о Еруслане Лазаревиче в коми фольклорной традиции 75
2.2. Коми версии «вторично» фольклоризируемых сказок 85
ГЛАВА III. Коми сказки о богатырях русского эпоса 94
3.1. Специфика локальных традиций 95
3.1.1. Коми сказки о богатырях русского эпоса в устной традиции Удоры 95
3.1.2. Коми сказки о богатырях русского эпоса в устной традиции Ижмы 108
3.2. Коми сказки и богатырях русского эпоса и книга 114
3.2.2. Коми сказки о богатырях русского эпоса в творчестве сказочника И.И.Игушева 114
3.2.3. Коми сказки о богатырях русского эпоса и лубок 130
ГЛАВА IV Опыт сопоставления коми и русской сказки (стилистические аспекты) 136
4.1. Инициальные (начальные) формулы 137
4.2. Финальные (заключительные) формулы 156
4.3. Медиальные (серединные) формулы 174
Заключение 210
Приложения 216
Литература 218
Список сокращений 240
- Сюжетно-тематический фонд коми волшебных сказок (общая характеристика)
- Устные сказки о Бове-королевиче в коми фольклорной традиции
- Коми сказки о богатырях русского эпоса в устной традиции Удоры
- Финальные (заключительные) формулы
Введение к работе
Актуальность темы исследования
В науке последних десятилетий активно разрабатываются вопросы сравнительного изучения фольклора. Из всего многообразия проблем на первый план в настоящее время выдвигается вопрос о типологии контактных связей в фольклоре в ее соотношении с типологией связи между этносами. Актуальность указанной проблемы становится все более значимой, поскольку в научный обиход включается многоязычный фольклорный материал, расширяется география фольклорных явлений в их многообразии и разностадиальности.
В этом контексте несомненными перспективами обладают исследования, основанные на анализе конкретных жанровых систем в самых широких межэтнических границах, с акцентированием внимания на общем, сходном и специфическом, отличном.
В исследовании процессов заимствования и освоения чужого фольклора особый интерес представляет сравнительное изучение коми и русских сказок. Анализ фольклорных произведений народов, не родственных этнически, но тесно общавшихся на протяжении длительного времени, может многое дать для уяснения границ и возможностей взаимодействия, степени проницаемости национального фольклора.
Методология и методы исследования
Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являются труды ведущих российских фольклористов (М.К.Азадовский, В.П.Аникин, А.М.Астахова, Л.Г.Бараг, В.М.Гацак, К.Е.Корепова, Е.А.Костюхин, Н.В.Новиков, Ю.А.Новиков, Э.В.Померанцева, В.Я.Пропп, Б.Н.Путилов,
К.В.Чистов), научные исследования финно-угорских ученых (Т.Г.Владыкина, В.Я.Евсеев, С.С.Сабитов, А.И.Маскаев, К.А.Четкарев, Т.А.Шуклина, Г.Н.Шушакова, Д.Я.Яшин), работы по изучению коми сказок (А.К.Микушев, Ф.В.Плесовский, И.А.Плосков, Ю.Г.Рочев).
Исходя из предмета и цели исследования, основополагающим
принципом подхода к материалу является комплексный метод,
включающий сравнительно-исторический, структурно-
типологический, текстологический, поскольку изучение типологии контактных связей в фольклоре, во всем многообразии и во всей сложности современной проблематики, невозможно без самого широкого и систематического сравнительного анализа, без соотнесения изучаемых явлений со сравнительными данными, без выявления и изучения фактов повторяемости, в конечном счете - без установления общих закономерностей и специфических особенностей.
Степень изученности проблемы
В настоящее время указанные выше методы можно считать широко признанными и глубоко освоенными отечественной фольклористикой.
Программной в сравнительно-историческом изучении сказки стала статья В.М.Жирмунского «К вопросу о международных сказочных сюжетах» [62]. Развивая тезис о разной проницаемости различных фольклорных жанров для международных влияний на разных ступенях исторического процесса, исследователь подчеркивает способность сказки "переходить от народа к народу и перевоплощаться в национальные формы, сохраняя международную структурную основу" [62, с.283]. Эти качества сказки обусловлены, "с одной стороны, занимательностью ее содержания, волшебного
или анекдотического, отсутствием в ней специальных национально-исторических и географических приурочений... с другой стороны, ее прозаической формой, облегчающей пересказ с одного языка на другой и одновременно творческие подстановки, связанные с местным колоритом, с приспособлением к другой национальной среде" [Там же, с.284].
Большой вклад в теоретическое осмысление проблем сравнительного изучения фольклорных произведений был сделан Б.Н.Путиловым. Его монография "Методология сравнительно-исторического изучения фольклора" [146] посвящена выяснению роли и места сравнительно-исторического метода в современных исследованиях по фольклору. Основное внимание уделено в ней вопросам формирования историко-типологической теории изучения фольклора. Работа построена на основе обобщения теоретического опыта российской фольклористики последних десятилетий.
Проблемы изучения конкретно-национального и общего в фольклоре рассматриваются В.М.Гацаком [42]. В своей работе он справедливо указывает на опасность преждевременной типологизации и убеждает в необходимости большего внимания к особенному, неповторимому, отдельному.
В.М.Гацак, также как и В.М.Жирмунский и Б.Н.Путилов, подчеркивает историко-типологический характер сходных явлений: "... общность в фольклоре группы народов - явление историческое. Она способна объединять народы, не родственные в языковом, этническом отношении, что сказывается в появлении новых общностей в соответствующих условиях" [42, с. 192-193].
Наряду с изучением теоретических проблем сравнительной фольклористики в последнее время усилился интерес к исследованию типологии отдельных жанров, в том числе сказок.
Черты историко-типологической общности самой различной степени выявляются на разных уровнях сравнения - в сюжетике, образности, эстетике, жанровой специфике.
К примеру, статья Э.В.Померанцевой "К вопросу о национальном и интернациональном в народных сказках" [136] посвящена типологическому исследованию одного сказочного сюжета. Сказочный тип "Неверная жена" анализируется в работе через детальное рассмотрение нескольких национальных версий -русской сказки о Николе Дупленском, белорусской и украинской, западно- и южнославянских, индийских и др. Во всех случаях не просто выявляется национальная специфика этих версий, но показывается закономерность типологического развития, намечаются последовательные этапы складывания сказки на национальной почве. Автор работы на конкретном материале показывает, что интернациональное начало в каждой фольклорной традиции неизменно проявляется в сугубо национальных формах.
В статье "Молдавско-русско-украинские интерференции в сказке" [43] В.М.Гацак один из первых вводит в научный оборот понятие интерференции, как специфического типа фольклорных взаимосвязей. По мнению автора, интерференция чаще всего наблюдается "в зонах постоянного соприкосновения этносов, где взаимопроникновению культур в значительной мере способствует двуязычие" [43, с.47].
В статье "Сказка и типология культурных контактов" [87] Е.А.Костюхин выделяет три типа контактов, следствием которых оказывается взаимодействие сказок: между родственными народами, между соседями, принадлежащими к разным языковым группам, и между соседями, культурные традиции которых разнятся. Анализируя каждый из этих типов, на примере сказок о животных,
исследователь приходит к выводу, что "сюжеты... не вступают между собой в изолированные контакты - взаимодействуют традиции и репертуары. При этом как раз и оказывается, что взаимодействие это бывает разных типов и по-разному реализуется: то в интенференции, то в сотворчестве, то в ассимиляции сюжетов в духе собственной традиции" [87, с. 13].
Изучение вопроса о типологии контактных связей в сказках требует в целом многостороннего подхода.
В известной работе «Сказительство и книга» М.К.Азадовский замечает: «... изучение многих генетических вопросов русской сказки успешно продвинется тогда, когда более отчетливо будет определен состав и характер этой, захваченной в позднейшем периоде сказки, т.е. когда более отчетливо будут определены все позднейшие наслоения и влияния. Одним из важнейших моментов в этом подлежащем исследованию цикле вопросов является проблема взаимоотношения сказки и книги... вопросы о книжных источниках» [3, с.26].
Проблеме типологии книжных заимствований в последние годы в русской науке уделяется достаточно большое внимание. Большое значение с точки зрения разработки методики перехода книжного сюжета в устную традицию представляют исследования В.Д.Кузьминой, Л.Н.Пушкарева.
Работы В.Д.Кузьминой [92, 93] посвящены выявлению
национально-исторической, художественной специфики
произведений древнерусской переводной литературы, в частности, повестей о Бове-королевиче, Петре Златых Ключей, о царевне Персике. Автором исследованы вопросы генезиса этих произведений, эполюции персонажей, стиля. В.Д.Кузьмина в своих работах не ограничилась анализом одной из форм бытования сказок
литературного происхождения - письменной, но проследила жизнь этих сюжетов в рукописи, лубке, устной традиции.
Большой вклад в исследование литературной истории одного сюжета внес Л.Н.Пушкарев [149]. В центре его исследования -сказка о Еруслане Лазаревиче, зафиксированная в древних сказаниях, рукописных сборниках, в устной традиции (сказке, былине). Автор на большом фактическом материале проследил судьбу сказки с момента ее появления в рукописных сборниках начала XVII в. и до последних по времени записей (60 г. XX в.) устных вариантов, выявил как общие, так и частные ее особенности, определил национальную специфику. Рассматривая пути эволюции сказок о Еруслане Лазаревиче, Л.Н.Пушкарев выявляет сложные процессы взаимовлияния устной и литературной традиций. При этом важное место в его исследовании занимает вопрос о роли и месте лубка в истории русской литературы. Если ранее ученые рассматривали лубок как один из путей перехода книжного сюжета в устную традицию, то Л.Н.Пушкарев доказал, что этот путь -основной. Если все предыдущие исследователи лубка, как правило, давали ему однозначную оценку - положительную или отрицательную, то Л.Н.Пушкарев призвал подходить к этому явлению русской литературы дифференцированно, учитывая время его возникновения, среду распространения и т.д.
Широкий научный резонанс вызвала вышедшая в 1999 году монография К.Е.Кореповой «Русская лубочная сказка». Основное значение этого исследования состоит в том, что, используя методику текстологического анализа, исследовательница выявила основные редакции лубочных текстов наиболее популярных сказок, установила их генеалогическое соотношение, что позволило
обнаружить многочисленные факты прямого влияния лубочных изданий на устную традицию, прежде всего - на творчество крупнейших мастеров-сказочников нового времени. Появляются работы, в которых проблема «Сказочник и лубочная книга» рассматривается на конкретном национальном материале (Н.Ф.Онегина- 124, И.В.Сабитова- 156).
Проблемы взаимовлияния былины и сказки давно стали предметом специального изучения (работы Ор.Миллера [109], Вс.Миллера [108]). О соотношении былинной и сказочной традиций на примере изучения былин сказочного происхождения писал В.Я.Пропп в монографии "Русский героический эпос" (1958). Вопросы взаимовлияния былинной и сказочной традиций неизменно остаются в поле зрения исследователей фольклора и в настоящее время. Этой проблеме посвящена специальная монография А.М.Астаховой [10]. Исследовательница подробно изучила идейно-художественную природу подобных сказок, которая, по ее мнению, неразрывно связана с такими вопросами теории и истории фольклора, как судьба былинных сюжетов, жанровая специфика, место и роль сказок о богатырях русского эпоса в общей поэтической культуре не только русских, но и многих других народов. Об особенностях карельских сказок на былинные сюжеты неоднократно писал В.Я.Евсеев [53, 54].
За последние годы появился целый ряд теоретических работ, посвященных былинной традиции, созданы новые методики исследований. К их числу можно отнести монографию Ю.А.Новикова «Сказитель и былинная традиция» (2000), а также подготовленный им же указатель «Былина и книга» (2001).
В последнее время все больший исследовательский интерес вызывает стилистическая стереотипия сказки. И хотя разработка
данной проблемы уже имеет свою историю, она тем не менее
продолжает интересовать исследователей и не утрачивает
перспективности. Из всей стилистической стереотипии наиболее
детально изучены формулы волшебной сказки. Самой крупной
теоретической работой в этой области остается исследование
Н.Рошияну [154]. На материале, главным образом, румынской
сказки, а также сказок некоторых славянских, западно-европейских
и восточных народов Н.Рошияну проанализировал состав формул
(их элементы), определил их функции. Основное внимание
исследователь уделил инвариантным моделям формул. Формулы
русской сказки с точки зрения их структуры рассмотрела в своих
работах Н.М.Герасимова [45, 46]. Много интересных наблюдений и
замечаний о структуре, функциях, варьировании стилистических
формул восточно-славянской сказки содержат исследования
Л.Г.Барага [14], Н.В.Новикова [120]. Особенности
функционирования системы стилистической стереотипии русской волшебной сказки рассмотрены в монографии И.А.Разумовой [150].
Что касается проблем коми-русских фольклорных связей, то следует отметить, что они наиболее обстоятельно проанализированы применительно к эпосу (А.К.Микушев); лирике (А.К.Микушев, В.В.Филиппова); устной прозе (П.Ф.Лимеров, В.М.Кудряшова).
Тем не менее эти вопросы остаются недостаточно изученными в жанре коми сказки, хотя особенности межнациональных отношений с особой наглядностью проявляются именно в этом прозаическом фольклорном жанре, характеризующегося высокой проницаемостью и наиболее развитом практически у всех народов, в том числе и у коми. Вот почему объектом данного исследования выбрана одна из разновидностей сказки - волшебная.
В Научном архиве Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (Коми НЦ УрО РАН) хранится более 500 текстов волшебных сказок, что составляет около 70% общего коми сказочного фонда. Собранный фольклорный материал свидетельствует о развитой сказочной традиции, наличии большого количества одаренных исполнителей народных произведений.
Впервые коми сказки были опубликованы в 1850 г. в приложении к «Грамматике зырянского языка» П.И.Савваитова. Из четырех опубликованных - одна волшебная. Называлась она «Олас-вылас cap гозъя» (Жил-был царь со своей женой). Еще три коми сказки (в т.ч. одна волшебная) были напечатаны в 1889 г. в книге Г.С.Лыткина «Зырянский край при епископах Пермских и зырянский язык».
Первый сборник коми сказок - «Коми мойдкывъяс» (Коми сказки) был подготовлен в 1913 г. энтузиастом-собирателем, усть-сысольским учителем А.А.Цембером. В 1914 г. им же был составлен еще один - «Коми мойдан и сьыланкывъяс» (Коми сказки и песни). В два его издания вошла 31 сказка, 11 из них - волшебные. Богатством сказочного материала отличаются сборники, подготовленные П.Г.Дорониным: «Фольклорной сборник» (Фольклорный сборник, 1938), «Важ коми мойдъяс» (Старинные коми сказки, 1950), а также Д.Фокошем-Фуксом [234, 235], Ю.Вихманом [236], Т.Уотилой [237].
Несмотря на то, что указанные издания не имеют научного комментария к текстам, во многих из них отсутствуют сведения о месте записи, об информаторах (сб. Цембера, Доронина), они важны как факт фиксации материала.
Важным событием в коми фольклористике XX в. стал выход в 1941 г. сборника И.А.Осипова «Висер вожса сьыланкывъяс да мойдкывъяс» (Песни и сказки Вишеры). Составлен он по географическому принципу и характеризует собой локальную традицию небольшой части Корткеросского р-на - поселений, расположенных по Вишере и Вычегде, включая села: Богородск, Большелуг, Сторожевск, Нившеру. Кроме песен и причитаний на правах отдельного раздела в нее включены 20 сказок (в т.ч. 9 волшебных).
Сборнику предпослана вступительная статья, подготовлен научный комментарий к текстам, указаны сведения об исполнителях. И.А.Осиповым было сделано все то, «что до него не удавалось ни одному коми фольклористу» [190, с.233]. Этот сборник остается одним из лучших и в настоящее время.
Неоценимый вклад в дело собирания и изучения коми сказки был внесен известным коми фольклористом Ф.В.Плесовским. Во время многочисленных фольклорных экспедиций им был собран уникальный сказочный материал, многое из которого вошло в сборники, подготовленные ученым: «Коми мойдъяс, сьыланкывъяс да пословицаяс» (Коми сказки, песни и пословицы, 1956), «Коми мойдъяс да сьыланкывъяс» (Коми сказки и песни, 1963), «Коми мойдъяс» (Коми сказки, 1966).
Сборник А.К.Микушева «Ипатьдорса фольклор» (Фольклор села Ипатово, 1980), посвященный творчеству талантливой коми сказительницы Анастасии Шуктомовой, является пока единственным коми изданием, где рассматривается мастерство отдельного исполнителя.
В 1991 г. вышел сборник «Коми мойдъяс» (Коми сказки), подготовленный Ю.Г.Рочевым. Из 51 сказок, включенных в нее, 40
- волшебные. Сборник отличается от других упомянутых публикаций хорошо подготовленным научным аппаратом: включенные в нее сказки идентифицированы по СУС, отмечены также их сюжетные особенности (наличие контаминации и т.д.).
К сожалению, надо признать, что издания претерпели литературную обработку составителей, и до настоящего времени нет пока ни одного научного (академического) издания текстов.
Первой коми сказковедческой работой принято считать магистерскую диссертацию К.Ф.Жакова «Народная словесность зырян и русская сказка», получившую в 1901 г. высокую оценку со стороны русских фольклористов - А.Соболевского и И.Жданова. В этой работе дана первая классификация коми сказкок. К.Ф.Жаков распределил их по четырем группам: 1) те, которые ярко выражают историю, занятия, природу местности; 2) сказки, заимствованные от тюркских племен; 3) сказки, заимствованные от русских; 4) те, которые рисуют народный взгляд зырян на «князя тьмы», на грешников божиих. Далее исследователь замечает, что «большинство зырянских сказок заимствовано, и они не могут выражать душу коми крестьянина, который ведет изолированную от общества жизнь в лесу» (АРГО. Р.53. Оп.1. Ед. хр. 91. Л.7-8). В основу этой классификации, по мнению коми ученых, «легла авторская концепция о соотношении реального и идеального, о преломлении природных условий быта в «мистицизме» древних создателей произведений фольклора» [73, с.22].
Выдвинутая К.Ф.Жаковым концепция так или иначе проявлялась и в других его фольклористических исследованиях, в частности, в еще одной сохранившейся рукописной работе ученого «О зырянских сказках» (АРГО. Р.53. оп.1. Ед.хр.118), а также в
публикации «Зырянские сказки», изданной в журнале «Живая старина» за 1908 год.
Несомненно, сказочный материал был в поле зрения и таких известных исследователей, как А.Н.Грен [48], А.С.Сидоров [163], Г.А.Старцев [170]. Однако специальных исследований, посвященных изучению собственно коми сказки, у этих авторов нет.
Интерес представляет вступительная статья, написанная И.А.Осиповым к сборнику «Песни и сказки Вишеры», где отмечается, что большинство коми сказок имеют русские варианты, при этом автор утверждает, что даже в «переделках» и «переработках» заимствованных произведений выражается национальный характер. Составитель сборника также писал о лубочных сказках, о книжном происхождении некоторых текстов [190, с.11-16].
К специальным исследованиям по коми сказке относится кандидатская диссертация Ф.В.Плесовского «Сказки народа коми», защищенная им в 1951 г. Большое место уделяется в ней вопросам источниковедения: истории собирания и изучения фольклора народа коми, особенностям бытования сказок, затрагиваются проблемы исполнительского мастерства коми сказочников; рассматриваются в ней и вопросы «идейно-социального» содержания сказок (с поправкой на время). Одна из глав, например, называется «Отражение классовой борьбы в коми сказках». Однако следует отметить, что основные вопросы, которым посвящена работа, касаются проблем генезиса и истории фольклорных образов, актуальных в отечественной фольклористике в 50-60-х годах XX в., и особенно характерных для разработок ученого-сказковеда В.Я.Проппа и его школы. Именно в этом русле развивалась творческая мысль его ученика, о чем свидетельствуют дальнейшие
его публикации [130, 131, 132], а также рукописная монография "Социальные основы волшебной сказки" (НА КНЦ. Ф.1. Оп.П. Д.280-284).
Анализ сказочных образов в этих работах проводится на широком этнокультурном фоне, привлекаются археологические материалы - например, предметы пермского звериного стиля (со сложными зооморфными и зооантропоморфными образами, запечатленными в художественном металическом литье). Однако теория происхождения некоторых сказочных образов столь привлекательная для фольклористов и этнологов, до настоящего времени остается в сфере гипотетических предположений. Так, материал других пермских народов не подтверждает однотипность эволюции одного из сказочных персонажей - Гундыра. Творческое наследие Ф.В.Плесовского требует в настоящее время глубокого осмысления и осторожного отношения к его окончательным выводам.
В последние 10-15 лет фольклористы обращались к различным аспектам коми сказки. В ряде работ рассматриваются вопросы историографии (А.К.Микушев - 111; Ю.Г.Рочев и И.А.Плосков -151; образной системы (И.А.Плосков - 133, 134); символики цвета (О.И.Уляшев - 178); анализируются сюжетные типы (Ю.Г.Рочев -152; В.М.Кудряшова - 91) коми сказок.
К числу неисследованных в полной мере можно отнести проблемы формирования сюжетного фонда коми волшебной сказки, ее стилевых особенностей.
Именно этим обусловливается цель настоящего диссертационого исследования: изучение роли русской сказочной
традиции в формировании сюжетного состава и стилистической обрядности коми волшебной сказки.
Достижение цели предусматривает решение следующих задач:
- исследование типологии культурных контактов в сказках
коми и русского народов не родственных этнически, но имеющих
близкие культурные традиции. Решение этой задачи имеет ряд
конкретных аспектов:
- определение и характеристика закономерностей коми-
русских сказочных связей в устной традиции;
определение роли русской народной книги, в частности, лубочной, в формировании сюжетного состава коми сказки;
анализ влияния севернорусской устной эпической традиции на формирование коми сказок о богатырях русского эпоса;
выявление общих черт и своеобразия традиционных формул коми сказок в сопоставлении с русскими.
Постановкой этих задач определяется и структура диссертации.
В первой главе особое внимание уделено выявлению и анализу основных типов взаимодействия традиционных сказочных сюжетов двух соседних народов, относящихся к разным языковым группам, но имеющих близкие культурные традиции.
Во второй главе диссертации рассматриваются две группы коми сказок, так или иначе связанных с русской книгой. В первом параграфе анализируются тексты, в основе которых лежат сюжеты переводных рыцарских повестей и романов (сказки о Бове-королевиче и Еруслане Лазаревиче), во втором - исследуются коми
версии вторично фольклоризируемых сказок («Жар-птица», «Сивко-Бурко», «Царевна-лягушка»).
Для выявления особенностей устной коми сказки, возникшей на основе книжного произведения, ее варианты сопоставляются с различными редакциями лубочных изданий, по возможности устанавливается непосредственный источник этих вариантов, выявляются особенности при жанровом преобразовании лубочного текста в устную сказку.
В третьей главе диссертации на основе обследования коми сказок о богатырях русского эпоса предпринята попытка, во-первых, вычленить те элементы содержания, которые связаны с влиянием севернорусской устной эпической традиции (рассмотрен этот вопрос на основе удорских и ижемских сказок, поскольку в текстах, записанных именно в этих районах, следы влияния устной эпической традиции видны наиболее ярко), во-вторых, выявить зависимые от книги тексты, определить степень и характер этой зависимости (рассмотрена эта проблема на основе анализа творчества удорского сказочника И.И.Игушева и сказки И.М.Мезенцева из Троицко-Печорского р-на).
В четвертой главе диссертации предпринята попытка выявить общий перечень традиционных формул коми сказки, установить их разновидности, определить их роль в создании образов сказочных персонажей, их место в композиции сказки.
Источники
Основной текстологической базой исследования послужили
материалы фольклорно-этнографических, лингвистических
экспедиций в различные районы Республики Коми, хранящиеся в архивах Коми НЦ УрО РАН (85 ед.хр.), Национального музея (12 ед.хр) и Национального архива (6 ед.хр.). В работе использованы
публикации коми текстов из сборников Ю.Вихмана, А.К.Микушева, Ф.В.Плесовского, Ю.Рочева, Т.Е.Уотилы, Д.Фокош-Фукса.
Источником диссертации послужил также материал, собранный автором в ходе фольклорных экспедиций по Республике Коми и в Коми-пермяцкий национальный округ в 1985-1996 гг. В ходе архивных и полевых разысканий было выявлено и введено в научный оборот более 500 записей коми сказок.
Для сравнения использовались тексты русских сказок, опубликованные в сборниках А.Н.Афанасьева, А.Д.Григорьева, Д.К.Зеленина, И.В.Карнауховой, Н.Д.Комовской, К.Е.Кореповой, Н.В.Новикова, Б. и Ю. Соколовых, Н.Е.Ончукова, а также материалы из отдела редкой книги Российской государственной библиотеки (г.Москва).
Научная новизна исследования. Настоящая работа имеет целью обобщение результатов научных разработок по сравнительному изучению коми сказки. Новизна исследования определяется как новым материалом, так системно-концептуальным подходом к его осмыслению. В работе впервые:
коми волшебные сказки систематизированы и подвергнуты всестороннему анализу; в научный оборот введен новый материал;
рассмотрена роль русской народной книги в формировании сюжетного состава коми сказки;
предметом специального исследования становится стилевая обрядность коми волшебной сказки.
Научно-практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть полезны при написании обобщающих работ по коми фольклору, при подготовке научного (академического) издания коми волшебных сказок. Основные положения исследования использовались автором при чтении
лекций и спецкурсов на финно-угорском факультете Сыктывкарского государственного университета.
Апробация работы. Основные положения и результаты работы были представлены в качестве докладов на Всероссийской конференции «Духовная культура: история и тенденции развития» (Сыктывкар, 1991); I Всероссийской конференции финно-угроведов (Йошкар-Ола, 1994); Международной конференции «Наследие В.Я.Проппа в современной науке» (Санкт-Петербург, 1995); VIII Международном конгрессе финно-угроведов (Ювяскюля, Финляндия, 1995); Международных Рябининских чтениях (Петрозаводск, 1995); Международной научной конференции «Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственной культуры» (Сыктывкар, 1996); Всероссийской научной конференции «Духовная культура Севера» (Сыктывкар, 1998); Международной научной конференции «Коренные этносы севера Европейской части России на пороге нового тысячелетия: история, современность, перспективы» (Сыктывкар, 2000); Февральских Чтениях Сыктывкарского госуниверситета (2001, 2002). По теме диссертации опубликовано 29 работ, в том числе хрестоматия «Коми фольклор» для учащихся школ и студентов (в соавторстве).
Сюжетно-тематический фонд коми волшебных сказок (общая характеристика)
Своеобразие сказочной традиции любого народа, прежде всего, проявляется в ее сюжетном составе. Вот почему в настоящем разделе предпринята попытка охарактеризовать сюжетно тематический фонд коми волшебных сказок. В основу систематизации и классификации сюжетов положен «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка» (СУС). Как отмечает И.Г.Левин: «Само соотнесение сюжета с повествовательным типом, имеющим ... свою географию и историю, уже определяет место и своеобразие ... текста в региональном и, далее, в мировом сказочном репертуаре» [214, с.550].
Обращение к СУС вызвано практическими соображениями. С одной стороны, это помогает ориентироваться в имеющемся коми материале, с другой, - облегчает его сравнение с русскими сюжетами. Как известно, любой указатель сказочных типов является, прежде всего, справочным каталогом, неизбежность его использования обусловлена тем, что пока не найдена более совершенная система классификации сказочного материала.
Идентификация по СУС показывает, что коми сказочный репертуар довольно разнообразен, в нем представлены практически все тематические разделы, выделенные в указателе. Приводимый список дает представление о составе репертуара: СУС 300-399 Чудесный противник - 26 типов. СУС 400-459 Чудесный супруг (супруга или иной родственник) - 11 типов. СУС 460-499 Чудесная задача - 8 типов. СУС 500-559 Чудесный помощник - 21 тип. СУС 560-649 Чудесный предмет - 10 типов. СУС 650-699 Чудесная сила или знание (умение) - 11 типов. СУС 700-749 Прочие чудесные мотивы - 12 типов. Как видно из списка, распространенность сюжетных типов различна. Наиболее часто встречаются сюжеты из раздела «Чудесный противник», причем, особенно популярны: «Чудесное бегство» - СУС 313 А, В, С (15), «Звериное молоко» - СУС 315 (15), «Победитель змея» - СУС 300] (10), «Медведь (леший, чародей, разбойник) и три сестры» - СУС 311 (10), «Три подземных царства» - СУС 301 В, В (7), «Солдат находит исчезнувшую царевну» - СУС 301 Д (7). В количественном отношении выделяется также раздел «Чудесный помощник», в том числе следующие сюжеты: «Сивко-Бурко» - СУС 530 (13), «Кот в сапогах» - СУС 545 В (9), «Молодильные яблоки» - СУС 551 (6), «Медный лоб» - СУС 502 (5). В коми сказочном фонде имеется и довольно большое количество сказок о чудесном супруге или родственнике: «Девушка на службе у ведьмы» - СУС 428 (7), «Муж - рак (лягуша, жаба, уж, змей, червячок)» - СУС 440 (6), «Братец и сестрица» - СУС 450 (6), «Благодарный мертвец» - СУС 507 (6), «Финист - ясный сокол» -СУС 432 (5). Тематический раздел «Чудесная задача» включает в себя небольшое количество сюжетных типов (всего 8), но многие из них имеют довольно большое количество вариантов. Так, например, зафиксировано 18 сказок на сюжет «Мачеха и падчерица» - СУС 480, 480 . Довольно популярны также сказки на сюжет «Красавица-жена» - СУС 465 А (8), «Марко Богатый» - СУС 461 (4). В разделе «Прочие чудесные мотивы» чаще всего встречаются сюжетные типы: «Безручка» - СУС 706 (7) и «Чудесные дети» -СУС 707 (7). Большой известностью пользуются среди коми исполнителей сказки об Илье Муромце, Еруслане Лазаревиче (раздел «Чудесная сила или знание умение»); сюжетные типы: «Диво-дивное» - СУС 571 (4), «Чудесные дары» - СУС 563 (3) - из раздела «Чудесный предмет». В сюжетно-тематическом фонде коми волшебных сказок встречаются и варианты редкие даже для русской сказочной традиции: «Скорый гонец» - СУС 665 (в СУС зафиксировано 4 варианта, у коми - 3); «Воспитанник лешего» - СУС 667 (в СУС - 2, у коми - 1), а также «Свиной чехол» - СУС 510 В (2), «Братья-вороны» - СУС 451 (1), «Мать-рысь» - СУС 409 (1). В целом же, коми сказочный фонд по своему составу, разработке сюжетов, стилю примыкает к севернорусской традиции. Во вступительной статье к сборнику «Фольклор народа коми» А.А.Попов отмечает: «Если сопоставить коми сказки со сказками из собраний Зеленина, Иваницкого, Ончукова, то факт взаимопроникновения сюжетов можно определить совершенно отчетливо» [228, с.26]. Примером может послужить сопоставительный анализ сюжета «Чудесные дети» (СУС 707). Во всех коми сказках данного типа героиня обещает родить три раза по три сына. Подобные обещания встречаются в основном в вариантах, записанных в Карелии и на Севере. В большинстве известных русских сказок героиня обещает родить одного сына-богатыря или двух сыновей и одну дочь, семь сыновей и т.д. Противниками героини во всех коми сказках, а также в некоторых севернорусских, выступает баба-яга (у коми - Ёма, у карел - Сюоятар), она трижды подменяет сыновей царицы, тогда как в известных русских сказках противниками, большей частью, являются сестры героини. Сын царевны в коми сказках отправляется на поиски братьев с колобками, испеченными на материнском молоке. Подобный мотив встречается, в основном, в русских сказках, записанных на Севере.
Сказка «Миколай Чудотворец» (СУС 507 «Благодарный мертвец»), записанная М.А. Сахаровой в 1942 г. в д. Верхозерье Удорского р-на от Е.В.Артемьевой (НА КНЦ. Ф.1. Оп.П. Д.64. Л. 175-180), как и целый ряд севернорусских сказок, имеет следующую основу построения: герой покупает заложенную икону, таким образом приобретает чудесного помощника, который нанимается к нему корабельщиком, а затем помогает справиться с колдовскими чарами мертвой царевны, встающей из гроба. Для данной записи характерен легендарный налет: волшебный помощник впоследствии оказывается Николаем Чудотворцем, который, как известно, является одним из наиболее популярных святых как на Русском Севере, так и у коми. Сходство сюжетов можно объяснить длительными культурными контактами коми с русскими в районах, где особенно хорошо сохранились традиции сказочного эпоса восточных славян.
Устные сказки о Бове-королевиче в коми фольклорной традиции
Истоки устных сказок о Бове-королевиче лежат в рыцарской поэме о Бэве, созданной в XII в. во Франции. Через итальянские источники при посредстве южнославянской и белорусской версий в XVI в. она появилась на Руси в виде рукописных повестей. В XVIII в. сказка о Бове перешла в лубок и стала одной из наиболее распространенных лубочных изданий в России. С 1760-х годов по 1918 г. она вышла более чем в 200 изданиях, в виде русских лубочных книжек, листов разошлась в миллионах экземпляров по всей территории России, стала достоянием разных народов, сохранилась в живой традиции до наших дней [см. 92, с. 107].
Материалом исследования в данном разделе стали пять вариантов коми сказки о Бове-королевиче, основой для которых послужили различные русские лубочные издания.
Установление книжного источника является отправной точкой при анализе устных сказок подобного типа. Как известно, в процессе взаимодействия с устной традицией обычно исчезают элементы психологизма, многочисленные описания пейзажа, портретов, характерные для книжных произведений, поэтому определить конкретный источник коми сказок довольно трудно, но в то же время сохраняются эпизоды и авторские детали, не имеющие этнографических корней, не принадлежащие к общесказочной традиции. Порой только они позволяют определить источник (служат как бы «мечеными атомами») [82, с.42].
В варианте сказки, записанном в 1980 г. автором работы в д.Муфтюга Удорского р-на от И.И.Игушева, таким «меченым атомом» является эпизод боя Бовы-королевича с Полканом.
В тексте сказки сборника «Дедушкины прогулки» рассказывается, что Бова, вооруженный мечом, на своем богатырском коне выехал против Полкана. Тот вырвал «из корню дуб и ударил Бову по голове, а Бова хотел ударить Полкана мечом, но промахнулся, и ушел меч до половина в землю, и Бова свалился с доброго коня на землю. Полкан сел на доброго коня, иноходца Бовина, а конь начал его мыкать по лесам и буеракам и ободрал у Полкана все мясо до костей, и примчал к шатру чуть жива» [191, с.62]. После этого происходит примирение и братание богатырей.
А вот как описан этот эпизод у удорского сказителя: «А Полкан-полбес сломал дуб, схватил его за верховину и идет на Бову-королевича. Бова-королевич тоже едет ему навстречу. Да как ударит Бову-королевича дубом - тот с коня прочь упал. Упал и саблю сломал. А конь к хозяину не подпускает, хоть и Полкан-полбес пытается подойти. Полкан-полбес испугался, бросился на коня. Бросился на коня, да конь его помчал в лес. Конь его начал мыкать по лесам, сквозь ветки деревьев скачет. Ветки и спину, и все бока исполосовали у Полкана-полбеса». По сведениям В.Д.Кузьминой, во всех более поздних лубочных сказках Бова поражает Полкана копьем после первого неудачного удара мечом и побеждает его. Такое изображение боя, по мнению исследовательницы, вытесняет первоначальный рассказ о неудачном исходе боя, позорном падении Бовы на землю и помощи богатырского коня [92, с.77]. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что коми сказка восходит к тексту Полной лубочной сказки, основой которому послужил текст сборника «Дедушкины прогулки» (по классификации В.Д.Кузьминой - IV тип лубочных обработок). В данном случае сказитель не мог прочесть сказку из книги, так как он с детства после тяжелой болезни ослеп. По словам И.И.Игушева, сказку он узнал от другого, грамотного сказочника из д.Тойма Удорского р-на по имени Петыр Вань (Иван Петрович, фамилию, к сожалению, установить не удалось). Второй вариант коми сказки о Бове записан Ф.В.Плесовским в 1969 г. в д.Конецбор Печорского р-на от Г.А.Ладанова. Главного героя сказки зовут Гуак Гуакович, но в целом передается сюжет сказки о Бове-королевиче. Ряд характерных деталей («меченых атомов») в данном варианте совпадает с фольклоризованной редакцией текста Полной лубочной сказки (VI тип лубочных обработок). Для этого попытаемся сравнить разработку нескольких эпизодов в вышеуказанных сюжетах. 1) Корабль, на который попадает Бова после побега из дому, прибывает в иностранное государство: Лубок «Приехавши туда, они (корабельщики - Н.К.) кинули якори и пошли в город для торговых дел. Бова же королевич начал по кораблю похаживать и в гусли поигрывать. В то время пришли присланные люди на корабль от короля Зензевея Андроновича спрашивать с чем пришел корабль. Из какого государства и кто гости корабельщики. Но когда они услышали игру Бовы-королевича и увидели красоту лица его, забыли, зачем присланы...» [227, с. 17]. Г.А.Лад анов «Кор воисны царствоо, цар ачыс эз лэччы берегб, а ьістіс служанкабс тбдмавны, коді мыйбн вузасьб. А Гуак Гуакович заводитіс ворсны сигудбкбн, ко дбс вбчис. Служанка воис и местасьыс оз вермы вбрзьыны: музыка улас йбктб» - «Когда прибыли в царство, царь сам не пошел к берегу, а послал служанку узнать, кто чем торгует. А Гуак Гуакович стал играть на волосяном гудке, который сам сделал. Служанка пришла и с места сдвинуться не может: под музыку пляшет» (НА КНЦ. Ф.1. Оп.11. Д.325. Л.259). Как видно из этих эпизодов, Бова прельщает слуг царя иностранного государства не только своей красотой (как это было в тексте Полной лубочной сказки), но и умелой игрой на гуслях (в коми варианте на сигудке). 2) Лубок «Бова, служа на конюшне королю Зензевею Андроновичу, часто езжал с товарищами в заповедные луга королевские за травою для коней, н никогда не брал с собою косы, а все Г.А.Ладанов «Гуак Гуакович ветлас турунла да зорбднас вале» - «Гуак Гуакович как сходит за сеном, целиком стог приносит» (НА КНЦ. Ф.1. Оп.11. Д.325. Л.262). рвал руками и нарывал против десяти косцов» [227, с.20]. В фольклоризованном варианте лубочной сказки Бова, как и все русские богатыри, показан как герой физического труда. При сопоставлении эпизодов можно заметить своеобразную интерпретацию источника коми исполнителем, отражающем местные особенности уклада жизни. Третий вариант сказки записан Ф.В.Плесовским в 1957 г. в с.Ужга Койгородского р-на от Ф.Е.Попова. Совпадение ряда характерных деталей (Бова, прежде чем стать слугой на корабле, попадает в руки разбойников; Милитриса, мать Бовы, жалея сына, не отравляет его, а лишь заключает в тюрьму по настоянию Додона; Дружневна подает Маркобруну сонное зелье в цветочке) позволяет отнести сказку к лубочным вариантам, в основу которой положена обработка сказки М.Ф.Исаевым. В соответствии с подобными же позднейшими переделками лубочных изданий разработан и эпизод, где Бова на вопрос царя какого он роду, отвечает: «Мой отец музыкант, а мать - прачка» (В сказке же И.И.Игушева, как и в Полной лубочной сказке, на такой же вопрос Бова отвечает, что его отец - пономарь, а мать- прачка).
Коми сказки о богатырях русского эпоса в устной традиции Удоры
В коми сказках эпизод с «разноцветной пеной» передан в трансформированном виде, но определенная связь с устным вариантом прослеживается.
Как показывает анализ, соответствий между коми сказками и былинами, записанными на Мезени, довольно много. Так, былинный сюжет «Илья и Идолище» в сказках П.В.Конанова и В.Д.Трофимова осложнен мотивом милостыни: Идолище запрещает просить милостыню ради Христа. Илья под видом калики нарушает этот запрет. Как отмечает А.М.Астахова, «особую устойчивость этот мотив получает на Мезени» [9, с.352].
Во всех четырех коми текстах, где имеется пересказ былинного сюжета о Святогоре, могучий богатырь представлен крестным Ильи Муромца. Например, в сказке З.М.Марковой, вытаскивая из своего кармана Илью Муромца, Святогор восклицает: «А-а, шуб, тэ тай Илейко Муромысь, тэ, шуб, менам вежапи» - «А, говорит, ты, оказывается, Илейко с Мурома, ты, говорит, мой крестник» (НА КНЦ. Ф.1. Оп.П. Д. 187. Л. 181). Еще один пример из сказки Е.П.Селиванова: «И Святогор босьтіс зепсьыс, аддзб - аслас вежапиыс вблбма. Миритчасны, окасясны и мбдасны тшбтш» - «И Святогор вынул из кармана, видит - его крестник там был. Помирились, обнялись и поехали вместе» (НА КНЦ. Ф.1. Оп.П. Д. 187. Л.11). Святогор назван крестным, а Илья Муромец его крестником и в былине, записанной А.Д.Григорьевым в д.М.Нисогоры от А.М.Мартынова:
Ище туть где-ка старой ему хресникъ был, Окрепилъ где-ка руку да нонь на хресного [188.С.617]. По всей видимости, коми сказочники отразили в своих произведениях детали, редко встречающиеся даже в самих былинах и характерные для узколокальной эпической традиции. В настоящее время, конечно, трудно точно определить источник возникновения сюжетов, отразивших архангело-беломорскую локальную традицию. Возможно, они усвоены удорскими исполнителями из сложившейся уже устной сказочной традиции. Однако нельзя, на наш взгляд, исключить и непосредственное влияние самих устных эпических произведений. Как известно, былин на русском языке на территории Республики Коми записано не было, а на коми языке зафиксировано всего два (незначительное количество записей былин Ф.В.Плесовский объясняет, например, «слабо развернутой собирательской работой» - 128, с. 139), хотя свидетельств о бытовании данного эпического жанра у коми довольно много. Так, один из информаторов А.Д.Григорьева - Ф.П.Рюмин, крестьянин из д.Тимшелья, вспоминал, что одну из рассказываемых старин «он выучилъ на «ярмонке» отъ зырянина Кривого (конечно, обрусевшаго) съ р.Вашки, верстахъ въ 100 отъ ея устья. По его словам, вверху по р.Мезени (за Усть-Вашкой) поютъ старины...» [188, с.190]. Экспедиция Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в Удорском р-не в 1961 г. убедилась, что почти каждый сказочник на Вашке может рассказать сказки об Илье Муромце, Добрыне, Алеше Поповиче. Руководитель этой экспедиции Т.И.Орнатская отмечает, что информаторы не раз вспоминали о том, что раньше на Вашке были мужики, которые пели былины. Жители с.Важгорт рассказывали об одном недавно умершем старике, который знал и мог без конца петь об Илье Муромце, Добрыне, Алеше, Дюке и Чуриле (РО ИР ЛИ, л.7). Все сказанное, хотя и косвенно, показывает, что удорские исполнители, проживая в районе, наиболее близком к крупным былинным очагам, расположенных на Мезени и Вашке, могли, на наш взгляд, знакомиться с образцами русского эпоса непосредственно из устной традиции, слушая исполнение былин в их классической форме. Необходимо также отметить, что коми удорские сказки о богатырях русского эпоса довольно мозаичны по своему составу. В них своеобразно переплетены эпизоды и некоторые детали, усвоенные сказочниками, не только из региональной былинной традиции, но также из: а) лубочных сказок, в основе которых лежат переводы рыцарских романов; б) устных сказок; в) разного рода публикаций былин. Об отражении в коми текстах сказок о Еруслане Лазаревиче подробно рассматривалось в предыдущей главе. Своеобразие коми сказок о богатырях русского эпоса состоит еще и в том, что в них, кроме лубочной, включены мотивы и некоторые детали из устной сказочной традиции. Так, например, Илья Муромец, чтобы стать мужем Настасьи Вахрамеевны, прыгает на коне до высокого столба и достает повешенное на нем золотое кольцо. Царь дает задание Илье - достать Соловья-разбойника (ср. «Сивко-Бурко» - СУС 530). Отражение в коми сказках о богатырях русского эпоса традиционных сказочных сюжетов - не единичное явление. Так, в вариант П.А.Конанова органично включен мотив из сказки на сюжет «Чудесные дети» (СУС 707): Илья Муромец встречает трех сестер и женится на той, которая обещает родить ему богатыря. В данном случае необязательно предполагать, что рассмотренные эпизоды перенесены из русских сказок о былинных богатырях. «Возможно, -считает А.М.Астахова, - здесь действует известная закономерность - заимствуются такие сказочные сюжеты и отдельные эпизоды героического характера, которые наиболее подходят к повествованиям о богатырях» [11, с. 107]. Большим своеобразием отличается и сказка об Илье Муромце, записанная от Е.П.Селиванова. Указанный вариант представляет собой своеобразный сплав прочитанного и услышанного, сложное переплетение сюжетных подробностей, эпических формул, восходящих и к книге, и к устной традиции.
Финальные (заключительные) формулы
Задача изучения поэтики и стиля коми волшебной сказки включает и исследование стереотипных художественных средств, сложившихся в процессе исторического развития жанра и составляющих в совокупности стилистическую обрядность волшебной сказки. Из многих аспектов, которые имеет данная тема, нами выделена для изучения одна, представляющая в настоящее время большой интерес - традиционные формулы.
Исследователи сказки давно обратили внимание на то, что для описания внешнего облика персонажей, различных их свойств или действий исполнители нередко используют стереотипные средства выражения. По определению Н.М.Герасимовой, формула представляет собой «структурно организованный отрезок повествования, закрепляющий определенный смысл в форме устойчивого стилистического оборота» [46, с.73].
Данное определение нам кажется наиболее приемлемым, поскольку в нем имеется указание не только на стабильность состава и языкового оформления, на устойчивость в процессе передачи традиции (см. у О.А.Давыдовой - 49, с. 12), но и смысловую определенность, цельность формульного значения.
Традиционные формулы коми волшебной сказки, как и сказок других народов, делятся на три большие группы: инициальные, финальные и медиальные.
Как было уже отмечено, до настоящего времени традиционные формулы коми сказок не являлись предметом специального изучения. В связи с этим в данной главе предпринята попытка исследовать их разновидности путем сопоставления с русскими формулами. В ходе анализа привлекается также финно-угорский и другой сравнительный фольклорно-этнографический материал. 4.1. Инициальные (начальные) формулы
Среди многочисленных поэтических стереотипов свою особую и значительную роль играют формулы, открывающие сказочное повествование, т.е. инициальные (начальные) формулы. Они легче всего обнаруживаются в сказках как по композиционному положению, так и по высокой структурно-смысловой определенности. Многие из исследователей к начальным формулам относят и присказку.
По мнению Н.В.Новикова, «зачин в той или иной форме (традиционной и нетрадиционной) обязателен для любой сказки, тогда как присказка в зависимости от ряда обстоятельств (в том числе от мастерства сказочника, местной традиции и пр.) может применяться, а может и не применяться» [120, с. 19].
В русских сказках присказка получила довольно широкое распространение и отличается значительным богатством и разнообразием. Ср.: «В некотором царстве, в некотором государстве, именно в том, где и мы живем, жил царь на царстве, король на королевстве, да на ровном месте, как соха на бороне. Это не сказка, а присказка, а сказка будет после обеда, поевши мягкого хлеба, еще поедим пирога, да потянем быка за рога. Далеко отсюда, не в нашем царстве, в невидимом государстве жил-был царь Ермолай...» [225, № 53].
В отличие от русских для коми сказок присказки не характерны. Вместе с тем в некоторых из них имеются детально разработанные вступления, напоминающие ее. Например: «Or помнит ме кутшбм царствоын, мыйкб ылын миянсянь государство, ачым ме, кбнешнб, сійб эг тбдлы, но пбрысь пбчьяслысь кьівльївлі, штб сзтбні чудеса вбвлі. Сэн волі цар» - «Не помню я в каком царстве, где-то в далеком от нас государстве, сам я, конечно, его не знавал, но от древних старушек не раз слыхал, что там чудеса происходили. Там был царь» (НА КНЦ. Ф.1. Оп.П. Д.187. Л.249).
Подобные же вступления встречаются и в коми-пермяцких сказках: «Эта волі не мбйму, не одззуну, а бддьбн важын; не кытшбмкб царствоын, а сія государствоын, кытбн быдкодь чудоыс вблб. Олбмась-вблбмась порись гозъя» - «Это было не в прошлом году, не в этом, а очень давно, не в каком-то царстве, а в том государстве, где разные чудеса происходят. Жили-были старик со старухой» [213,с.58].
В некоторых случаях коми сказочники пытаются расширить композиционные функции присказки. Характерными в этом плане являются вступления, представляющие непосредственное обращение рассказчика к слушателям, в котором намечается тема или идея сказки, например: «Гбльыдлбн тай нуждаыс пыр сьбрсьыс. Олісньї-вьілісньї кык вок. Отикыс - озыр, мбдыс - голь» - «У бедного нужда всегда при себе. Жили-были два брата. Один -богатый, другой - бедный» (НА КНЦ. Ф.1. Оп.11. Д.94 (т.9). Л.ЗОЗ);
«И делбыс гардчис шыр кузя да кеня кузя. Кабы не нія нем эз бы и вбв. Но мый эд то каран, аркмбм дак аркмбм, бор он бергбт. Оласб да вбласб кыдзкб бтик вбрын шыр да кеня» - «И дело все закрутилось из-за мыши и кукши. Если бы не они, ничего бы и не было. Но что поделаешь, случилось так случилось, обратно уже не повернешь. Жили-были как-то в одном лесу мышь и кукша» [213, с.96].
Однако такие зачины единичны, и в них чувствуется значительное стилистическое влияние русских сказок. Об этом же свидетельствует и то, что некоторые коми сказочники, видимо, хорошо знакомые с русской сказочной обрядностью, включают в свои произведения присказки без перевода: «В некотором царстве, некотором государстве, именно в том, в котором мы живем. Это присказка, сказка впереде на будущей неделе, самый середе. Жил-был cap, на боку спал. Оліс-вьшіс крестянин» - « ... Жил-был крестянин» ( НА КНЦ. Ф.1. Оп.П. Д.93 (т. 14). Л. 156).