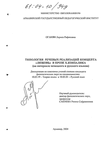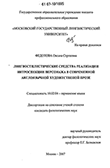Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Мифологическая проза о детях, отданных нечистой силе 11
1.1. Структура темы «Проклятие» в устной несказочной прозе и ее жанровые реализации 12
1.2. Повествовательная структура мифологических нарративов о родительском проклятии: кроссюжетный анализ 21
1. 3. Мифологические сюжеты о родительском проклятии: базовые мотивы и их комбинаторика 29
1.3.1. «Мифологический персонаж уводит проклятого ребенка» 29
1.3.2. «Мифологический персонаж обменивает проклятого ребенка» 36
1.3.3. «Женитьба на проклятой девушке» 40
1.3.4. Комбинаторика базовых мотивов сюжетов о родительском проклятии 42
1.3.5. Прагматика текста как фактор текстообразования 50
1.3.6. Роль ритуальных и игровых практик в формировании мифологического сюжета 61
1.3.6.1. Святочная тематика в быличке «Женитьба на проклятой девушке» 62
1.3.6.2. Композиционное построение святочной версии былички «Женитьба на проклятой девушке» 69
1.3.6.3. Святочный контекст и художественный мир былички (на примере сюжета «Женитьба на проклятой девушке») 72
Глава 2. Сказочная проза о детях, отданных нечистой силе 85
2.1. Структура темы «Запродажа» в волшебной сказке 87
2.2. Структура мотива «Запродажа» и возможности его повествовательного развития в составе волшебной сказки .94
2.3. Сюжеты волшебных сказок о детях, отданных нечистой силе: состав мотивов и их комбинаторика 100
2.3.1. Сюжет «Чудесное бегство» (СУС № 313) 100
2.3.1.1. Мотивный состав сюжетного блока «Чудесное бегство» 102
2.3.1.2. Мотивный состав сюжетного блока «Орел-царевич» 107
2.3.2. Сюжет «Незнайка» (СУС № 532) 111
2.3.3. ЭС «Запродажа» в сюжете классической волшебной сказки: структурный и функциональный аспекты 118
2.4. Прагматика волшебной сказки как фактор текстообразования 129
2.4.1. Типология ситуаций исполнения сказок 130
2.4.2. «Взрослая» волшебная сказка 138
2.4.3. «Детская» волшебная сказка 144
Заключение 154
Условные обозначения 157
Библиография 158
- Повествовательная структура мифологических нарративов о родительском проклятии: кроссюжетный анализ
- Святочная тематика в быличке «Женитьба на проклятой девушке»
- Структура мотива «Запродажа» и возможности его повествовательного развития в составе волшебной сказки
- «Детская» волшебная сказка
Введение к работе
Актуальность исследования
Сравнительное изучение сказочной и мифологической прозы в отечественной фольклористике имеет давнюю историю. В ней явно выделяются два периода, которые с некоторой долей условности можно обозначить как «генетический» и «поэтический». На первом этапе (середина XIX - начало XX вв.) научные интересы исследователей были сосредоточены на реконструкции стадий формирования и развития сказки; мифологические рассказы рассматривалась преимущественно как один из надежных источников, позволяющих восстановить систему представлений и верований, отразившихся в сказочных протоформах. Второй этап (последняя треть XX - начало XXI вв.) связан с изменением отношения исследователей к мифологической прозе. Наделение ее фольклорным статусом имело ряд последствий для научного дискурса: пересмотр структуры жанровой системы фольклора, появление нового термина в фольклористическом тезаурусе1, а главное - сдвиг научных интересов в сторону выявления поэтических особенностей мифологических нарративов. Генетические связи не могли не спровоцировать появление работ, в которых описание жанровой онтологии былички базировалось на ее сравнении со сказкой (Э.В. Померанцева, И.А. Разумова и др.)2. При этом они рассматривались как параллельно существующие жанровые формы, в результате взаимодействия которых в живой традиции регулярно порождаются тексты симбиотического типа, совмещающие дифференциальные признаки обоих жанров, однако исследования причин систематического появления подобных текстов не проводилось.
Настоящая работа носит сравнительный характер, однако в сфере наших научных интересов оказываются не только основные и переходные текстопорождающие модели, но и процесс жанровых «перевоплощений» одной и той же темы / сюжета / мотива, а также факторы, определяющие его. Современные
«Слово "быличка" было подслушано братьями Б. и Ю. Соколовыми у белозерских крестьян <...> и с их легкой руки вошло в практику фольклористов» [Померанцева 1975, 13].
2 Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки. М.: Наука, 1965; Она же. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М.: Наука, 1975; Она же. Русская устная проза. М.: Наука, 1985; Разумова ИЛ. Сказка и быличка (мифологический персонаж в системе жанра). Петрозаводск, 1993.
исследования в области изучения прагматики фольклора3 убедительно показывают, что важную роль в формировании содержательных и поэтических параметров текста играет контекст исполнения, поэтому изучение и описание коммуникативных ситуаций4, типичных для актуализации мифологической и сказочной прозы, может прояснить вопрос о причинах и векторах их взаимодействия.
Оптимальным подходом для межжанрового исследования в означенном ракурсе представляется кросс-жанровый анализ текстов одной тематической группы, неоднократно с успехом апробированный на материале устной народной прозы (работы И.Н. Райковой, Н.Е. Котельниковой, Н.К. Козловой, И.С. Брилевой, И.А. Бессонова5). Выбор темы «Вручение ребенка во власть нечистой силы» был продиктован тем, что она широко представлена в устной вербальной культуре, ритуальных практиках, системе верований, обладает значительным сюжето- и жанровопорождающим потенциалом и является актуальной для современных исполнителей (что позволило провести ряд полевых экспериментов по выявлению роли разнообразных контекстов в процессе текстообразования).
Объектом исследования являются фольклорные тексты одной тематической
группы, представленные в различных жанровых форматах (быличка, поверье,
волшебная сказка), а также устные высказывания об их бытовании (в архивных
Толстая СМ. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора // Образ мира в слове и ритуале: Балканские чтения-1. Вып.1. М., 1992. С. 11-16; Адонъева СБ. Прагматика фольклора. СПб.: Изд-во СПбГУ, Амфора, 2004; Левкиевсшя Е.Е. Прагматика мифологического текста // Славянский и балканский фольклор. Семантика и прагматика текста. Вып 10. М.: Индрик, 2006. С. 150-213; Она же. Восточнославянский мифологический текст: семантика, диалектология, прагматика. Дисс. ... д-ра филол. наук. М., 2007 и др.
4 «...можно назвать группу отдельных факторов, таких, как число участников коммуникации,
их социальные и коммуникативные характеристики, отношения между ними, пространство, в котором
коммуникация осуществляется, расположение отдельных предметов в нем и их значение в процессе
коммуникации, временные границы коммуникации и характеристика ее протекания... Назовем этот
фрагмент реальной действительности коммуникативной ситуацией» (Korensky J., Jaklova А.,
Miillerova О. Komplexni analyza komunikacniho procesu a textu. Ceske Budejovice, 1987. Цит. no:
Левкиевсшя Е.Е. Прагматика мифологического текста // Славянский и балканский фольклор:
Семантика и прагматика текста. Вып 10. М.: Индрик, 2006. С. 167.
5 Райкова И.Н. Русские предания, легенды, сказки, лубок и массовая литература о
«справедливом» царе (традиционные сюжеты, мотивы, поэтика). Автореф. дисс... канд. филол. наук.
М.: МГУ, 1995; Котелъникова Н.Е. Состав несказочной прозы о кладах и ее традиционная образность
в жанрообразующем отношении. Автореф. дисс... канд. филол. наук. М.: МГУ, 1996; Козлова Н.К.
Восточнославянские былички о змее и змеях. Мифический любовник. Указатель сюжетов и тексты.
Омск, 2000; Брилева И.С. Концепт греха в структуре фольклорного произведения (на материале
малых форм и несказочных повествований). Дисс... канд. филол. наук. М.: МГУ, 2007; Бессонов И.А.
Русская эсхатологическая легенда: источники, сюжетный состав, поэтика. Дисс... канд. филол. наук.
М.: МГУ, 2010.
коллекциях они обычно обозначаются как «сведения о бытовании жанра»).
Предмет исследования - таксономическая шкала жанровых реализаций темы о детях, отданных родителями нечистой силе.
Цель исследования состоит в выявлении механизмов процесса текстообразования мифологических и сказочных нарративов, а также внутри- и внетекстовых факторов, обуславливающих их жанровую онтологию и взаимодействие.
Эта цель предполагает решение следующих задач:
описание представлений о детях, отданных нечистой силе, и связанных с ними мифоритуальных практик;
выявление сюжетного и мотивного состава сказочной и несказочной прозы данной тематической группы;
характеристика типичных ситуаций бытования жанров былички и волшебной сказки;
описание содержательных и поэтических параметров текста, проявляющихся в каждой из выделенных типичных ситуаций исполнения;
5) расположение выявленных внутрижанровых типов текста в виде
таксономической шкалы, отражающей фазы жанровых трансформаций.
Методы исследования можно разделить на две группы - полевые и аналитические. Полевая методика сбора материала опиралась на формы включенного наблюдения, интервьюирования, опроса по специально разработанным вопросникам; способы фиксации информации - аудио-, видео- и рукописные записи. На разных этапах работы для решения различных задач использовались следующие аналитические методы: описательный (при работе с конкретными сюжетами), структурно-семантический, структурно-типологический, функциональный (при рассмотрении композиции мифологических и сказочных нарративов), прагматический (при оценке влияния коммуникативной ситуации на текст), статистический (для выявления типичных и окказиональных вариантов и версий).
Методологические основания
Методологические основания работы формировались с опорой на классические и современные исследования по теории фольклора (А.Н. Веселовский, Б.Н. Путилов,
К.В. Чистов, СЮ. Неклюдов, Т.Б. Дианова), сказке и несказочной прозе (А.И. Никифоров, В.Я. Пропп, Э.В. Померанцева, Е.М. Мелетинский, С.Н. Азбелев, К.В. Чистов, И.А. Разумова, СБ. Адоньева, Е.Е. Левкиевская). Описание сюжетов несказочной прозы велось с позиции структурно-семантического и функционально-структурального подхода (А. Дандес, Б.П. Кербелите, П.Г. Богатырев). Принципы анализа текстов одной тематической группы представлены в упомянутых выше работах И.Н. Райковой, Н.Е. Котельниковой, Н.К. Козловой, И.С Брилевой, И.А. Бессонова.
В области изучения прагматики особенно значимыми для нас оказались работы отечественных исследователей, адаптировавших методы прагматического анализа, разработанного американскими учеными (Дж. Остин, Дж. Серль), к фольклорному материалу (Е.С Новик, СМ. Толстая, Л.Н. Виноградова, СБ. Адоньева, Е.Е. Левкиевская).
Материал
Основной корпус текстов по мифологической прозе был собран нами во время экспедиций кафедры русского устного народного творчества филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в Кировскую область (2002 - 2010 гг.). Помимо этого использовались материалы кафедрального архива в другие российские регионы (Архангельская, Калужская области), архива Академической гимназии при СПбГУ (Ленинградская, Вологодская, Псковская, Тверская, Новгородская области), личного архива А.А. Ивановой (Архангельская область), а также тексты, извлеченные из современных сборников, периодических изданий и интернета (см. Библиографию). По волшебной сказке подборка материала производилась из классических сборников XIX - первой половины XX вв. (см. Библиографию). Подобная хронологическая асимметрия источников формирования текстовой базы исследования объясняется непопулярностью жанра волшебной сказки в современной деревне и, как следствие, отсутствием в архивных коллекциях ее полноценных записей. Однако, поскольку большинство текстов, рассматриваемых в диссертации, едва ли простирается за пределы XX в., для настоящего исследования подобный временной «зазор» мы сочли не столь существенным.
Исследовательская гипотеза
В отечественной фольклористике существует традиция рассматривать сказочную и несказочную прозу как параллельно существующие, во многом противостоящие друг другу жанровые области, взаимодействие которых носит окказиональный характер. Однако при обращении к полевым материалам становится очевидным, что доля текстов с ярко выраженными жанрово-дифференциальными признаками оказывается значительно меньше ожидаемой, а зона межжанровой периферии, напротив, весьма обширной. Регулярность фиксации текстов, в разной степени совмещающих содержательные и поэтические признаки обоих жанров, не позволяет воспринимать их как случайные.
Исходной гипотезой стало предположение о том, что мифологическая и сказочная жанровые модели представляют собой совокупности некоторого числа внутрижанровых реализаций, сформировавшихся под влиянием разнообразных и одновременно типичных для них ситуаций исполнения. Поскольку в живой традиции быличка и сказка регулярно вступают во взаимодействие, их жанровые реализации могут быть представлены в виде таксономической шкалы, крайними полюсами которой будут «классические» модели мифологического и сказочного нарративов (именно они формируют ядро жанров). Между ними располагается разветвленная сеть переходных (периферийных) текстопорождающих моделей. Наличие такой сети -показатель не только пластичности жанров, но и их возможности реактуализироваться в традиции.
Научная новизна исследования
В результате примененного в работе подхода жанры былички и сказки предстали как структурно сложные и одновременно динамичные образования. Это дает основание предположить, что жанровое пространство русского фольклора имеет больше уровней системной организованности, нежели предполагалось ранее6.
Включение в текстовую базу исследования наряду с традиционными, устойчивыми нарративами и паремиями разнообразных «разовых» образований
6 Кравцов Н.И. Система жанров русского фольклора. М.: Наука, 1969; Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров // Он же. Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976. С. 34-45; Путилов Б.П. Фольклор и народная культура. СПб.: Наука, 1994; Левинтон ГА. Замечания о жанровом пространстве русского фольклора // Судьбы традиционной культуры: Сб. ст. и материалов памяти Ларисы Ивлевой. СПб., 1998. С. 56-71; Дианова Т.Е. Жанровое пространство фольклора: изменение научной парадигмы // Первый всероссийский конгресс фольклористов. Сборник докладов. Т. I. М.: ГРЦРФ, 2005. С. 372-384 и др.
(комментариев информантов, сведений о бытовании жанра и др.), позволило совместить в диссертации два подхода к описанию материала - этический и эмический, оценивающих фольклорную традицию с двух позиций: «внешней» (исследовательской) и «внутренней» (исполнительской). В конечном счете, это придало интерпретации и аналитике фольклорных текстов более объективный характер.
Теоретическая ценность
Несмотря на то, что наше исследование выполнено на ограниченном в жанровом и географическом отношении материале, методики, теоретические наработки и полученные результаты могут быть использованы при описании и изучении других жанровых форм и региональных традиций. Значимы также собранные автором полевые материалы, большинство из которых впервые вводится в научный оборот.
Практическая ценность
Результаты исследования могут быть использованы при подготовке соответствующих разделов по общему курсу фольклора, в рамках спецкурсов, а также для составления сюжетных указателей и полевых вопросников, при проведении полевых изысканий, архивации записей и подготовке их к публикации.
Основные положения, выносимые на защиту
Мифологическая и сказочная жанровые модели представляют собой совокупность жанровых реализаций, которые могут быть представлены в виде таксономической шкалы, отражающей фазы их возможных взаимопереходов: неритуализованная быличка (беседная, дидактическая) -> ритуализованная быличка -> деритуализованная быличка (быличка-сказка) <- сказка-быличка <- «детская» волшебная сказка <- «взрослая» волшебная сказка.
Важнейшими факторами, влияющими на механизм процесса текстообразования, является коммуникативная ситуация, ее целевая установка (фатическая, эстетическая, дидактическая или магическая/ритуальная) и половозрастной состав участников.
В мифологическом нарративе смена коммуникативных условий и стратегий
в первую очередь влияет на структуру текста, в сказочном - на те его поэтические и содержательные параметры, которые квалифицируются исследователями как «сказочная обрядность», «сказочный канон».
Апробация работы
Работа обсуждалась на заседании кафедры русского устного народного творчества МГУ им. М.В. Ломоносова. Основные результаты диссертационного исследования были представлены в форме докладов на ежегодной международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, МГУ, 2007, 2008, 2009, 2010), на II Всероссийском конгрессе фольклористов (г. Москва, 2010) и на заседании методологического семинара по актуальным проблемам полевой фольклористики (г. Москва, МГУ, 2006).
По теме исследования опубликовано 5 статей, одна из которых - в рецензируемом научном журнале, входящем в перечень ВАК.
Структура работы
Структура диссертационного сочинения соответствует его целевым установкам. Оно состоит из введения, двух глав, имеющих «зеркальную» композицию, заключения, списка условных сокращений и библиографии.
Повествовательная структура мифологических нарративов о родительском проклятии: кроссюжетный анализ
Анализ повествовательной структуры темы предполагает вычленение устойчивых компонентов - мотивов, которые являются «вложенными значениями» [Неклюдов 2004, эл. версия] ведущей темы. Мотивы выделяются на уровне конкретных текстов, после чего формулируются обобщающие категории и составляется инвариантная структурная схема для сюжетов выбранной тематической группы. Такой подход был продемонстрирован Н.Е. Котельниковой на материале рассказов о кладах [Котельникова 1996, 1999], И.Н. Райковой на примере сюжетов о справедливом царе [Райкова 1995], Н.К. Козловой [Козлова 2000] при рассмотрении быличек о мифическом любовнике-змее, И.А. Бессоновым при анализе эсхатологической легенды [Бессонов 2010].
«Сюжет былички - не просто та или иная комбинация мотивов, в которой один является главным. Все элементы здесь подчинены единому стержню, который организует сюжетные ходы определенным образом. Таким стержнем в повествовательном произведении является конфликт, связывающий в единую цепь все мотивы и элементы, придающий им динамику» [Козлова 2000, эл. версия]. Основой конфликта былички является противостояние человека и мифологического существа, причем успешное разрешение конфликта во многом зависит от действий человека. Б.П. Кербелите, анализируя структуру литовских мифологических рассказов, распределяет их на три раздела: правильное, неправильное и нейтральное поведение героя-человека. «Правильные действия героев означают соблюдение обычаев и других предписаний, а неправильные - это нарушение норм поведения, связанных с верой в существование "иного мира"» [Кербелите 1994,14].
Рассказы о родительском проклятии можно рассматривать как повествования о нарушении одного из запретов, регламентирующего внутрисемейные отношения. Подробное описание структуры и функциональной направленности рассказов о нарушении запретов представлено в работе Л.Н. Виноградовой [Виноградова 2006]. Исследовательница отмечает, что запрет, служа «структурным стержнем и содержательной основой нравоучительного рассказа, обладает почти безграничными порождающими способностями для построения целой серии однотипных нарративов» [Виноградова 2006, 215-216], призванных на конкретных жизненных примерах подтвердить его актуальность.
Запреты относятся к «области обычая, народного права и моральных норм, имеют жесткую логическую и языковую форму. ... двухчастную структуру и состоят из собственно запрета и его мотивировки» [СД 1999, 269]5. Собственно запрет может передаваться через отрицание действия («не проклинайте своих детей» [ФА АГ СПбГУ; 00-03-07, № 15] или словами «нельзя», «плохо», «грех» («Лешакатъ нельзя» [АКФ 1990, Луз., т. 30, № 117]; «Грех большой, если ребенка прокленешъ» [ФА АГ СПбГУ; 99-03-21, № 32]). Что касается мотивировок, то А.Л. Топорков [Топорков 1985] выделяет три формы их представленности в устном нарративе: глубинные, латентные (не эксплицируются носителями традиции непосредственно в тексте и реконструируются исследователями посредством привлечения иных источников); мотивировки-объяснения, представленные в тексте по схеме «не делай того-то, если сделаешь, случится то-то» [Там же, 82]; развернутые повествования, которые функционируют как комментарии к запрету и рассказывают о следствиях его нарушения. Нас будут интересовать, прежде всего, два последних типа мотивировок.
Мотивировки-объяснения чаще всего иллюстрируют негативные последствия нарушения запрета (при этом в одном тексте запрет может иметь несколько мотивировок, ср.: «Нельзя (запрет). Как такое слово в час скажешь, и она век будет бесчастная (мотивировка 1) или дура (мотивировка 2), или вот будет она... совсем она будет плохой ребенок (мотивировка 3)» [ФА АГ СПбГУ; 00-03-05, № 65]). Первый структурный элемент запрета (= собственно запрет) может вообще опускаться. В этом случае содержащаяся в нем информация переводится в мотивировку, что приводит к синтаксической перегруппировке высказывания, и текст оформляется при посредстве союзов «если... то»: «Если ребенка или человека взрослого ему вослед "унеси тебя", дескать, его унесет в елки куды-нибудь» [АКФ 2003, Мур., т. 23, № 782].
Наряду с мотивировками-объяснениями в современных полевых практиках регулярно фиксируются и мотивировки-повествования, поскольку «в любом человеческом обществе негативные санкции определены лучше, чем позитивные» [Каргин, Костина 2009, 12]. Сюжеты подобных нарративов также строятся вокруг нарушения запрета и последующего наказания.
Сюжетную схему «нарушение запрета —» наказание» стоит признать наиболее архаичной6: «таким образом былички оказываются экспликацией правил, кодифицирующих повседневную жизнь, реализацией известного педагогического принципа о преимуществах усвоения per exempla» [Цивьян 1995, 133]. В устной традиции она может усложняться за счет подключения других мотивов. Рассмотрим, за счет каких.
В случае с родительским проклятием наказание проклинающего осуществляется в опосредованной форме, поскольку последствия в полной мере ощущает ребенок и только через него - его родители. Избежать трагических последствий нарушения запрета можно, вступив в диалог с представителями иного мира посредством магических ритуалов и слов (подробнее об этом см. в [Байбурин 1993]). В ситуации двоеверия наряду с заклинанием в качестве магических слов могла использоваться и молитва (о типологии магических текстов подробнее см. в [Ильина 2008]). Диалог оказывается успешным только при условии соблюдения всех правил, предписанных магической практикой. В противном случае проклятие снять не удается, и ребенок оказывается потерянным навсегда, ср.: «Пришел, а перекреститъ-то его мать и побоялась. А он поел да и снова ушел. Так больше его и не видали» [МРАО 2009, 55]; «...там будет копна, бери, чего там лежит. ... Под одной копной ничего не было, под второй лежала змея. Она устрашилась, не взяла ... Так он и не вернулся» [Черепанова 1996, № 65].
Существует еще одна возможность позитивного развития темы родительского проклятия — его нейтрализация. Под последней мы разумеем блокирование проклятия до того, как оно начнет реализовываться («Если худое слово сказал - куси палец» [ФА АГ СПбГУ; 97-11-08, № 58]; «Если сругнулся нечаянно, то надо так маленько язычок покусать» [АКФ 2009, Сов., т. 2, № 170]). Судя по материалам, имеющимся в нашем распоряжении, наиболее характерными для быличек формами нейтрализации следует признать «христианские» средства защиты от нечистой силы — крестное знамение и обращение к высшим божественным силам (Богу, Богородице, святым): «Она догадалась, икону схватила с божницы» [АКФ 1990, Луз., т. 38, № 212]; «Ох, мама всяко молится, молится, молится» [АКФ 1989, Луз., т. 19, № 132].
Поскольку маленький ребенок не владеет знаниями о необходимых обережных действиях, нейтрализовать силу проклятия может либо сам проклявший, либо другой взрослый человек: «Ребенок-от верещит, она давай лешакатъ, черкать. И он слышал, как это потащил-то он ее ребенка-то. А ей вместо ребенка полено бросил. Это полено ревет и ревет, и ревет. Ребенок и ребенок. Ребенком показалося полено вовсе. Он сказал: "Чур, младенец наш". Три раза сказал: "Чур, младенец наш!" Он к корове в ясли и бросил» [АКФ 1991, Кот., т. 31, № 94].
Нейтрализация блокирует возможность осуществления проклятия в полной мере, соответственно отпадает необходимость в дальнейшем развитии сюжета. Смысловой акцент в таких повествованиях сделан на вовремя принятых человеком правильных мерах, что подчеркивается традиционным финальным резюме: «Дак только она и слышала, как леший сказал: "А, догадалась!" Ну, что молиться надо» [АКФ 1989, Луз., т. 16, № 462].
Таким образом, мотив нарушения запрета на проклятие ребенка, имея одну генеральную линию развития, может разворачиваться по четырем сюжетным моделям. Это означает, что тема «Проклятие» в устной мифологической традиции может быть представлена в виде пучка сюжетных схем, логически развивающих один и тот же исходный мотив нарушения запрета (см. рис. 1).
О месте запрета в структуре текста стоит сказать отдельно. С точки зрения традиционной теории фольклорных жанров, запрет с мотивировкой-объяснением представляет собой один жанр — поверье, а сочетание запрета с подтверждающим его нарративом рассматривается как сочетание двух жанров — поверья и былинки. Вопрос об их взаимоотношениях активно обсуждается в современной исследовательской литературе. А.А. Иванова [Иванова 2004 (1)] рассматривает смысловые и формальные взаимосвязи былички и поверья в конкретных коммуникативных ситуациях, выявляя структурные изменения, происходящие с ними в процессе взаимодействия. И.С. Брилева [Брилева 2007] также ориентируется на функциональный и тематический критерии, и использует термин «сверхжанровое единство» для обозначения «текстов, относящихся к разным жанрам, ... но подчиняющихся при этом единой прагматической установке рассказчика, часто порождаемых в совокупности в результате запроса собеседника (собирателя)» [Брилева 2007, 25]. Е.Е. Левкиевская вводит в качестве обобщающего термина для всех типов текстов, содержащих сведения о демонологических явлениях, специальный термин мифологический текст. Последний рассматривается ею как элемент разговорной коммуникации, который «не является самостоятельным речевым жанром, но включает в себя различные речевые жанры, объединенные общей темой - категорией мифологического» [Левкиевская 2006, 155]. Поверье и быличка при таком подходе оказываются равноправными речевыми жанрами, с той лишь разницей что быличка «всегда самодостаточна, поверье может функционировать самостоятельно, а может входить в состав синкретического мифологического текста» [Там же, 156]. Л.Н. Виноградова предлагает рассматривать поверья и подтверждающие их нарративы как один текст, указывая на их общую функциональную направленность и тесную структурную связь: степень «включенности поверий в структуру былички бывает такой значительной, что разграничить те и другие совершенно невозможно» [Виноградова 2004, 13]. Мы будем рассматривать поверье и быличку как сочетание двух жанров [Иванова 2004 (1); Брилева 2007]. Поскольку запрет в форме поверья и нарратив, его подтверждающий, могут существовать отдельно, паремийный элемент сюжетной структуры в приводимых ниже схемах отграничен от нарративного квадратными скобками.
Святочная тематика в быличке «Женитьба на проклятой девушке»
Святочный контекст задает текстам, исполнение которых было приурочено к этому времени, в качестве доминантной тему будущего брака. Молодые люди, желая ускорить встречу со своей судьбой или больше узнать о суженом/ой прибегали к различного рода гадательным ритуалам. Успешность гадания определялась событиями будущего; видение суженого влекло за собой реальный брак: «Мой крестный рассказывал, как на святках невесту смотрел. Снял крест с себя, взял два зеркала и полез в подпол. Смотрит, а в одном зеркале все лес-лес-лес, и выходит наша Федосъка. Вылез крестный из подпола и говорит ей: "Моя будешь». А Федосъка-то не любила его, у нее свой парень был. Но потом все равно за крестного пошла» [МРПНП 2007, № 1241].
Хотя свадебный обряд и не являлся непосредственным продолжением святочного, однако их связь была очевидной для носителей традиционного мировоззрения, ср.: «И там вот в кольце появляется там парень или кто, может, она его узнаёт, может быть, не узнаёт. А потом, говорят, бывало, што сбывалось. Што замуж: выходит, и точно она ево видела» [Васькина 2009,10]. Тема брака может актуализировать в фольклорных нарративах и предшествующие свадьбе этапы, связанные со знакомством, ухаживаниями («Вот теперь этот жених отслужил службу и как раз приехал через год и у родителей стал свататься. Но там многие сватались. Теперь и она сказала: "Но, мать, я вот этого и выберу. Он, говорит, и прибегал. Пойду за него". Ее, значит, просватали» [РСЗ 1989, № 147]), а также послесвадебный период («Ну, выворожила — выворожила... Теперь поженились ... Но и притащила эту заплатку, приложили — она как тут и была» ... Стали жить. Никого, не убил он ее...» [РСЗ 1989, № 148]).
Рассмотрим, какие из рассмотренных компоненты святочной брачной тематики встречаются в сюжете «Женитьба на проклятой девушке».
Ожидание суженого/ой. Рассказы о молодежных святочных увеселениях образуют его сюжетную «рамку», распространяя таким образом повествование за счет описаний святочных ритуалов и обычаев, иногда дословно совпадающих с этнографическими свидетельствами и рассказами очевидцев
б) игры:
= парные игры, направленные на сближение потенциальных женихов и невест: «Теперь у нас вечера. Прежде были йгришша: собирались в одной избе молодцы и девицы, пели, веселились. На игришшах заводили игры и пели разные песни. Например, представляли: девушке шьют башмаки, брали за ноги — снять мерку. ... Ладно, пойду на йгришше, всех выгоню парами; если останется девица одна без пары — на ней и женюсь» [Чернышев 2004,18-19];
= карты: «Раз девки с парнями в карты играли» [МРПНП 2006, № 865].
в) споры (испытание храбрости).
О связи споров со святочной обрядностью пишет И.А. Морозов: «Характерно, что в баню или овин часто шли не для того, чтобы поворожить, а на спор или чтобы выполнить игровое наказание: взять из печки-каменки камень, золу или пепел, иногда для использования их в других гаданиях» [Морозов 1999, 73]. Интересно, что споры сами по себе воспринимались как греховное дело, которое могло спровоцировать ответные действия со стороны нечистой силы: «Сидела молодежь на посиделках, поспорили о чертях» [МРПНП 2006, № 252]; «Сидели так вечером и поспорили: кто в баню сходит и принесет камень с каменницы. "Давайте об заклад побьемся, кто в баню сходит"» [АКФ 1989, Луз., т. 7, № 420].
Брак.
Тема брака, нехарактерная для мифологических повествований, в святочной быличке развивается за счет подключения смежного контекста — рассказов о свадебной обрядности. Начинаясь с упоминания о свадьбе, эта тема разрастается до практически полноценного описания ритуала: от момента сватовства до гостин у тещи. Ниже приводятся наиболее очевидные структурно-тематические соответствия между быличкой и свадебным обрядом.
Высказанное выше предположение о распространении текста былички за счет подключения рассказов о свадьбе подтверждается и тем, что в мифологические рассказы о женитьбе на проклятой девушке регулярно проникают приметы современного свадебного обряда: [быличка] «...а она уже сидит на полке в розовом во всем» [АКФ 1990, Кот., т. 12, № 22]; [автобиографический меморат] «Я вот это даже хорошо помню. Я на полатях лежу, а они вот это, внизу её одевают. Платье такое ей надевают розово да платок. Невеста ведь в платье да в платке выходит» [АКФ 2008, Пин., т. 2, № 455].
Брачная тема в нарративном тексте может поддерживаться выражением моральных норм и декларацией общепринятых стереотипов поведения юноши или девушки: «Вдруг идет, стуцит в окно и говорит: "Ну дак чего? - говорит. — Обещался, а не берешь замуж. Нет?" Он говорит: "Беру". Ну вот. ... Потом, значит, и мать и отец слышат: "Ну, говорит, — до чего доходил парень! Эка сволочь! До чего навязывается, ходит. Уж под окно ходят, кричат"» [АКФ 1989, Луз., т. 1, № 148]; «Отец сказал: "Раз ты дал слово, немедленно женись. Видно, это твоя суженая"» [Рейли 2004, 418]; «Ну, женишься — женишься. Переубеждать не стали. Хоть и по старинке, ну, видимо, таки родители попались, не стали его переубеждать» [РСЗ 1989, № 157].
Поскольку основной смысл брака - рождение детей, то брачная тема может получить в мифологическом нарративе развитие за счет введения в рассказ подробностей дальнейшей жизни персонажей (что, кстати, противоречит сказке, оканчивающейся простой констатацией долгой и счастливой жизни): «Сын родился, дочь родилась, все на крестины собираются» [Черепанова 1996, 186]; «Вот и стали жить. Очень хорошо жили. У них появились дети, она тоже девочку родила» [МРАО 2009, № 255].
Таким образом, былички о проклятых, определяемые нами как «святочные», имеют принципиально иное контекстуальное окружение, нежели былички о проклятых, не имеющие таковой связи. Элементы контекста проникают в текст былички, распространяя и дополняя его. Размеры подобных вставок могут колебаться от нескольких слов до полноценных описаний ритуала, что не может не отражаться на композиционном построении текста.
Структура мотива «Запродажа» и возможности его повествовательного развития в составе волшебной сказки
Вспомним описание темы «Запродажа» в СУС [СУС 1979] и обозначим основные мотивы. Отец героя попадает в беду (беда 1), в обмен на избавление от нее он вынужден отдать сына (беда 2), родившегося во время его отлучки. Выше мы уже отметили более сложную (двухэтапную) структурную организацию действия «запродажа» по сравнению с действием «проклятие»; обозначим эти этапы как действие 1 (заключение обманного договора) и действие 2 (выяснение истинного смысла договоренности). В результате подстановки этих обозначений в порядке их следования мы получим элементарную схему мотива «Запродажа» (при этом действие 1 и действие 2 = не разные действия, а два этапа одного действия - запродажи): беда 1 — действие 1 — ликвидация беды 1 — действие 2 — беда 2 Представленная схема не раскрывает до конца потенциал возможного развития мотива, поскольку в ней отсутствуют причинно-следственные связи, приведшие к возникновению ситуации беды (беда 1).
Анализ обстоятельств совершения запродажи в волшебных сказках и сопоставление их с мифологической прозой позволяет расширить эту схему и восстановить вышеозначенные связи за счет включения пары «запрет — нарушение запрета»: «[соблюдение запрета] Кто сталь пить горсткой, а [нарушение запрета] царь сталь пить въ припадку» [Худяков 1860, № 17]; «один сельский мужичок ходил где-то далеко на заработках и захотелось ему [нарушение запрета] у одного озера напиться нападкой» [Смирнов 2003, № 97].
Сам запрет зачастую оказывается вне рамок собственно текста (подобные случаи были рассмотрены нами в Главе 1), однако его можно восстановить с опорой на систему поверий и правил, существующих в традиционной культуре. Ср. с типичными запретами, встречающимися в быличкахНарушение запрета влечет за собой наказание, которое осуществляется от лица нечистой силы: «...паймал ево хто-то за бароду, и ташшит в озеро, што он не можит и паднятца» [Азадовский 2006, № 6] (ср. с быличкой, описывающей подобное поведение водяного: «Чертышок — он больше в воде живет ... Вот он: едешь-едешь, и ни с того ни с сего — раз за руку — ив воду, а потом оттуда слегка так выстанет, падет, и человека нету» [МРАО 2009, № 89]). Однако, если в быличках наказание этим исчерпывается (в результате встречи с нечистой силой человек гибнет/спасается с помощью обережных средств), то в сказке этот опасный контакт служит лишь прологом к заключению обманного договора, который избавляет отца героя от возникшей беды (беда 1).
С учетом вышесказанного полная схема мотива «Запродажа» будет выглядеть следующим образом: ([запрет] — нарушение) — беда 1 — действие 1 — ликвидация беды 1 — действие 2 — беда 2
Мотив «беда 2» (вынужденная необходимость отдать сына) — также можно рассматривать как наказание отца за неправильное поведение, но эта связь представляется нам вторичной, так как данный мотив в большей степени является следствием заключения обманного договора. Доказательством данной связи служат версии сюжетов, где нет указаний на неправильное поведение отца, но, тем не менее, присутствуют остальные элементы: «Поехал он в такую степь песчаную — ничего нет: ни воды, ничего, одни пески. И вот ён умирает, пить хочет и смотрит: идет к ему человек с кувшином воды ... "Отвадишь мне, чего дома не знаешь?" ... Тогда он умирает, не пимши, и говорит: "Отдам"» [АКФ 1979, Куйб., т. 1, № 296].
Мотив «Запродажа», как и мотив «Проклятие», обладает сложной структурой и также может быть рассмотрен как элементарный сюжет (ЭС). Элементарные сюжеты — это простые сюжеты, способные «образовать различные комбинации и быть основой самостоятельных произведений, в которых изображается одно столкновение двух персонажей (или столкновение персонажа с объективной закономерностью, силой и т. п.) при достижении одной цели; в результате меняется или сохраняется некая начальная ситуация. ... представление о простейших сюжетах ... можно получить на основе изучения преданий, мифологических и этиологических сказаний, а также многих сказок о животных» [Кербелите 1991, 24].
Мифологические истоки мотива «Запродажа» заставляют нас предположить вероятность его реализации в форме былички о запродаже ребенка. Однако на восточнославянском материале мы располагаем только одним вариантом, воплощающим такую возможность: «Тогда мужик сдогадапся, кто ему всех миляе, кого отдал по расписке ... . Мальчик тоже заболел и помер. Они его обмыли и на лавку положили, сами ушли. А он славки куда-то потерялся. Отец и догадался, кто его взял» [РВСС 1981, № 34].
Последствия запродажи здесь схожи с последствиями родительского проклятия — ребенок в скором времени переходит в потусторонний мир. Поскольку запродажа все же не означает похищение запроданного, в смысловом отношении этот вариант может быть рассмотрен как окказиональный, появившийся в результате взаимодействия с быличками о проклятии.
В поисках вариантов, могущих дать представление об оригинальных возможностях сюжетного развития этого мотива, обратимся к иноэтническому материалу. Вслед за Т.Г. Ивановой [Иванова 2004 (3), эл. версия], используем в качестве такового удмуртские сказки. Привлечение данного материала представляется нам оправданным давними культурными связями, обусловленными географическим соседством двух народов. Удмуртская сказочная традиция является более архаичной по сравнению с русской, многие сказки в ней сохранили черты мифологических сказаний. Это касается и заимствованных из русской сказочной традиции сюжетов о запродаже.
Сравним мотив запродажи, представленный в русском сказочном репертуаре, с «мифологическими» реализациями того же мотива в удмуртских сказках (данные представим в виде таблицы).
Как видно из таблицы, «мифологическая» и «сказочная» версии увода практически идентичны с той лишь разницей, что в первой большую роль играет отец ребенка: именно он вручает сына его новому хозяину. Передача ребенка из рук в руки представляется нам вполне логичным завершением акта запродажи, буквальным отображением процесса перехода власти над запроданным.
На примере мифологических повествований мы выделили различные сценарии повествовательного развития темы «Вручение ребенка нечистой силе» (точнее — наиболее регулярно реализующего ее мотива родительского проклятия). В зависимости от наступления/ненаступления последствий проклятия выделялись сценарии нейтрализации и реализации проклятия. Сценарий реализации проклятия объединял несколько сюжетных схем: реализация проклятия, неуспешная ликвидация проклятия, успешная ликвидация проклятия. Подобный «сценарный» подход может быть применен и по отношению к ЭС мотиву «Запродажа», о чем свидетельствуют следующие примеры: нейтрализация обманного договора
«Изволь, - отвечает охотник, - готов тебе отдать чего дома не знаю, только с уговором: коли в три дня не сумеешь найти, так оно навсегда при мне останется» [Афанасьев 1985, № 221] - запродажа ребенка происходит, но обманный договор не выполняется: отец и мать запроданного три ночи прячут его, зашивая в шкуру животного, в результате черт вынужден отступиться от своего намерения (СУС № 810); «"Но, сынок, я итъ тебя прогневил ... Черт ночью придет и уволокет тебя". Но и Иван говорит: "Ниме, отец, не печалься. Все в порядке будет"» [РСЗ 1989, № 51] (в данном варианте обманный договор не исполняется, благодаря выросшему сыну, ставшему кузнецом и сумевшему отвадить пришедшего за ним черта - СУС № 1159).
Поскольку мотив представляет собой многоплановую в смысловом отношении единицу, синтагматическое развертывание его может зависеть от различных факторов и не в последнюю очередь от жанровой принадлежности текста. Как видно из приведенных примеров, не все из сценариев могут воплотиться в форме волшебной сказки. Этот жанр, обязательно требующий счастливого конца, отсекает возможности развития темы, связанные с гибелью ребенка (оно возможно лишь в рамках несказочной прозы в виде былички или легенды). Сценарий нейтрализации не может реализоваться в волшебной сказке, потому что нейтрализация не предполагает перемещения героя между мирами, обязательного для данной жанровой разновидности сказочной прозы. Зато он возможен в форме новеллистической сказки об одураченном черте (см. примеры выше; при этом нейтрализация последствий неправильного поведения родителя осуществляется не с помощью характерных для мифологической прозы обережных средств, а с помощью трюка, обмана).
Как уже было сказано выше, в отличие от родительского проклятия запродажа не является результатом непреднамеренного действия запродающего. Договор с нечистой силой заключается добровольно, с этого момента ребенок, хотя и остается с родителями, но уже частично принадлежит нечистому миру, а мать и отец не предпринимают попыток изменить положение вещей («Царь и заплакал: "Доброхот, я тебя отсулил". - "Ах, папаша, ты бы сказал бы мне, так я бы давно в дороге был!" Вот они ему напекли подорожничков» [Смирнов 2003, № 5]).
Таким образом, для волшебной сказки наиболее вероятным оказывается сценарий повествовательного развития мотива «Запродажа», обозначенный нами как «реализация» (точнее, те ее разновидности, в которых запроданный не гибнет, а уходит в «иной» мир, пребывает там некоторое время, а затем благополучно возвращается). Однако, поскольку волшебная сказка является жанром, сложно организованным в структурном отношении, прежде чем делать какие-либо заключения, целесообразно рассмотреть мотив «Запродажа» в составе целого, выявив его место и роль в структуре волшебной сказки. Анализ подобного рода позволит в дальнейшем сделать более точные выводы о возможностях развития этого мотива и некоторых закономерностях его функционирования.
«Детская» волшебная сказка
«Детской» мы называем волшебную сказку, рассказывающуюся взрослым сказочником слушателям-детям. Подобная ситуация исполнения оказывает определенное влияние на параметры текста, выделенные выше. Рассмотрим их в том же порядке, опираясь на имеющуюся у нас полевую информацию.
Отграниченность от бытовой речи.
Отграниченносгь от бытовой речи свойственная и «детской» сказке: «У ней крылечко было такое рубленое, и вот где лесенки, несколько лесенок было, ну, может быть, лесенок восемь, чтобы подниматься. И рубленое крылечко, очень красивое. И скамеечки тут были, сиденья. И вот мы собираемся на эти лесенки, а она че-нибудъ начинает, вот всякие истории рассказывать, сказки вот» [АКФ 2010, т. 2, № 159].
Однако за счет частого включения «детской» сказки в бытовой контекст этот признак может выражаться в ней слабее, нежели во «взрослой»: «Интересно, что первая сказка была рассказана с нравоучительной целью: внук отказался ей принести прялку, бабка назвала его Отетъю и рассказала историю про Лень и Отетъ. Вторая сказка - "Небылица" - тоже была вызвана реальным случаем: младшая внучка требовала, чтобы разожгли печку, бабка ответила ей, что спичек нет и, желая предотвратить слезы, сказала: "Седъ, я тебе скажу, как без спицок Иван добро нажил"» [Карнаухова 2006,440].
Приведенная цитата свидетельствует о связи сказочного повествования с ситуацией, в которой актуализируется дидактическая функция текста, на что указывали многие исследователи и, в частности, Д.К. Зеленин: «Детские сказки в устах деревенских жителей имеют также и образовательное значение: они должны познакомить детей с новым кругом предметов и явлений» [Зеленин 2002, 22]. Сходная ситуация регулярно возникает и в ходе полевого интервью, когда собиратель воспринимается исполнителем как профан. Это провоцирует рассказчика вводить в текст сказки соответствующие пояснительные ремарки: «Ну, ввернул старуху в дерюгу (тогда ж дерюги были такие, что накрывались: вот сейчас одеяла, а то ткани) и говорит, взял в зубы (как же по лестнице лезть?!)» [АКФ 1979, Куйб., т. 2, № 370]; «Разжёг этто шворень (это вон что в повозке бывало на ей, чтоб держался передок) докрасна-докрасна» [АКФ 1979, Куйб., т. 2, № 377].
Длительность.
Что касается длины «детской» сказки, то многие собиратели и исследователи отмечали ее меньшую протяженность в сравнению со «взрослой»30: «...эти детские сказочки у всех однообразны, рассказываются плохо, с пропусками и без конца, вообще - "как Бог на душу положит"» [Зеленин 2002, 15]; «Дети и старики чаще всего представляют собою рассказчиков нормального среднего эпического размаха. Отличие их от рассказчика на продолжительность не столько в длине сказки, сколько в том, что среднего размаха эпик не чувствует и не интересуется длиной своих сказок» [Никифоров 2008, 57].
Отсутствие интереса к долгой сказке связано с тем, что детская аудитория главным отличительным признаком сказки считает не красоту повествования, а испытываемые во время слушания эмоции. Большинство опрошенных нами информантов, вспоминая о сказках своего детства, указывали на испытываемое чувство страха как обязательный признак интересного повествования: «Ой, ребята заревели, убежали. Забоялись. И боимся идти даже домой. Все, окошком лезем (смеется). [Окошком не так страшно?] Дак конечно, окошко открыл створку и всё» [АКФ 2010, Нал, т. 2, № 160]; «Я забыл, я забыл сказки, давно ведь это, еще до 1950-го года. ... Она рассказыват, а мы спим на полатях на печке. Нам страшно делалось. ... Какой-то страх был. Такая сказка. Такое вот» [ЛАИ 1999, Пин., т. 1, № 126]; «[Рассказывали сказки в старое время?] Ой, рассказывали. Рассказывали, а я сижу, ноги поджимаю, там больно страшные всякие сказки, больно страшно рассказывают. ... [А кто рассказывал?] Да там пожилой какой-нибудь человек. ... А вот я боялася этих сказок» [АКФ 2010, Наг., т. 2, № 241].
Приоритет эмоции отражается и на номинации жанра (речь идет именно о сказках): «Я когда маленькая была, мне рассказывали эти страшилки» [АКФ 2010, Наг., т. 9, № 71].
О желании напугать слушателей свидетельствуют и сами исполнители («[А они какие должны быть: нестрашные или страшные?] Ну как, сказка нестрашна не бывает ведь. [Нестрашна не бывает?] Ак конечно, на то она и сказка» [Адоньева 2, эл. версия]), и наблюдатели («Сказку № 34 она рассказывала девочке трех лет, которую она пестовала, причем у Поздняковой было явное желание напугать ребенка ... В конце концов ребенок расплакался» [Карнаухова 2006,402]).
Эмоциональное переживание страха, на которое ссылается большинство слушателей, заставляет нас предположить, что в детской сказке, наряду с эстетической и дидактической, важной оказывается фатическая функция. Очевидно, что при невозможности коренной трансформации сюжета сказки, вынесение фатической функции на первый план должно осуществляться за счет использования неких приемов (в самом широком смысле), обеспечивающих эмоциональную реакцию слушателя. Приведем пример из статьи СБ. Адоньевой, характеризующий исполнение сказки как творческий процесс: «[А Вы про кого рассказываете сказки?] Про их (речь идет о внуках исполнительницы — Я.С.) и рассказываю. [Про них?] Да. [А про них какая сказка, интересно?] Самая настоящая, а как же» [Адоньева 2, эл. версия]; «"Бабушка, расскажи мне". - "Чего?» - "Да вот как я пошла за цветочками-то, или за ягодам да". Начинается сказка-то так» [Адоньева 2, эл. версия] - в обоих примерах видно, что героем создаваемой сказки является ребенок-слушатель.
Если сюжет не допускает подобных подмен, то рассказчик приближает персонажей к слушателю/лям за счет совпадения определенных параметров: пола, имени, обстоятельств жизни, возраста.
Поскольку половая принадлежность героя является его постоянной характеристикой, можно предположить, что в этом случае состав аудитории может влиять на выбор сюжета, т. е. мальчикам рассказывали сказки о героях мужского пола, девочкам — о героях женского пола. Мы не можем сказать, было ли это разграничение относительным или абсолютным, однако в существовании такого критерия сомневаться не приходится. СБ. Адоньева, рассматривая сказки «в качестве социальных инструментов, организующих поведение и биографию» [Адоньева 2, эл. версия], затрагивает вопрос о женской и мужской посвятительных схемах, реализующихся в разных сказочных сюжетах. Так, например, ориентированными на мальчиков были сказки о коте, петухе и лисе (СУС 61В), мальчике и ведьме (СУС 327С, F), которые по-разному реализуют одну сюжетную схему: на героя, нарушившего запрет, покушается женский персонаж, от посягательств которого он избавляется сам (в более «взрослой» версии) или с помощью другого мужского персонажа (в «детской» версии с героями-животными). Еще один сюжет — про глиняного мальчика (СУС 2028) - фиксировался с пометкой «на то, что эти сказки бабушки рассказывали мальчикам-внукам» [Адоньева 2, эл. версия].
На основании вышеизложенного можно предположить, что для сюжета СУС 532 основной слушательской аудиторией были мальчики старшего детского и раннего подросткового возраста (6-10 лет). Возраст героя является наиболее важным условием, определяющим способность/неспособность слушателя-ребенка к эмоциональному восприятию сказки и к проекции ее содержания на себя. Очевидно, предпочтительным здесь будет совпадение возрастных групп героя и слушателя. Развернутая версия сюжета СУС 532 отвечает этому требованию в первой части — сюжетном блоке, посвященном вручению ребенка во власть нечистой силы. Однако максимальное приближение к канону «детской» сказки предполагает участие героя-ребенка на протяжении всего сюжета. В «классической» версии сюжета запродается герой-ребенок, но действует герой-взрослый. Его взросление вынесено за рамки действия и, как правило, задается через обозначение некоего временного промежутка: «Сын растет хороший, красивый, а король ему ничего не говорит. Прошло восемнадцать лет, день этот пришел. Он сына позвал в кабинет и все ему рассказал» [Карнаухова 2006, № 47].
Введение в сюжет героя-ребенка подразумевает исчезновение из текста сказки подобных временных обозначений, и тогда передача ребенка его новому хозяину наступает вскоре после заключения обманного договора: «Когда он подошел к дому, выбежал к нему навстречу маленький мальчик. Тогда крестьянин сказал ему (это был его сын, который родился без него): "Я тебя отдал Ярахте кривому". Мальчик сказал:
"Я пойду"» [Смирнов 2003, № 327]. Интересно, что данная сказка записана от подростка, что, на наш взгляд, служит дополнительным доказательством в пользу высказанной гипотезы о том, что сказка может видоизменяться, приспосабливаясь под потребности детской аудитории. При этом изменение возраста героя не отражается в сюжетном блоке «Запродажа/вручение нечистой силе», поскольку, как уже отмечалось, сюжетная линия этого блока является типологически схожей со сказками об испытании детей/девушки ведьмой/медведем/другими. Однако сюжетный блок «Незнайка» имеет брачную и богатырскую телеологию, поэтому требует принципиально иного типа героя. В таком случае для рассказчика возможны два решения проблемы.