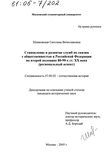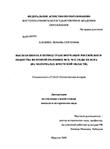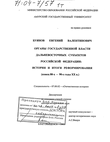Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Российские этнологи о «постмодернистской» критике антропологии на Западе 13
1. Проблема научного перевода идей постмодернистской критики этнографии 13
2. Научная историография в российской этнологии и проблема критики этнографических текстов 19
3. Кризис этнографии в различных дисциплинарных контекстах 25 стр.
4. Представление проблематики постмодернистской этнографии в текстах российских ученых
Глава II. Становление экспериментальной этнографии и жанровой критики в американской культурной антропологии 48
1.Познавательный кризис в культурной антропологии 48 стр.
2. «Новая этнографическая восприимчивость» и внутридисциплинарная рефлексия 56
3. Постмодернизм, межкулътурный диалог и авторство этнографических текстов 75
4. Постмодернистская критика и экспериментальная этнография: достижения и/или поражения
Глава III. Критика антропологии и философский дискурс 2- ой пол. XX в. 100
1. Критика антропологии в контексте критической социальной теории в философии 100
2. Философские истоки критической антропологии 122 стр.
1) Социокультурная антропология и философская герменевтика 122 стр.
2) Язык, дискурс и проблема относительности научного познания социальной и культурной реальности
3) Релятивизм и герменевтика: науковедческая рефлексия 141 стр.
Глава IV. Пути развития и ревизии постмодернистской критики антропологии 153
1. Позитивистские перспективы постмодернистской антропологии 153
1) Культурные исследования и новое восприятие времени и истории в антропологии 153
2) Антропология колониализма, постколониальные исследования и проблема пространства 163
3) «Поле» и концепция пространства как самооправдательные стратегии в антропологии 175
2. Рефлексивная практика антропологии «после постмодернизма» 183 стр.
4) Проблема субъекта полевого исследования. Самость антрополога как исследовательский инструмент 194
Заключение 218 стр.
Библиография 229 стр.
- Научная историография в российской этнологии и проблема критики этнографических текстов
- Постмодернизм, межкулътурный диалог и авторство этнографических текстов
- Социокультурная антропология и философская герменевтика
- Антропология колониализма, постколониальные исследования и проблема пространства
Введение к работе
В начале XX в. в гуманитарных исследованиях и науках об обществе произошли революционные изменения. Назывались эти революции в разных исследовательских сферах по-разному: феноменологическая революция в философии, лингвистический поворот в языкознании, поворот от исследований общества к исследованиям культуры в социологии (первоначально немецкой) и т.п. Объединяло эти революционные преобразования особое внимание к роли знака/символа в процессах человеческого общения и понимания, а также особой роли языка в производстве знания о человеке, обществе и культуре. Плоды философских и историософских потрясений начала прошлого века наука особенно активно пожинала в его последней трети. Это справедливо и в отношении западной культурной и социальной антропологии, которая в эпоху больших поворотов только укреплялась как естественная история культуры и общества.
Следствием открытий в. области языка стала критика самого способа организации Знания в истории философской и научной1 мысли Запада, пересмотр так называемого модернистского проекта построения просвещенного общества, члены которого вооружены научным! методом познания. Позиции, с которых велась сама эта критика в разных областях знания, сильно разнились, и, объединены были не столько общими мировоззренческими критериями, сколько названием критического проекта -постмодернизм. Постмодернизм серьезно сблизил науку и искусство, философию и литературу, поскольку заставил их считаться с «эффектом языка» в процессе производства знания. Очень скоро особой языковой реальностью сделалась и сама наука или философия. Во всех областях науки и культуры постмодернистская критика диктовала перенос внимания с объектов описания - научного или художественного - на язык этих описаний. Постмодернисты доказывали, что организация текста имеет приоритет над научной концептуализацией, поскольку понятия и идеи обретают значение посредством текстовой формы. Любое утверждение о реальности - это утверждение не только на языке, но и о языке. В научном описании, например, истории и культуры имеют дело не с прошлым или культурой как таковыми, а с языковыми моделями прошлого или культуры. Разделение на фикцию и реальность ставится под сомнение в рамках постмодернистского дискурса. В модернизме присутствовали абсолютные референты - значения, которым приписывалось качество объективной реальности - прошлое, культура, человек, знание. В постмодернизме этим качеством наделяется только язык, поскольку человек во многом бессознательно его усваивает и существует в его реальности. При этом основным критерием и условием идентификации текста, в том числе и научного, признается наличие другого текста. «Постмодернизм, - пишет философ истории Ф.Р. Анкерсмит, - есть, прежде всего, теория письма. Таким образо м, это не столько теория интерпретации, каковой является герменевтика, сколько теория (непреднамеренных) следствий интерпретирующего письма в той мере, в какой мы обнаруживаем эти следствия (effects) в литературной теории и, конечно, историографии»1. Постмодернизм в различных исследовательских сферах чаще всего принимает форму критики.
Постмодернистская критика антропологии имеет свою историческую «национальность» - она американского происхождения и образца, хотя, так или иначе в нее были- вовлечены и представители европейской науки. В институциональном плане культурная антропология в США в последние десятилетия прошлого века переживала расширение неакадемической активности специалистов-антропологов. Как в Америке, так и в Европе прикладная антропология одновременно утвердилась и легализовалась. Многие исследования не просто имели прикладной аспект, например, косвенно оказывали влияние на общественное мнение, а сделались частью политики принятия решений в тех или иных социальных сферах. Во многом этому способствовал тот факт, что антропологическое «поле» в результате мировых социально-политических и экономических процессов стало все чаще перемещаться на соседние по отношению к местоположению самих исследователей улицы. Американская антропология всегда была тесно связана с критикой западного общества. Вместе с углублением, внедрением прикладных антропологов в общество, в оборот к средствам массовой информации и через них в сферу массового общественного сознания были внедрены многие антропологические научные понятия, которые возвращались в науку в искаженном или расширенном значении и служили почвой для критической научной рефлексии.
Американские антропологи в обработанном американской литературной критикой виде восприняли идеи европейских мыслителей -философов и социологов, условно относимых к постструктуралистскому движению в науке и литературе и занятых проблемой критического рассмотрения исторических и языковых условий - контекста - возникновения различных областей европейского знания. В то время, как гуманитарное знание Европы «политизировалось» и сферы его влияния расширялись, антропология в лице в первую очередь американских антропологов, пыталась взять на себя» функцию привития социологического подхода и социальной критики на гуманитарную почву. Этнография, все чаще расцениваемая как особая практика дисциплины антропологии должна была открыть гуманитарной сфере проблематику власти и политики. При этом этнография представала как всеобъемлющая практика, включающая в себя «политику и поэтику» особого научного жанра, в котором работают антропологи. В этом качестве она служила самообоснованием дисциплине. Этнография - один из типов гуманитарного повествования, которое эмпирически выстраивается на основании непосредственного социального опыта, приобретенного вне академической культуры. И, несмотря на то, что сама этнография как форма репрезентации инокультурной реальности очень скоро подверглась масштабной критике, американские антропологи были уверены, что она предоставляет гуманитариям политическую сцену для дискуссий. Стремление антропологов постоянно доказывать достаточную «научность» и, одновременно, быть более, чем «академической дисциплиной», притязание на гуманитарную и социальную значимость стало основной локальной характеристикой кризиса научного знания и общества в США. В 80-е гг. XX в. американская антропология, а вслед, за ней, в той или иной мере, и европейская, стремилась к расширению и преодолению себя через критику. Критикой, наполовину литературной, наполовину социально-философской, была охвачена антропология.
На волне отвержения визуалистских метафор отношения между словом, мыслью и миром постмодернизм негативно трактовал понятие репрезентации - отражения реальности - в целом как знаково опосредованного, закодированного в соответствии с той или иной языковой системой, представления мира, превращающегося в рамках жанра и писательских стратегий в определенную идеологию. Этнографическая репрезентация была подвергнута серьезной критике в ряду других. Она была объявлена той основой антропологии, которая отсылала к колониальным условиям зарождения дисциплины и способствовала колониальным общественным отношениям и восприятию Западом «других» народов и культур. В процессе исследований колониализма и постколониальных условий существования третьего и четвертого мира антропологами было перенесено из текстового анализа на антропологическую почву понятие контекста. Восприимчивость к контексту этнографического повествования стала расцениваться как важнейшее профессиональное качество ученого.
«Политике репрезентации» в антропологии - политике конструирования и представления в науке ее объекта, претендующего на достоверное и точное предметное отображение реальности, была противопоставлена практика рефлексивной антропологии. В постмодернистской этнографии одновременно критиковался и процесс создания отличия или изобретения Другого и процесс нивелирования голоса информатора в этнографическом письме. Уже в начале 70-х гт. антропологическая рефлексия сделалась предметом рассуждений и дискуссий. В узком значении она представлялась как самосознание антрополога, вовлеченного в межличностное взаимодействие во время полевой работы, а в более широком смысле должна была выступать в качестве пробы самой дисциплины на предмет условий и моделей производства антропологического знания о других культурах. Концептуально оформленная в виде критики рефлексия превратилась в антропологическую практику.
Отказ от модернистской формы производства знания должен заключаться в отказе «идентифицировать» других как объект, а процесс не производства объективного знания, а понимания (знания других и себя) должен идти посредством «идентификации с» друпши себя как субъекта.
Следствием такого подхода стало внимание к биографии и автобиографии как антрополога, так и его собеседника в «поле», внимание к авторскому «я» антрополога как дискурсивному субъекту этнографии, анализ особого «этнографического реализма» как познавательной и нарративной стратегии в этнографическом жанре.
Текстовый анализ и пересмотр классических для науки работ мэтров антропологии, рефлексивная направленность и эксперименты со стилем написания антропологических монографий, исследования колониального контекста антропологических концепций привнесли в науку множество понятий, заимствованных из других исследовательских сфер, в первую очередь, литературоведения, языкознания, социологии и философии. Предметом критики стал антропологический дискурс - языковая, речевая среда, сформировавшаяся вокруг тематики столкновения, встречи, контакта и изучения Других культур. Сама критика при этом принимала форму деконструкции - разматывания понятийного клубка, составляющего ядро какой-либо ветви знания. Эти и другие понятия прочно вошли в научный обиход западных антропологов. Разумеется, перенос многих из них не мог не привести к новым проблемам и новым виткам внутридисциплинарной рефлексии.
Объект данного исследования - англо-американская антропологическая научная традиция. Предмет - внутридисциплинарная критика антропологии и этнографии в США и Европе, а также экспериментальная этнография в 80-90-е гг. XX в.
Цель данной работы - представить ситуацию, в которой развивалась критика антропологии на Западе, в первую очередь, в Америке, в 80-90-е гг. XX в.; выявить основную критическую проблематику, с которой были связаны антрополога, занятые рефлексией на тему особенностей и перспектив развития науки. Эти цели диктуются особенностями анализа критики и, в свою очередь, диктуют особенности исследовательского подхода. Необходимо указать на ограничения, с которыми пришлось столкнуться в историографической работе, имеющей дело с таким предметом, как переходный и критический по идеологической направленности этап развития иной дисциплинарной и познавательной традиции.
В процессе критики этнографических текстов американскими антропологами было отмечено, что жанр научной монографии подталкивает к тому, что введение к научным работам, как правило, пишется последним, после написания и редактирования основного текста, но продолжает называться введением. Это название впрочем, оно носит вполне заслуженно, постольку, поскольку расширяет доступ достаточно широкой аудитории к специфической теме. Чтобы этот доступ предоставить, исследователь нуждается в четком и окончательном уяснении того массива данных, задач и выводов, с которым он имеет дело.
В ходе работы над диссертацией я пришла к выводу, что первоначальная цель работы - описать экспериментальный этап развития культурной антропологии - должна быть скорректированы в соответствии с теми данными, которыми я располагаю и теми требованиями, той логикой изложения, которую диктует выбранный мною материал для историографического исследования. Ключевое слово здесь снова - «критика». Ограничением для описания «политики» этого этапа служила моя невключенность в институциональные отношения западной антропологии, знание или участие в которых сегодня желательно для критического рассмотрения дисциплинарной истории. «Поэтика» - литературно-критическое содержание этого этапа нуждается в переводческой работе и адаптации идей и понятий, критическая адаптации которых в самой изучаемой традиции, как уже было отмечено, далеко не завершена. Кроме того, перевод предполагает высокую степень заинтересованности в себе принимающей аудитории. В главе 1-ой своей работы я показываю, что российская научная традиция воспринимает этап постмодернистской критики антропологии на Западе, как пройденный, отработанный, и не слишком продуктивный для усвоения отечественной этнологической почвой.
В итоге необходимо признать, что цель и форма моего рассмотрения научной рефлексии в антрополопіи в последние десятилетия прошлого века на Западе — это представление, попытка критического отражения чужой внутридисцишшнарной критики. Репрезентация, однако, это весьма уязвимая форма обращения с любой реальностью, в том числе идеологической и концептуальной.
Репрезентация тесно связана с понятием конструирования предмета изучения. Нужно отметить, что создание историографии путем конструирования некоей концептуальной целостности - распространенный метод представления особенностей иной познавательной традиции. В отношении критики антропологии в усилиях по представлению такого целого, на мой взгляд, была необходимость. Во-первых, хронологически этап критики, конечно, не ограничивается 80-90-ми годами прошлого века. «Полевая» рефлексия начиналась раньше этого времени, но совершенно иначе зазвучала в исследованиях различных форм субъективности в антропологии в 90-е гг., критика этнографических текстов была сосредоточена в 80-е гг., но ее риторическое усвоение и ревизия дают интересные эффекты для антропологии сегодняшней. Во-вторых, критика антропологии была в последней трети 20 века порой разнонаправлена: постмодернистские настроения сочетались с совершенно «модернистскими» устремлениями к реформированию науки и поискам новых этнографических «репрезентаций». Как следствие, множество заимствованных из иных областей знания концепций приобретали иногда противоположное значение в зависимости от целей их интерпретаторов. Таким образом, усмотреть некие закономерности движения критики, представить спектр следствий из тех критических посылок, которые содержались в самых известных и широко обсуждаемых работах того времени, мне представлялось важным и небезынтересным.
Таким образом, тема моего исследования - критика антропологии как дисциплины и этнографии как антропологической практики - связана с проблемой - представления масштабной и разнонаправленной критики в жанре историографии.
Цель - представить основные тенденции и ситуацию разворачивания критики западной антропологии на определенном этапе - в 80-90-е гг. прошлого века - связана с особенностями подхода - попыткой конструирования некой целостности, в которой были бы заметны закономерности постмодернистской критики.
В круг моих задач в данном исследовании входило:
1) рассмотреть, как представлена постмодернистская критика антропологии в российской этнологии, определить критерий оценок современными российскими исследователями научной рефлексии западных антропологов. Мне показалось необходимым предпослать эти рассуждения непосредственному рассмотрению работ западных исследователей, поскольку, во-первых, это позволило бы показать отправную точку и перспективу моих собственных размышлений, а, во-вторых, это отвечает законам историографического жанра в отечественной традиции;
2) представить логику разворачивания критики от рефлексии на тему полевого исследования до исследования поэтических и политических этнографического жанра и опыта создания экспериментальных этнографии;
3) связать критику этнографии с социальной критикой в социологии и критикой метафизики в философии и языкознании во второй половине 20 века; вычленить логику заимствования концепций и категорий критически настроенными антропологами;
4) рассмотреть и дать оценку ревизии постмодернистской критики в антропологии США и Европы.
В историографической работе методы исследования - это тесно связанные с задачами работы пути и способы изложения материала. Главы работы представляют собой попытки решить поочередно поставленные задачи. Я исхожу из того, что критика антропологии - это не критика какого-либо научного направления или школы, это критика научной дискурсивное™ - установившихся способов рассуждений на тему иных нардов и культур. Потому и сама критика приобретает форму дискурса. Я не претендую здесь на анализ дискурса, но в моем представлении критики я использую прием прослеживания внутридискурсивных зависимостей и изменений. Для этого, отталкиваясь от значимых для этнографической критики текстов 80-90-х гг., я пытаюсь конкретные положения и высказывания их авторов поставить в широкий контекст дисциплинарной и внедисциплинарной критики.
Актуальность складывается из своевременности и полезности конкретного исследования для науки и научного сообщества. Я полагаю, что, спустя десять-пятнадцать лет после начала дискуссий о кризисе российской этнографии после Перестройки, настало время для уяснения характера этого кризиса и связи его локальных проявлений с особенностями развития мировой этнографической науки на рубеже XX-XXI в. В этой ситуации мне кажутся важными усилия по представлению и переводу западной критики антропологии.
Научная историография в российской этнологии и проблема критики этнографических текстов
В российской этнографии история науки, называемая историографией, занимала важное место. Многих ее представителей всегда отличали энциклопедизм и прекрасная ориентация во всех гуманитарных дисциплинах, склонность к теоретизированию, высокий стиль научного перевода и изложения. Роль теоретика и историографа в советской этнографии неформально во многом совпадали, но при этом оценочно, в предметной иерархии дисциплины ниша историографа совпадала с особой институциональной и психологической позицией в науке. Заниматься историографией было не столь престижно, как собственно теорией этногенеза, первобытного общества и др.
С одной стороны, историограф имел доступ к богатым и хорошо разработанньш теоретическим ресурсам западной этнографии. В атмосфере замкнутости советского общества и науки, историограф получал редкую возможность вполне в антропологическом духе проникать в науку Запада как в своеобразное «поле» и приносить оттуда переведенные и творчески переработанные, интерпретированные концепции. С другой, эта была возможность испытать чувство интеллектуальной и психологической свободы, измеряемой степенью отрыва от советской идеологической рутины. Эта свобода включала в себя и свободу обращения с иноязычными концепциями - высший пилотаж культурологической и историософской герменевтики в рамках .марксистской критики. Ведь критикуемые авторы и их тексты располагались в безответном, Ином пространстве и времени, совсем, как первобытные народы и культуры золотого века антропологии. Эти концепции и тексты всегда существовали наравне с историческими источниками-документами. Уход в них - это был уход в Иное.
«...Все, что находилось в нашей науке, - говорит А.А. Никишенков, -постепенно приобретало характер пережитка. Эта была такая наука ностальгическая, официально эскапистская, ориентированная на избегание настоящего» . Характерной чертой эскапизма предметного и проблемного - было внимание к этнографическому прошлому, а эскапизма идейного - обращение к несуществующему в реальности, текстово-виртуальному, взыскуемому Западу.
Крайняя приверженность изучению Иного и игнорирование Однородного стали характерными чертами развития социальных и гуманитарных наук в 20 веке в целом. Под разными ярлыками эта исследовательская склонность критиковалась в постструктурализме и постмодернизме. В антропологии широко распространилась концепция Ориентализма Эдвара Сайда, в связи которой бурно развивались в конце века постколониальные исследования. У нас, гораздо ближе к методологическому контексту российской гуманитаристіїки, обсуждалось понятие «этнографического романтизма».
Страсть к изучению чуждого И.Н. Ионов связывает с психологическим эскапизмом исследователей, попыткой вытеснения своего образа и образа своего общества, логики своей культуры в область бессознательного. С точки зрения исследователя, это своеобразная «невротическая реакция на неприятие индивидуальных и общественных норм и ценностей»8. Реализации этого желания -вытеснить травмирующее «свое» на периферию - очень способствует «психотерапевтическая» культура в западном обществе.
У нас же дисциплинарный эскапизм, о котором говорит Н.Н. Никишенков, имеет как будто «внутреннее направление», рождается из стремления уйти в Иное, как в глубину, под воду, «на дно». Концепция «этнографического романтизма» в России больше связывается с тенденцией общественного сознания, а не с полем столкновения индивидуального и коллективного сознания или особенностью индивидуального мышления, в том числе мышления ученого. Это очень показательно. Под «этнографическим романтизмом» А.А. Никишенков, например, понимает тенденцию общественного сознания (мировоззренческую, эстетическую, а порой и социально-политическую), «исходящую из примата (абсолютного или. относительного) ценностей доиндустриальной, доурбанистической культуры для воспроизводства полноценной личности и гармоничных общественных отношений».9 Она возникает в кризисные периоды и направлена на восстановление баланса между естественным самодвижением народной духовности и рационализмом.
И действительно можно говорить о том, что Иное, которое выступает идеалом в нашем обществе, имеет характеристики преимущественно традиционалистские и исторические. Недаром метафора Зеркала - рассмотреть себя в экзотическом виде, переносе, которая была буквально «затерта» в социологии и культуролога Запада - была мало укоренена в нашем культурологическом мышлении. С. В. Соколовский в одной из своих работ отмечает, что ииаковость Других является нам в нашей психологической проекции, вполне соразмерно излагая одну из основных идей дискурсивной и социальной критики11. Но при этом, беря на вооружение «зеркальную» метафору, он серьезно ее проблематизирует. Формулировка психологической проекции не отказывает Другому в реальности существования как вещи в себе, недоступной нашему рассмотрению и пониманию. Другие - это не просто наши собственные ценности и предрассудки в зеркальном отражении или даже в негативе. Проблема в том, что это- наше представление об их чуждости имеет характер неоднородной и не полностью открывающейся мысленному взору мозаики, зеркала с неровной, кое-где потускневшей или треснувшей поверхностью.
Итак, характер нашего эскапизма - избегание реальности и современности, направление ухода - уход в историю, понимаемую как картина прошлого. Это максимально объективирует предмет познания. Для нас Иное и Другие обладают четкой темпоральной характеристикой отличности от нас, потому не могут быть осознанными в качестве зеркального отражения. Как следствие, основания для эпистемологической критики настолько разнятся, что, если мы и воспринимаем постмодернистскую антропологию, то только на уровне психологического и-эмоционального приятия или неприятия ее общего тона.
Постмодернизм, межкулътурный диалог и авторство этнографических текстов
В публикации своих лекций «Труды и судьбы: «Антрополог как автор...» (1988) К.Гирц рассматривает текстовые миры четырех знаменитых антропологов. В первом же очерке о Клоде Леви-Стросе и его «Печальных тропиках» Гирц говорит: «Характеризовать кого-либо как пишущего с намерением создания мира не значит обвинить его, это значит найти ему место в текстовом пространстве» . «Печальные тропики», по мнению Гирца, являются ключевой работой для понимания научного творчества Леви-Строса. Этот труд представляет собой целый космос, соединение нескольких книг, напластованных одна на другую. Он как будто создан, чтобы свидетельствовать, что символическим мышлением обладают не столько индейцы Кадувео, сколько сам Клод Леви-Строс. Он увлечен «не жизненными зарисовками/ не воссозданием чужого образа жизни в тексте, не интерпретацией и не объяснением его, а собранием и упорядочиванием того материала, который жизнь перерабатывает в формальные знаковые системы».78 Само по себе соединение в одном тексте нескольких (поэтического, этнографического, философского и др.) -это мифотворческий прием. Тот, кто пользуется им для сотворения мира, походит на мага и алхимика.
О магии этнографа, как известно, образно высказывался еще Б. Малиновский. «Хотя Малиновский, - пишет Дж. Стокинг, - пытался сформулировать «магию этнографа» как прозаическое «соединение некоторого количества правил здравого смысла с хорошо известными научными принципами», задача, которую он перед собой ставил, заключалась не в том, чтобы объяснить читателям, как это сделать, а, скорее, в том, чтобы убедить их, что это выполнимо, и что ему это удалось» . На своем примере он показал, что «магия этнографа» может быть только индивидуальным исполнительским мастерством. Академические этнографы его поколения проигрывали ему в создании новаторского образа этнографа-полевика. «Метод» Малиновского был не набором правил, а совершенно индивидуальным стилем. «Его новаторские методические предписания - ведение «этнографического дневника», построение «синоптических карт», полевые заметки с наброском «предварительных результатов» полевого исследования - утверждали конструктивную роль этнографа, находящего проблемы, ставящего цели и решающего задачи».80
Малиновский особо заботился об убедительности его этнографического опыта для читателя, используя для этого целый ряд художественных изобразительных средств. В качестве иллюстрации к этому тезису критики часто приводят выдержки из «Аргонавтов»: «Представьте, что Вы неожиданно оказываетесь сидящим в окружении всех своих вещей, в одиночестве на тропическом берегу, неподалеку от туземной деревни, в то время как катер, доставивший Вас, уже скрылся из виду...»
Для К.Гирца опубликованный дневник Малиновского в первую очередь высветил проблему «Пребывания там» ("Being there"), ту сторону, «полевую» территорию этнографической репрезентации, высветил литературную дилемму включенного наблюдения. Противоречивое, шокирующее и сбивающее с толку свидетельство о «поле» и информаторах в Дневнике и «вежливая ирония», царящая по отношению к туземцам - явно, как выразился Стокинг, «героям не его романа», в «Аргонавтах...». Дневник продемонстрировал, что Малиновский связывал «убедительность» в тексте с убежденностью в своей миссии в «поле». Именно такой убедительной личностью он стремился ощущать себя и казаться убедительной фигурой Другим. Он считал, что добиться этого можно только при помощи «полностью погруженного» подхода к этнографии. Он остро переживал трудности такого погружения на собственном опыте, возможно, благодаря своей «славянской душе» - «более пластичной и органичной, нежели у западноевропейского человека». В «Дневнике» как раз запечатлен сложный и неоднозначный момент «схватывания экзотики посредством потери себя, может быть, собственной души в непосредственности столкновения»83.
Так в чем же заключается литературная дилемма включенного наблюдения, которая обозначилась благодаря публикации Дневника? Она заключается в двойственности подхода Малиновского к этнографии: с одной стороны, выраженное в «Дневнике», все вмещающее (get-it-all-in approach) [личный опыт, личные эмоции и переживания] наблюдение и участие, с другой, все отсекающая (let-it-all-out approach) [личный опыт, личные эмоции и переживания] проза. На этом противопоставлении и замешана магия этнографа.
Продолжая свой почти литературоведческий анализ, и проводя литературные аналогии, - например, «Печальные тропики» он уподобляет формалистской поэме -К. Гирц связывает стиль, или «нарративную стратегию» Рут Бенедикт со стилем Дж.Свифта. Он характеризует этот стиль как «сознательное лицедейство» -риторическую стратегию, в зависимости от которой стоит вполне определенный образ культурной критики: «сопоставление знакомого и экзотического таким образом, что они меняются местами». В «Хризантеме и мече» большинство абзацев выстроено как смысловая параллель: «В Америке..., в Японии...». Р.Бенедикт, считает Гирц, не стремилась в своей работе «расшифровать» Японию и японцев. Скорее, «то, что начиналось, как знакомая попытка разгадать восточную таинственность, завершилось, и весьма успешно, деконструкцией западной очевидности».86
Гирц склонен искать истоки такого стиля в особенностях личности и профессиональной карьеры Р. Бенедикт. По мнению Гирца, стиль Р. Бенедикт, как и она сама в качестве профессионального антрополога, с самого начала был слишком «взрослым», зрелыми. Ее способность обезоружить и развенчать американскую исключительность, противопоставляя ей эффектных «других» (other), привела к тому, что ее работы и ее манера не принимались в ее интеллектуальном окружении. «Чтобы убедиться в том, что сказанное Г. Бенедикт требует особого понимания, заканчивает Гирц, - следует читать ее, держа в голове не М. Мид, А. Ляйтона или Л. Франка, а Дж. Свифта, Ш. Монтескье и Т. Веблена».87
Казалось бы, в фигуре четвертого антрополога, чей авторский стиль анализирует Гирц, трудно заподозрить что-либо сделанное. Какое красочное определение подстать славянской и «органичной» натуре Малиновского, поэтической натуре Р. Бенедикт и символической Леви-Строса, может соответствовать личности Э. Эванса-Причарда, кроме как «настоящий антрополог» «настоящей» британской социальной антропологии. Однако, как выясняется, сама эта безупречность может быть расценена как авторская маска с печатью особой «джентльменской» натуры.
Социокультурная антропология и философская герменевтика
В 80-90-е гг. 20 века произошла смена ориентиров в отношениях антропологии с философской мыслью Запада. Как известно, на протяжении всей первой половины 20 века антропология активно сотрудничала с психоанализом, психологией и социологией. В 50-70-х гг. она восприняла с оговорками философию языка и начала на новом уровне заниматься когнитивными процессами и символически-знаковой проблематикой, с одной стороны, и, переработав марксизм и новые экономические и экологические концепции, испытала очередной виток позитивистских подходов к культурной реальности, с другой. Все это были контакты в поисках познавательных оснований и подходов, которыми традиционно должна была обеспечивать философия научные дисциплины. В 80-90-е гг. антропология, казалось, прожила всю историю философии 20 века заново, поочередно примерив почти художественно осмысленные образы различных концепций и подходов. Антропологи пытались взглянуть на себя самих как на представителей одного из исторических направлений западной философии. Новый период приверженности литературно-философскому стилю мышления значительно отличался от всех предыдущих тем, что ученые проявили склонность к художественному осмыслению антропологической проблематики. Объясняется это, как уже было отмечено, специфической междисциплинарной областью концептуального заимствования и особым мировоззренческим климатом последних десятилетий прошлого века.
Тон в интеллектуальных штудиях этого времени задавало литературоведение. После структурализма философия вынуждена была заговорить языком литературной критики, но в 80-90-е философия практически отождествилась с критикой, по сути своей художественной или литературной. Как указывает И. Ильин, в 60-70-е гг. литературоведение импортировало проблематику и теоретические конструкции из истории, антропологии, философии, психоанализа и т.д. В 80-е гг., наоборот, эти области знания восприняли теоретический дискурс литературоведения для стимулирования своих собственных изысканий. Литературоведы стали культурологами, пытающимися выявить закономерности восприятия человеческим сознанием особенности духа современности.
Концепция поэтизации мышления, связанной с открытиями в области языка и литературного творчества, впервые громко заявила о себе в работах постструктуралистов, в первую очередь, Ж. Деррида. Постструктурализм стал той питательной средой, в которой расцвели игровые подходы не только к литературному творчеству, но и к теоретизированию в любой гуманитарной сфере.
На антропологию поструктурализм воздействовал, в основном, посредством идей М. Фуко в их социологизированном варианте и чрезвычайно влиятельной британской и американской литературной критики. Но при всем том, что антропология, в первую очередь, американская с готовностью отозвалась на постструктуралистские призывы к рефлексивному и деконструктивному анализу и письму в науке, она, тем не менее, восприняла новые веяния и тенденции очень выборочно. При ближайшем рассмотрении становится ясно, что в реагировании и заимствовании этого времени есть своя закономерность. Ученые, которые совместили антропологические штудии с научной и культурной критикой, акцентировали в постструктурализме, а за ним и в его двойнике - постмодернизме, ту философскую проблематику, с которой антропология уже была связана не одно десятилетие.
Наиболее приближенно эту проблематику можно связать с вопросом о роли понимания и месте герменевтики в теории познания гуманитарных дисциплин. Особый интерес к вопросам интерпретации, в свою очередь, повлек за собой обращение к проблематике субъекта антропологического знания и субъективности в антропологии как научной теории и практике.
Становление герменевтической проблематики в качестве философии в новейшее время связывается с именами представителей немецкой философской школы, в первую очередь, В. Дильтея и Шлейермахера. Дильтей стремился придать герменевтике значение, сравнимое со значением наук о природе, и, таким образом, проблема приобрела эпистемологический характер. Представители так называемой философии жизни стремились сделать критику исторического познания столь же основательной как кантианская критика познания природы, подчиняя ей разрозненные приемы классической герменевтики - закон внутренней связи текста, закон контекста, законы географического, этнического, социального окружения. Со времени утверждения "философии жизни" критика основ научной рациональности является общей темой философов и представителей других гуманитарных дисциплин.
Оппозиционная идеям философов понимания точка зрения на общественные или исторические науки такова: история и родственные ей дисциплины отнюдь не выходят за рамки общей научной рациональности во всем, что касается теории и методологии познания. В этих науках в качестве предмета познания и объяснения выступают правила, которые отличаются по своей форме от естественнонаучных законов, но с их помощью ученый проделывает ту же процедуру, что и ученый-естественник: получает вывод и объясняет. Попытки же философов понимания представить познаваемую реальность в виде целостной взаимосвязи смыслов, проникнуть в которые можно только путем понимания, объявляются мистификацией. Такую точку зрения отстаивает, в частности, современный философ науки К. Хюбнер.
Антропология колониализма, постколониальные исследования и проблема пространства
Тенденция к «утопизации», т.е. буквально концептуального лишения места, делокализации времени и пространства, охватила в 90-е гг. 20 в. гуманитарное мышление. Это было продолжением логики разорванности, фрагментарности «исторического текста», логики «от языка» и, в конечном итоге, логики восторжествовавшей во второй половине 20 века гуманитаристики. Объявление «конца истории» - это было, по сути всего лишь утверждение пост-позиции. В данном случае «после» означало после целостной научной концептуальности и после связной интерпретации - «партийной» в марксистской терминологии или «виговской» - в образах западной историографии - истории. Но эта позиция уже с момента обозначения ее «пост» нахождения тоже обрела свое место. Постмодернизм и любовь к постам во второй половине 20 века - это не только констатация некоей ситуации с рациональностью и практикой времени, это знак вхождения в силу, влиятельности гуманитаристики и социальных наук. Если «естественные» дисциплины всегда теоретизировали «по природе», но декларативно - до или даже вне здравого смысла, то гуманитарные - декларативно «по природе» и всегда после, «по здравому смыслу», который они всегда остраняли и деконструируировали.
Парадокс «терапевтических», кризисных и критических концепций, потрясающих основания и утопизирующих концептуальное пространство в том, что, с того момента, как они сами концептуально или парадигмально локализуются, их критический импульс исчезает, исцеляющая воля иссякает и обесценивается. Очень ярким индикатором такого процесса становится быстро проявляющийся и нарастающий интерес к таким «основополагающим» концептам как «пространство». «Проблема пространства», выросшая в социальных науках на дрожжах постмодернизма - это индикатор утопического передела территории знания. Это показатель языковой болезни и пустоты, охвативших гуманитарное мышление. Эпистемологически - это поиск новых «мест знания».
После того, как влияние литературной, текстовой критики ослабело в антропологии по мере разрастания и уточнения исследований колониализма, антропология стала признаваться частью «доминирующей ментальності!» , академическим ответвлением универсальной технологии доминирования и власти. Политическая роль текстовой репрезентации вошла из литературоведения в антропологию через критику ориентализма и других форм колониального дискурса. В 80—е-90—е гг., как отметил Питер Пельс, обозревая историю складывания «колониальных и постколониальных исследований» в антропологии, ученые все чаще подчеркивали, что о колониализме нельзя говорить в прошедшем времени. Антропология колониализма - это всегда и антропология антропологии. Изучение колониализма включает в себя изучение антропологического контекста, широкого поля этнографической деятельности, которое появилось прежде появления дисциплинарных границ и которое продолжает влиять на то, как эти границы проявляются и проводятся сегодня. С начала 90-х антропологи начали отходить от литературной теории, чувствуя, что «колониальный дискурс» неадекватно определяет объект критики исторической антропологии. Анализ текстовых стратегий колониального дискурса заменили попытки контекстуализации, которые включают в себя чтение этнографических текстов и колониальных архивов как мест неравенства и сопротивления и анализ практических условий колониального столкновения, которые породила эти тексты и архивы12.
От текстового анализа антропологами колониализма было отобрано по уровню значимости понятие контекста. Пельс считает, что историков и антропологов, в конце концов, привело к согласию именно представление о том, что и те и другие должны быть чувствительны к контексту. Концепция контекста стала действенной методологической инновацией в антропологии: «выносить за скобки частные вопросы исторической точности и определенности для того, чтобы увидеть текст полностью, определить структуру его повествования, картографировать переплетение лингвистических регистров и риторических модальностей»13. Для того, чтобы понять дискурс, необходимо проследить и сравнить темы и «места», происходящие из разных времен и мест, т.е. сначала деконтекстуализировать его для того, чтобы лучше понять значимый контекст специфических высказываний или символов.
Антропология колониализма превратилась в новую историографию антропологии - историю условий складывания науки и переписанную историю ее идей. Антропология, лишенная постмодернистской критикой прежних центра и основания, собиралась и концентрировалась в новых «местах»: колониализм - это культура, контекст антропологии - это колониализм, история - это конструируемое основание для доминирующей ментальносте, «другая» история - это именно другая, периферийная множественность историй, как повествований, антропология в целом - это колониальный метод антропологии - «поле».
Конкретные исследования в рамках антропологии колониализма сами по себе были огромным шагом на пути к «деконтекстуализации» колониальной системы, западной власти-знания, антропологии как таковой. Исследования «первого контакта» - первоначальных этапов колониального столкновения — привели к изучению взаимоотношений культуры и насилия. В исследованиях, посвященных миссионерской деятельности, миссионерство стало представляться как колониальная структура, развивавшаяся, благодаря роли языка и образования по особому пути. Практика создания особого нового языка, на котором общались миссионеры и обращаемые в новую веру, легла в основу государственных стратегий этнической идентификации во многих странах. Исследуя культуру поселенцев и плантационную экономику, антропологи пришли к выводу о том, что колониализм - это постоянное поле борьбы и перераспределения власти, а не единая, связная и постоянная стратегия. Феминизм добавил к исследованиям колониализма изучение его последствий для тендерной политики в отношении европейских женщин в том числе. В отношении освоения земель изучались последствия доктрины terra nullius: современный домашний или внутренний колониализм и связанные с ним рассуждениях об этнических меньшинствах. Очень важное место в антропологии колониализма занимает описание процессов онтологизации, рассмотрения концептов как реальных сущностей, которые характеризуют производство этнографии. В числе таких процессов - этнизация. Например, анализ особенностей торгового капитализма открыл, что термин фетиш, первоначально функционировавший только в рамках торговли, был использован для определения сущности многих африканских обществ. Торговая этнизация сыграла также важную роль в процессе развития европейского самосознания нового и новейшего времени и создания государств-наций. Понятие экономики было перенесено с семейных отношений на более абстрактный уровень «населения». Наконец, антропологи и культурологи показали, что постколониальные общества в обретших независимость странах в большинстве случаев основываются на «режимах развития», сконструированных в них или для них при колониальном управлении.