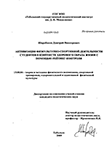Содержание к диссертации
Введение
Гл. 1. Гибридный образ «Рожаницы» в контексте архаичных представлений о мироздании . 31
1.1. Антропоморфные образы вышивки и их интерпретация исследователями . 31
1.2 . Концепция архаичной модели мира в виде живого существа . 41
1.3 . Рожающая Праматерь земля. 46
1.4 . Зоо-антропоморфная модель земли и мира. 53
1.5 . Одушевленный Космос. 65
Гл. 2. Изобразительные и мифологические символы «сакрального центра». 80
2.1. Знаки «центра» на образах народного искусства и концепция мифологического «центра мира». 80
2.2. Чудо-остров/камень как один из главных образов «сакрального центра». 91
2.3. Змеевидный мотив «центра». 108
Гл. 3. Изобразительная и мифологическая образность Древа . 134
3.1. Вопрос о семантике образа священного дерева в отечественной литературе . 134
3.2. Мифологический образ растительной вертикали в его соотнесенности с женским божеством. 141
3.3. Образ сложного Древа с параметрами «мирового» в русской вышивке. 160
Заключение 191
Примечания 204
Библиография 254
Список сокращений 284
- Антропоморфные образы вышивки и их интерпретация исследователями
- Концепция архаичной модели мира в виде живого существа
- Знаки «центра» на образах народного искусства и концепция мифологического «центра мира».
- Вопрос о семантике образа священного дерева в отечественной литературе
Введение к работе
Народное искусство как одна из форм информационной культуры.
Традиционное изобразительное искусство, помимо своей несомненной значимости как результата творческой деятельности того или иного народа, является и ценнейшим этнографическим источником, привлекаемым при решении этногенетических и многих культурно-исторических проблем. В его образах и символах зашифрована информация о развитии мировоззрения наших далеких предков. Начиная с самых древнейших этапов становления человеческой культуры, изобразительное творчество гармонично соединяло в себе два метода познания и преобразования действительности — художественный и интеллектуальный, в нем нашли выход и слились воедино искони присущие человеческой природе стремления души и ума. Хотя артефакты древнего и сохраненного нам традициями народного искусства, как правило, вполне самоценны в художественном отношении, они не являлись результатом только творческого импульса, а прежде всего были средством передачи определенных идей и представлений. Основные принципы художественного творчества — образность, ассоциативность — являлись определяющими на начальных этапах истории человечества также и в процессе познания мира, в результате чего возникали сложные мифологические системы мироустройства, в которые органично было включено и изобразительное творчество различного рода, выполнявшее подчас очень значительные мировоззренческие функции. Утилитарные функции изделий были теснейшим образом сопряжены с их орнаментацией, с их общей знаковой (семантической) функцией, так как «для архаического человека знаковая функция — неотъемлемое качество вещи как атрибута социума»1.
Искусство в традиционных обществах не только художественно и концептуально отражало явления мира, но зачастую служило и инструментом магического воздействия на него через различные образы и символы, за каждым из которых стоял значительный мировоззренческий пласт, часто являющийся для нас, далеких потомков их создателей, тайной за семью печатями. «Древнее искусство было каноническим, — справедливо замечает известный археолог Е.В. Антонова, — значение того, что изображалось, было значительно шире того, что находило непосредственное воплощение в изображениях или словесных формах произведения. Сами же произведения служат лишь знаками, указателями на тексты (в семиотическом смысле)... Сами произведения могли поэтому обладать незначительным числом элементов, которые, к тому же, имели тенденцию схематизироваться»2 (курсив мой — И.Д.). В связи с этим главное условие удачи при поиске исконного смысла таких «знаков» — введение их в контекст именно того «текста», на основе которого они возникли.
Традиционное искусство современных народов — молчаливый наследник тех далеких эпох, на протяжении тысячелетий оно «преследовало суть, идею, образ великих истин, а совсем не обманчивое разнообразие их внешних проявлений. Допускалось изображать только те
сюжеты, за которыми издавна было признано глубокое символическое значение» . Народное искусство, как и древнее, «не только одна из форм мифопоэтического сознания, ... но и источник информации об этом сознании, о мифологии»4 (курсив мой — И.Д.), и хотя интерпретация его образности требует привлечения широкого культурологического материала, однако благодаря своему основному качеству — визуальности, наглядности — оно само способно порой оказать существенную помощь при реконструкции традиционной картины мира в выявлении внутри нее системных и структурных взаимосвязей, которые могут с трудом просматриваться по другим видам народной культуры. Наиболее ценны в этом отношении народные вышивки Русского Севера, сохранившие древние композиции, образы, стиль, технику исполнения (двусторонний шов или набор). «Вышивки архаического типа справедливо признают выдающимся явлением русского народного искусства, — писала известный ученый Г.С. Маслова. — Это один из важных источников для раскрытия особенностей древнего мировоззрения их создателей»5. «"Полотняный фольклор" сохранил в механической передаче то, что уже выветрилось из памяти людей. В этом состоит величайшая ценность вышивок», — утверждал академик Б.А. Рыбаков6.
Актуальность изучения народного творчества — как его художественного аспекта, так и содержательного — в современном обществе только возрастает, хотя такое творчество и является преимущественно элементом уходящей культуры. В век все большей глобализации, с одной стороны, и обострения межэтнической розни — с другой, все большее значение приобретает изучение мировоззренческих и эстетических основ в миросозерцании различных народов, позволяющее выявить как их этническое своеобразие, так и то общее, что объединяло человечество на протяжении многих тысячелетий. Эта близость значительно большая, чем представляют себе современные разжигатели этнической и конфессиональной вражды, о чем свидетельствуют все более расширяющиеся в последнее время сравнительные исследования древних представлений и народного творчества, проводимые, в частности, и в данной работе. В ходе таких исследований выявляется близость многих мировоззренческих и эстетических установок у разных народов на протяжении тысячелетий, их жизнеутверждающая в своей основе направленность, общность культурного пути человечества в освоении и преобразовании мира. С другой стороны, каждый из народов создал свою, совершенно своеобразную разработку основных мировоззренческих идей и образов, внес свой неповторимый вклад в общую культурную «копилку» человечества. Бережное сохранение традиций каждого народа, всего того лучшего, что было достигнуто в области материальной и духовной культуры, — одна из главнейших задач человечества, если оно не хочет скатиться обратно к дикости.
Однако необходимо не только сохранять то, что еще недавно было живо, но и попытаться понять, что за этим стояло, какими путями шло человечество в познании мира и в какие формы вылились его открытия и заблуждения на этом пути, так как глубинные слои мировоззрения народа — основа его духовной культуры, своеобразия его души. Несмотря на то, что
древние мифологические пласты в мировоззрении наших далеких предков можно считать по преимуществу заблуждениями в истории научного познания, однако именно в них отразился импульс творческой мысли, они развили воображение, творческий подход к действительности и породили богатейшую художественную культуру народа, выразившуюся как в неповторимом устном и музыкальном народном творчестве, так и в выразительном, красочном декоративно-прикладном искусстве.
Информация о глубинных истоках русского народного миросозерцания, отразившаяся в народном творчестве, в настоящее время остается востребованной в широких общественных кругах, среди людей, любящих и ценящих историю и культуру своего народа и толерантно настроенных по отношению к другим народам. Кроме того, достижения в этой области имеют немаловажное значение для исследований в иных областях науки — культурологии, религиоведении, фольклористике, психологии и пр., а также — для практики музейного дела при формировании экспозиций и выставок, ведении экскурсий (в ходе которых, в частности, у детей появляется дополнительный импульс для формирования чувства патриотизма). Разрабатываемая в данном исследовании проблематика пользуется большим спросом также у преподавателей основ народной культуры в школах и домах творчества (что показало как общение автора с представителями этой профессии, так и чтение им лекций). Данная работа имеет также значение для развенчания некоторых аккультных учений и мистических идей, показывая вероятные, вполне реальные пути формирования в древности отдельных устойчивых архетипов и мифологем, явившихся определенными вехами в познании человеком окружающего мира и во многом объясняемых пытливостью человеческого разума.
Народное изобразительное искусство как никакой иной вид традиционной культуры может являться в современной жизни наглядным, символическим выражением самосознания народа, его мотивы и образы порой используются даже политиками в качестве символов эт-ничности, и в этом случае знание заложенных в них идей просто необходимо. Жизнеутверждающее начало, лежащее в основе рассматриваемых в данной работе образов, делает их вполне достойными того, чтобы они остались в памяти потомков их создателей.
Разработанность проблематики. Основные этапы изучения семантики русской народной вышивки.
Семантический аспект в изучении народного изобразительного творчества — лишь одно из разнообразных направлений, по которым ведутся исследования в этой области учеными разных стран, среди них можно выделить технологическое, стилевое, функциональное, социальное, этническое (в котором должны комплексно учитываться данные разных направлений), психологическое, структурное и др.7. Эта проблематика тесно связана с вопросом о происхождении древнего и традиционного искусства, по поводу которого также существует множество теорий8. Известный советский ученый СВ. Иванов, изучавший декоративное ис-
кусство народов Сибири, одной из главных побудительных причин возникновения орнаментации изделий считал ее содержательную сторону9. Однако он признает и иные пути появления орнаментики, в том числе технологический, эстетический, пытаясь проследить формальное развитие отдельных геометрических фигур от их основы и указывая на возможность конвергентного возникновения одной и той же фигуры из разных исходных10. Он отмечает, что геометризованные мотивы далеко не всегда являются результатом последовательного упрощения реальных изображений, а могут просто схематично передавать их главное содержание (так, например, крестообразная фигура у некоторых австралийских аборигенов происходила от двух скрещенных бумерангов и означала «сражение»); те или иные представления могли позднее вкладываться в уже известные мотивы; кроме того, одни и те же изобразительные элементы порой различно истолковываются разными членами даже одной родственной группы, и наоборот, совсем разные мотивы иногда имеют одно значение. В результате он констатирует, что мы пока не столько знаем, сколько стараемся представить себе, каким именно путем возник орнамент на заре человеческой культуры".
По-видимому, развитие различных орнаментальных комплексов могло идти разными путями в зависимости от материала, назначения, способа изготовления и техники декорирования того или иного предмета. «Материалы показывают, что в орнаментальном искусстве были группы узоров разного происхождения, восходящие к разным мировоззренческим традициям, — отмечает А.П. Косменко, исследовательница народного искусства финноязычных народов Севера Европейской России. — Есть в нем мотивы, имевшие некогда отношение к магическим, мифологическим... и космогоническим представлениям. Есть идеографические рисунки (например, тамговые знаки), которые существовали параллельно с орнаментом»; «... В нем, в частности, отражены разновременные эстетические, религиозные, мифологические представления и различного рода социальные взаимосвязи внутри и вне этноса»12, хотя процесс извлечения этой информации из изобразительных форм сопряжен с немалыми трудностями, а результат почти всегда остается в значительной степени гипотетическим. Немало затрудняет исследование плохая сохранность материала (народные вышивки дошли до нас преимущественно от конца XX — начала XX вв., отдельные образцы имеются от рубежа XV-XVI вв.13), что не позволяет проследить развитие сюжетов хотя бы на протяжении последних веков. Почти ничего не дает для изучения содержательной стороны вышивки и терминология узоров — в большинстве своем она позднего происхождения и отражает лишь визуальное подобие, что отмечалось всеми исследователями.
Несмотря на то, что семантика традиционного искусства у многих российских ученых всегда вызывала живой интерес, нельзя сказать, чтобы в отношении русской вышивки этой тематике особенно повезло в изучении. С середины — второй половины XIX века, на волне всеобщего увлечения народной культурой, музеи и частные коллекции стали все более пополняться предметами крестьянского искусства, начали издаваться альбомы красочных иллюст-
раций, хотя значению декоративных мотивов в них, как правило, внимание не уделялось , специальной работы по сбору полевого материала в этом отношении не проводилось. Акцент на данной проблеме был сделан в альбоме В.В. Стасова 1872-го года «Русский народный орнамент» — в большой вступительной статье автор касался таких вопросов, как этническая принадлежность орнаментальных образов, их древность и семантическая нагрузка, взаимовлияние христианского и народного искусства. Он наметил несколько ареалов на территории России по изобразительному строю, мотивам и технике вышивки, отметив, что двусторонний шов, распространенный на Русском Севере, является, вероятно, наиболее древним.
В отношении семантического аспекта вышивки следующее высказывание В.В. Стасова стало классическим для последующих исследователей: «У народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черточка тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений. Ряды орнаменти-стики — это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также для ума и чувства»15. Вышивку он считал ценным материалом «для изучения разных сторон древнерусской национальности», указывал на связь ее с дохристианскими представлениями и древней обрядностью, однако корни ее он стремился искать за пределами России, главным образом, в иранском искусстве, признавая также финское влияние. «По месту наши узоры не могли произойти специально в нашем отечестве, потому что существуют у многих других народов с незапамятных времен, гораздо раньше появления Руси на исторической сцене», — писал он16. Заимствования с Востока, по его мнению, были довольно ранними, еще до контактов с Византией, хотя более конкретно их пути он не определяет. В.В. Стасов отмечал, что в русской вышивке нет ничего заведомо русского — зимних мотивов, местных зверей и т.п., а трансформация образов зачастую очень велика, что создает большие трудности для интерпретации, значение же их «давным давно потеряно для употребляющих эту орнаментику». Но попытки объяснения русского народного орнамента через христианские сюжеты и образы он решительно опровергал17. В этой работе и в ряде статей он касается семантики некоторых конкретных мотивов —розеток, свастики, образов коня, птицы, деревьев, однако в этих вопросах он нередко отдает дань мифологической школе с ее стремлением во всем усматривать отражение небесных явлений. Привлекает внимание намеченная им линия генезиса изображений коньков на крышах домов — от реальных жертвенных черепов коней на шестах18. В целом можно сказать, что работы В.В. Стасова лишь наметили те основные направления, по которым необходимо изучать народное русское искусство и его семантику, хотя в отдельных вопросах им были сделаны ценные наблюдения (см. ниже об образе Древа — 3.3).
Вопросы семантики отдельных мотивов и образов затрагивал А.А. Бобринский в своем фундаментальном для начала XX века издании «Народные русские деревянные изделия» . В примечаниях он касался таких образов, как «солнечная колесница» и ладья, птица, в том числе
с человеческой головой (сопоставляя этот образ с представлениями о душе у народов древности), мотивов плетенки, свастики, сердцевидного орнамента, затрагивал вопрос об истоках сюжета драконоборчества — он указывал на их древневосточные корни, делал предположения о путях миграций, однако сопоставлений с собственно русскими, восточнославянскими представлениями мы здесь также не находим.
Хотя среди собирателей предметов народного искусства в конце XIX — начале XX вв. утвердилось мнение, что значение их декора давно забыто, порой они сами его опровергали
так, художник И. Билибин писал в 1904 году: «Но приходилось встречать старух, не матерей, а бабушек, которые ... увлекались и начинали с любовью рассказывать, как эти «досюль-ные» узоры переходили от матери к дочери, что вот этот узор назывался так-то, а тот — так-то, что та деревня вышивала на своих рукавах узоры такого-то образца, другая — другого, а третья — третьего; что теперь уже так не сработать, потому что времена не те»20. Остается только сожалеть, что в то время этой тематике не было уделено серьезного внимания. В 1911 г. в Российском Географическом обществе было принято решение об организации при Отделении этнографии «Комиссии по орнаменту народов России», которая была создана только в 1915 г. и в течение года собирала библиографию и разрабатывала программу по сбору материала, которая должна была быть разослана различным учреждениям России, музеям, а также
частным собирателям. Одна из главных целей, указанных в Программе, — «Выяснить название и значение каждого отдельного орнаментального мотива и каждой фигуры, изображенной на предмете. Это самая важная часть опросов». По известным всем причинам Комиссия так и не развернула активной работы, последнее ее заседание было 22 мая 1916 года. В члены ее входили такие знаменитые ученые, как С.Ф. Ольденбург, Д.К. Зеленин, В.Н. Хару-зина, Л.Я. Штернберг, В.А. Городцов и другие21.
В послереволюционный период археолог В.А. Городцов вернулся к вопросу о народном искусстве после организованной в Государственном Историческом музее в 1921 году большой выставки крестьянского искусства, по следам которой было опубликовано разными авторами несколько работ, в которых затрагивались и вопросы семантики. Среди них привлекает внимание исследование Г.Л. Малицкого22, посвященное хотя и относительно поздним бытовым сюжетам и мотивам народного искусства, преимущественно в росписи по дереву, но затрагивающее и более широкие теоретические и методологические вопросы. Показательна данная в нем характеристика изученности этой проблематики на тот момент: «Народное бытовое искусство остается до сих пор подлинной тайной — настоящей Книгой Голубиной древнего духовного стиха; эту книгу мы не только еще не научились читать, но даже почти и не пытались, хотя бы отчасти, проникнуть в смысл ее загадочных знаков ... Эта отрасль ...
" 23
является источником самых глубоких откровений для научной исследовательской мысли» .
В большой статье В.А. Городцова, появившейся несколько позднее и посвященной русской народной вышивке24, ставятся также теоретические вопросы и рассматриваются от-
дельные образы и мотивы. Исходя из установки, что «население, как священный завет, несет и хранит из глубочайшей древности религиозные символы», названия которых были забыты за тысячелетие господства христианства, он считал, что в вышивках, «как известно, каждая строчка, каждый крестик имеет строго канонизированный характер», передаваясь по традиции «в возможно большей точности и совершенстве»25. Разделив русские вышивки на геометрические и фигурные, автор посвятил работу рассмотрению, главным образом, сюжета пред-стояния всадников перед женской фигурой с указанием на аналоги этой композиции в археологических памятниках даков и сармат, у которых, по мнению автора, она и была заимствована предками русских ее носителей еще до новой эры (подробнее его взгляды на женский образ в этой композиции см. ниже — 1.1). Из справедливого заключения о том, что «русская иконография шитья оказывается неповторяющеюся ни у одной славянской народности», В.А. Го-родцов делает далеко идущий вывод, «что выделение русских славян совершилось ранее Рождества Христова, когда последовало восприятие культа великой богини»26. Общностью индоевропейской семьи он объясняет общность многих геометрических мотивов у различных народов (хотя они близки не только у индоевропейцев), отмечая особое их распространение в бронзовом веке. Относительно же их значения автор отдает предпочтение также солярной символике, считая символом солнца даже каждый ромбик на спине птиц или между ног коней; происхождение свастики, креста и меандра он видел в стилизации изображений птиц (это мнение он разделял с некоторыми другими учеными, в том числе с А.А. Бобринским27), а самих птиц в руках вышитых женских фигур, наряду с розетками, считал также «символами светил небесных» . Взгляд на значение древних орнаментальных мотивов у В.А. Городцова на удивление упрощенный: «Примитивная символика, обыкновенно, не сложна и не мудрена; русская народная символика почти вся расшифрована: в ней стихия воздуха представляется птицами, а воздушное (небесное) пространство — змеями; стихия земли символизируется растениями, травоядными и плотоядными животными, а стихия воды — рыбами»29. (В работе были намечены также отдельные методологические принципы исследования). Несмотря на спорность многих положений, работа В.А. Городцова дала творческий импульс для дальнейших исследований русской народной вышивки и во многом определила их направления, от нее отталкивались все последующие исследователи.
Примерно того же времени работа Е.Н. Клетновой30 рассматривала геометрический орнамент, бытовавший на вышитых и тканых изделиях Смоленской области. Этот орнамент, по ее мнению, — результат слияния многих традиций (славянских, иранских, финских, литовских, хазаро-арабских, византийских и др.), носители которых так или иначе соприкасались с русскими землями. Близость финского и русского орнамента она объясняет восхождением их к одному восточному первоисточнику, а не заимствованием. Считая элементы орнамента культовыми символами, во многом сформировавшимися уже в период неолита, она разделяет мнение В.Н. Харузиной о том, что поняты они могут быть лишь при тщательном изучении
лежащих в основе их идей. Основной идеей, с которой были связаны мотивы птиц, коней и людей, а также — круга, ромба, свастики и производных от них фигур — она считает образность огня, солнца, (для птицы и свастики также — молнии). Причем ромб в вышивке, по ее мнению, — несомненная трансформация круга. Приводимые ею названия некоторых орнаментальных мотивов представляются в большинстве случаев поздними, появившимися как визуальные наименования после забвения их изначального смысла (гусиные лапы, шашечки, лепешечки, круги большие и мапые и др.), хотя некоторые из этих названий могут отражать и древнее значение (лягушечки, конские головы, городок, козелюки, мельницы и др.) — решать этот вопрос в каждом конкретном случае можно лишь рассматривая эти мотивы в определенном контексте.
Большой вклад в изучение народного искусства внесли работы Л.А. Динцеса 1930-40-х годов. В своих исследованиях он широко привлекает археологические, летописные и этнографические материалы, их отличает стремление глубоко проникнуть в конкретный смысл отдельных образов и мотивов. Придавая большое значение традиционности народного искусства, сохранению в его лоне древнейших мировоззренческих пластов, давно забытых при христианстве, он предлагает определенные методологические принципы его исследования: прежде всего необходимо выявить типические черты изображений на большом количестве образцов, опуская все случайное, возникшее на основе переработки древних образов в более позднее время, так как они являются плодом в первую очередь коллективного сознания. В течение тысячелетий «отбрасывалось все случайное, воспринимаемое отдельными индивидуумами, и удерживалось наиболее типическое ... и достигшее предельного лаконизма»; «подобно тому, как реставратор, последовательно удаляя слои записей, не только восстанавливает первоначальный вид картины, но и фиксирует изменения,., точно таким же методом можно выяснить древнейшие формы нашего искусства и те изменения, которые произошли в нем в процессе его развития, и найти этому историческое объяснение»31. Л.А. Динцес определил и наиболее характерные черты архаического типа вышивок — это статичность, схематичность изображения, а для сюжетных вышивок, распространенных преимущественно на Русском Севере, — строгая соподчиненность фигур в «традиционной трехчастной группировке», композиции32. Русский Север, по его мнению, сохранил древнейшие восточнославянские формы в народном искусстве, и хотя он признавал возможность включения в него отдельных скифо-сарматских и финских элементов, в целом он считал, что народное искусство восточных славян едино и возникло в ходе их этнического формирования (искусство финнов, по его мнению, отличает большая, чем у русских, ирреальность форм)33.
В своих работах Л.А. Динцес касался вопросов семантики многих образов и мотивов русского народного искусства, прежде всего — в вышивке и в глиняной игрушке. Привлекает внимание его статья, в которой рассматриваются изображения культовых строений в вышивках34. Построив ее на широких сопоставлениях с археологическими и архитектурными мате-
риалами, автор приходит к важному выводу о существовании у восточных славян крытых храмов в дохристианские времена и выявляет некоторые их формы, хотя в этой проблематике еще осталось поле и для последующих исследователей, в том числе и автора этих строк35. Л.А. Динцес стремился выявить и наиболее вероятное значение как всей трехчастной композиции, так и каждого из составляющих ее образов — женщины, дерева, птиц, коней и всадников, двухголовой ладьи (см. подробнее в 1.1, 2.3 и 3.3), однако в этих вопросах, как и в вопросах семантики геометрических знаков, он, как и предшествующие исследователи, остается преимущественно на позициях солярно-небесной символики. В целом содержание русского народного искусства он считает земледельческим, связанным с дохристианскими молениями о плодородии.
С конца 1940-х годов стали появляться работы археолога Б.А. Рыбакова по древнерусскому и народному искусству, всегда отличавшиеся широким привлечением разнообразных исторических материалов — археологических, письменных, этнографических, фольклорных — и построением на их основе многих смелых выводов и гипотез36. Некоторые из них он впоследствии пересматривал, можно проследить от работы к работе углубление и усложнение его взглядов на содержание народного и древнего искусства, все больший отход от установок солярной теории (особенно это касается таких образов, как ромб, круг, крест — см. ниже 2.1, а также женское божество, птица и др. — см. 1.1, 3.3). Во всех работах он отстаивал точку зрения о глубочайших древних семантических корнях русского народного искусства и необходимости их всестороннего изучения, активно и аргументированно полеруя с противниками этих взглядов, в частности — с М.А. Ильиным в дискуссии, прошедшей по этому вопросу на страницах журнала «Декоративное искусство СССР» в середине 1970-х годов37. Значительный вклад внесен им в методологию исследования этой проблематики — развивая взгляды В.А. Городцова и Л.А. Динцеса, он указывал, что при прочтении символов народного искусства, «увлекательном поиске его первооснов», «нужно по возможности исключить мелкое, случайное и субъективное» и рассмотреть главное — представления о мироздании на основе комплексного подхода38. Именно по этому принципу Б.А. Рыбаков стремился строить свои исследования, и по отдельным вопросам мы находим в них очень глубокую проработку, точную привязку некоторых мотивов к определенным хронологическим пластам по конкретным археологическим материалам, хотя, разумеется, строго выдержать этот принцип для всего круга затрагиваемых в подобном исследовании проблем невозможно, и прежде всего — из-за больших пробелов во всех видах источников. Отсюда не очень убедительной представляется попытка автора ретроспективно выстроить хронологию развития славянского язычества с древнейших времен по письменным памятникам ХП в. — Ипатьевской летописи и «Слове об идолах»39. В целом, по исследованиям Б.А. Рыбакова, наиболее древний хронологический пласт, отраженный в русском народном искусстве, восходит к эпохе конца неолита-энеолиту, хотя более значителен пласт бронзового века, связанный с образом Великой богини, а отраженные
в нем представления о плодородии он связывает в первую очередь с потребностями земледельцев. (Круг затрагиваемых Б.А. Рыбаковым вопросов столь широк, что мы еще не раз будем обращаться к его работам в ходе данного исследования). Хотя отдельные положения в работах Б.А. Рыбакова очень спорны, в целом он внес неоценимый вклад в разработку многих проблем, в том числе — по семантике русской вышивки. Вполне справедливо мнение другого известного ученого — С.А. Арутюнова, высказанное им в рецензии на книгу Б.А. Рыбакова: «Разумеется, в большинстве гуманитарных наук, в особенности в такой сложной их отрасли, как этнографическое религиеведение, где исследователь должен изучить мелкие осколки явлений,.. к тому же донесенных через эстафету сотен поколений, не может быть истины в конечной инстанции. ... Но его работа, столь импонирующая ... масштабностью охвата фактов, широтой и смелостью их интерпретации, последовательной логикой сопоставлений и доказательств и, главное, активно стимулирующая дальнейшую работу исследовательской мысли, несомненно, явится одним из заметных верстовых столбов на том увлекательном ответвлении многодорожья исторического знания, какое представляет собой изучение древних форм идео-
логии» .
Определенный вклад в разработку проблематики по символике русской вышивки внес еще один археолог — А.К. Амброз в статьях 1960-х годов41. Исходя из археологического пра-славянского материала и широких сопоставлений, он впервые четко разграничил мотивы ромба и круга, доказав, что ромб с глубокой древности связан с представлениями о плодородии обожествляемой «матери-земли» (хотя в отношении прочих знаков — круга, свастики, креста, триквестра — он придерживался традиционной точки зрения о символизации ими огня, солнца; подробнее о ромбе см. ниже — 2.1). Рассмотрев в свете этих взглядов трехчастную композицию со всадниками в вышивке, которой так много уделяли внимания его предшественники, он выдвинул оригинальную теорию о происхождении ее из композиции в виде геометрических знаков, которая на более ранних этапах якобы выражала те же идеи, построив при этом даже таблицу хронологического развития данного сюжета. Однако в ней отсутствует самое главное переходное звено, само это построение довольно умозрительно, хотя идея о семантической перекличке сюжетных композиций и чисто геометрических вполне допустима, причем более вероятно предположить их обратную генетическую взаимосвязь (т.е. переход к знаку через схематизацию реальных образов или через замену их связанными с ними символами). Отвергая идею о прямых заимствованиях и рассматривая процесс возникновения и развития сюжетных вышивок как составную часть процесса формирования славянского этноса, А.К. Амброз, тем не менее, указывает на общемировое распространение трехчастной композиции в виде предстояния перед божеством или деревом птиц, животных, всадников, а также прослеживает вероятные пути распространения отдельных символов.
Наибольший вклад в изучение русской народной вышивки внесла этнограф Г.С. Мас-лова, занимавшаяся этой проблематикой с конца 1940-х годов, результатом чего явилось из-
дание не только множества статей, но и специальной книги — первой этнографической монографии, посвященной этой области народной культуры42. Поставив во главу угла исследование вышивки как этнического и исторического источника, она тщательно анализировала ее региональные особенности с применением метода картографирования, внося тем самым существенный вклад в разработку сложнейшей проблематики по этнической истории Европейской России (преимущественно ее северных и центральных регионов). В развитии народной вышивки она отметила два кардинальных разнонаправленных процесса: 1 — геометризация архаических изобразительных мотивов, превращение их в чисто геометрический узор; 2 — тенденция к реалистической трактовке образов и к переосмыслению их в духе новых представлений, наполнение изображений бытовыми деталями и подробностями. Причиной изменений в обоих случаях, по ее мнению, является забвение древней символики43.
Г.С. Маслова значительно углубила вопрос о семантике народного искусства, показав неоднозначность его образов, их возможную полисемантичность. Она четко выделила архаический пласт в вышивке и выявила его основные черты как в композиционном и образном, так и в стилистическом аспектах. Отмечая, что такие узоры «были связаны в своей основе с древними мифологическими представлениями», хотя первоначальная семантика их была давно забыта, Г.С. Маслова определяет основные методологические принципы ее изучения: привлечение сравнительных данных о верованиях, обрядах, фольклоре, а также — разнообразных исторических свидетельств и древних иконографических памятников, при этом акцент нужно делать на устойчивые, повторяющиеся их элементы, которые говорят о закрепленности их традицией44. В своей монографии в специальной главе автор следует этой методике, рассматривая основные образы вышивки (женщина, дерево, животные, птицы, отдельные геометрические знаки, в том числе ромб) в их вариативности и возможной соотнесенности с народными представлениями. По сравнению с предыдущими исследователями, она, если можно так сказать, несколько «заземлила» семантику вышитых изображений, показав их тесную связь с семейными, родовыми обрядами и представлениями, хотя в отдельных вопросах еще чувствуется укоренившаяся с прошлого века тенденция усматривать в народном искусстве прежде всего небесную символику (это касается, главным образом, мотивов круга, креста, розетки, которые автор в основном считает символами солнца и огня, однако в некоторых случаях предполагает и их иное значение). С некоторыми интерпретациями Г.С. Масловой не всегда можно согласиться (например, несколько преувеличенное значение, на наш взгляд, придается образу лебедей в вышивке, в то время, как в большинстве своем изображения птиц их мало напоминают, а иногда за лебедей принимается змееобразный мотив — см. илл. и 2.3), однако, подчеркивая сложность и многоплановость вышивки, она не отрицает и возможности иных интерпретаций в дальнейших исследованиях. Подводя итог изучению русской вышивки в своей монографии, Г.С. Маслова отметила, что «многое в ней осталось невыясненным», все содержательное богатство архаических сюжетов и мотивов выявлено далеко не полностью .
В 1970-х годах значительное внимание вопросам семантики русской вышивки было уделено еще одним этнографом — И.И. Шангиной (г. Санкт-Петербург), защитившей по этой проблематике кандидатскую диссертацию (к сожалению, не опубликованную)46. Она впервые классифицировала основные образы вышивки, выделив в каждом из них несколько типов и рассмотрев их особенности и региональное распространение. Особый упор был сделан на функциональность орнаментированных тканей в народном быту и подчеркнута их главная роль — служить посредниками между миром живых и миром умерших предков в семейно-родовых обрядах — являясь необходимой составной частью последних, они органически были включены когда-то в представления о «круговороте жизни» родового коллектива47. Именно с этих позиций рассматриваются ею и основные образы вышивки, в них предполагается прежде всего отражение представлений о предках, умерших родственниках, обожествляемых матерях-прародительницах, культы которых восходят к материнско-родовому строю (чему соответствует и почти полное отсутствие мужских образов в архаичной вышивке). Автором подчеркивалось, что в основе вышитых образов лежат не аграрные культы, а значительно более древние мировоззренческие пласты, сложные и далеко еще не до конца ясные представления, связанные с «иным миром», который на ранних этапах мыслился в первую очередь как нижний, хотя ею не отрицалась возможность и интерпретации некоторых изображений с позиции обожествления небесных явлений. В конце 1990-х годов И.И. Шангина вновь обратилась к исследованию северной вышивки, отдавая предпочтение на этот раз этническому аспекту, вопросу соотношения в ней русских и финно-угорских элементов, который до сих пор остается в значительной степени нерешенным48.
Этот аспект — основной в работах этнографа А.П. Косменко (г. Петрозаводск), уже не первый десяток лет изучающей традиционное искусство народов, населяющих Карелию, преимущественно — финно-угорских49. Детально анализируя различные виды искусства (а особенно — вышивку) у карел, вепсов, ижор, води и других этносов, она выявляет в них черты сходства и различия как у этих народов между собой, так и по сравнению с искусством русских. В ряде работ и особенно в недавней значительной монографии, которая носит во многом обобщающий характер, ею намечены несколько хронологических пластов в народном искусстве этих народов, и прежде всего — в вышивке, очень близкой у всех этнических групп данного региона и являющейся, по ее мнению, продуктом длительного их взаимодействия. Она вообще ставит под сомнение возможность рассматривать народное искусство как этноопреде-ляющий признак, особенно в таких крупных многоэтничных регионах, как Русский Север и Сибирь, ссылаясь на мнение СВ. Иванова, что «ни одно из конкретных проявлений сибирско-
го традиционного искусства не имело жесткой связи с этнолингвистическими ареалами» . Однако тщательный анализ и сопоставление с археологическими материалами все же дает ей «возможность предположить, что изобразительные мотивы архаического пласта, видимо, распространились на Северо-Западе, включая вепсов и карел южной и средней Карелии, в
широких хронологических рамках эпохи средневековья, т.е. после освоения русскими Северо-Запада» (курсив мой — И.Д.), вклад же местного населения был преимущественно в стилистике, в геометризации изобразительных мотивов и сюжетов. Очень подробна разработка типологии изобразительных мотивов вышивки в данной работе, хотя не всегда соблюдается единый ее принцип — 1 и 2 типовые группы выделены по иконографическому принципу, а 3-й «амебный» — по стилю и технике52. К вопросам семантики автор относится очень осторожно в этой монографии, лишь в отдельных случаях приводя уже известные мнения ее предшественников относительно того или иного мотива, однако в некоторых более ранних ее работах встречается немало интересных предположений о значении изобразительных образов на основе сопоставления с этнографическими материалами — к примеру, о мотиве, в котором соединены дерево и орнаментальный квадрат (см. 2.2). Однако далеко не со всеми интерпретациями исследовательницы можно согласиться — так, например, совершенно не убедительны попытки выявить в определенных вышитых орнаментах изображения медведей, перевернутых птиц и т.п. . Степень изученности семантики народного искусства Русского Севера, по мнению А.П. Косменко, очень невелика, многие мотивы, особенно сложные гибридные образы явно мифологического происхождения, пока не расшифрованы54.
Вопрос об этнических корнях как образов народного искусства Русского Севера, так и многих других элементов русской традиционной культуры, является основным в многочисленных работах СВ. Жарниковой (г. Вологда, Санкт-Петербург) с начала 1980-х годов55. Основное направление ее исследований — выявление древнейших культурных взаимосвязей русских с другими индоевропейскими народами, и прежде всего — индийцами, поиски фактов, подтверждающих гипотезу о возможной прародине древних ариев на территории, входящей ныне в регион Русского Севера. Для подтверждения этой теории ею привлекается обширный этнографический, фольклорный, археологический, исторический, лингвистический материал, позволяющий в некоторых вопросах сделать настоящие открытия, а в других — выдвинуть смелые интересные гипотезы. В области семантики народного искусства она с этих позиций занималась изучением вышивки, в том числе — золотного шитья на головных уборах, а также — прялок, мотивов геометрической резьбы. В ее работах мы находим анализ таких образов, как Рожаница (см. ниже — 1.1), водоплавающие птицы, конь-олень и конь-птица (в интерпретации трех последних образов с привлечением древнеиндийских параллелей несколько превалирует, на наш взгляд, небесная символика, а вопрос о родовой, связанной с представлениями о предках, душах людей, который акцентировался в работах Г.С. Масловой и И.И. Шангиной, остался почти не освещенным56). Как всегда в работах, насыщенных интересными идеями, предлагаемые решения по некоторым вопросам вызывают большие сомнения — например, интерпретация чисто геометрического украшения низа прялочной ножки как образа женского божества с головой-солнцем без рассмотрения вариативности этого изобразительного комплекса и его закрепленности традицией именно в данном контексте57. Но в це-
лом исследования СВ. Жарниковой отличает стремление как можно глубже проникнуть в содержание декора народных изделий, широта привлекаемого материала как в географическом, так и в хронологическом плане, тонкая интуиция в поисках решения некоторых проблем.
Вопросы семантики затрагивали в своих работах также этнографы СБ. Рождественская и СИ. Дмитриева, однако их объектом преимущественно была не вышивка, а иные виды народного искусства. У СБ. Рождественской, изучавшей домовой декор русских и искусство гуцул, встречаются ценные сведения по терминологии узоров (см. 1.3), по композиционному и стилистическому решению декора, она отмечала образную близость с вышивкой иных видов народного искусства у русских, подчеркивая, что «это лишний раз говорит о единой системе образов в русской народной художественной традиции»58.
СИ. Дмитриева глубоко исследовала народную культуру Мезенского края, где изобразительная вышивка встречается лишь локально (в Лешуконском районе), а преобладает геометрическая. Особенно интересно ее предположение о происхождении мотивов гребенчатых ромбов в такой вышивке от стилизации изображений оленей, а также — семантический анализ мезенской росписи на прялках, поиски ее мифологических и этнических истоков; она касается и вопросов семантики основных образов русского народного искусства — дерева, женского божества, птиц, животных, ромбических мотивов59.
Изучением народного искусства русских Сибири занималась Л.М. Русакова (г. Новосибирск)60 — ее работы содержат много ценных сведений по домовому декору, орнаментации деревянных, металлических и тканых изделий. Пристальное внимание уделяется ею и семантике вышивки, для интерпретации которой привлекается много интересных этнографических фактов и мифологических параллелей из культур Древнего мира, однако методологический подход автора к интерпретации очень уязвим — она стремится объяснить в каждой композиции каждую мелкую, порой явно случайную, деталь так, как если бы она дошла до нас именно в этом виде через тысячелетия. При этом анализируемые автором композиции, расположение их мотивов часто не закреплены традицией, в них отчетливо видны черты распада, произвольной трансформации архаичной трехчастной композиции и ее образов, перед нами результат живого творчества конца XIX — начала XX вв. Интерпретации отдельных мотивов порой очень прямолинейны (например, треугольник — символ женского начала с палеолита, круг, крест — символы солнца, даже если они изображены внизу, три вписанных друг в друга орнаментальных треугольника — мировое дерево или три женщины трех возрастов и т.п.). В каждой интерпретации налицо явные визуальные натяжки — в результате от такого якобы углубленного анализа преимущественно остается впечатление фантазирования, хотя в отдельных случаях не исключена и правомерность выдвигаемых автором предположений (например, по поводу сложного орнаментального ромба — см. ниже 2.1, связи женских фигур с ромбом как выражение определенных представлений о земле-праматери61 и др.), однако для их обос-
нования необходимо было бы рассмотреть эти мотивы в их вариативности на фоне сравнительных иконографических сопоставлений.
Искусствоведы, занимавшиеся русским народным искусством (И.Я. Богуславская, Н.А. Некрасова, Л.Э. Калмыкова и другие)62 и глубоко изучавшие региональные особенности его видов, стилистику и эстетические особенности, собиравшие ценные сведения о мастерах и издававшие альбомы с прекрасными иллюстрациями, в вопросах семантики часто проявляли повышенную эмоциональность, стремление особо подчеркнуть его жизнерадостность, и потому из работы в работу мы встречаем «солнечные знаки» (к ним относили фактически все геометрические знаки — круг, крест, ромб, розетку, а также ветви, цветы), солнечных коней и ладьи или, например, определение птиц около дерева либо женщины исключительно как вестников Весны, света («благотворное воздействие весеннего тепла на природу»), брачной пары63, что для крестьян XIX века могло быть и верно, но вряд ли полностью соответствует истокам этих образов. Первостепенное значение в большинстве искусствоведческих работ придается включенности народного искусства в крестьянское мировоззрение с его оптимистическим восприятием бытия: «Народное искусство развивалось в целостности уклада народной жизни. В нем все, как и в жизни сельского человека, взаимосвязано и взаимообусловлено», — констатирует М.А. Некрасова64. Более архаичные пласты в содержании народного искусства русских интересовали B.C. Воронова, В.М. Василенко, Г.К. Вагнера, хотя вопросов семантики вышивки они почти не касались65. Все более становится очевидным, что, по справедливому замечанию В.В. Иванова и В.Н. Топорова, «искусствоведение нуждается в сотрудничестве с антропологией» в вопросах изучения семантики традиционного искусства66.
Малоубедительна также попытка археолога Л.А. Зарубина отыскать изображения зорь в археологическом и народном искусстве67. Неизбежность значительной доли гипотетичности в данной проблематике привела к тому, что в последние десятилетия научный интерес к ней заметно спал после взлета его в 1960-80-х гг., хотя отдельные экскурсы в вопросы семантики вышивки встречаются в работах исследователей до самого последнего времени. Среди них надо особо отметить статью Д.А. Баранова и Е.Л. Мадлевской об образе лягушки (см. 1.1). Однако чаще недавние, обычно краткие, обращения к вопросам семантики народного искусства являются попытками развивать идеи Л.А. Динцеса, Б.А. Рыбакова, Г.С. Масловой, в них либо не вносится ничего принципиально нового, либо, напротив, дается воля фантазии.
Подводя итоги изученности содержательной стороны русского народного искусства в 1980-х годах, Б.А. Рыбаков отмечал, что пока «изучение семантики сюжетов вышивок продвинулось недостаточно. Некоторые сюжеты остались неразработанными вовсе, другие получили неудовлетворительное истолкование. Но самым основным недочетом современного состояния разработки искусства вышивальщиц является отсутствие общего взгляда, непознан-ность той сложной системы представлений, которая отразилась в вышивке»68. Это замечание во многом остается актуальным и на сегодняшний день. Хотя на первый взгляд в данной про-
блематике сделано уже немало, но в работах в основном превалирует слабо обоснованная гипотетичность, а порой и явная умозрительность построений, что объясняется как сложностью проблематики, так и отсутствием единого методологического подхода к ее решению. При анализе нередко берутся отдельные композиции без учета их вариативности, в которой могли бы проявиться существенные для интерпретации детали. Нет четких критериев для определения традиционных и трансформированных композиций, в результате чего каждый исследователь в значительной мере полагается на свою интуицию. В плане диахронного анализа более-менее четко определен только поздний слой сюжетов и мотивов, относительно же «древнего слоя» можно отметить лишь отдельные, иногда довольно спорные, попытки его хотя бы относительного хронологического расчленения (Б.А. Рыбаков — в сюжете богини с «прибогами», А.К. Амброз — в том же сюжете и вариантах композиции из ромбических мотивов). Отдельные положения, которые более ранние авторы высказывали лишь предположительно, в исследованиях их последователей воспринимаются иногда уже почти как аксиома. При разборе того или иного образа большинство авторов не учитывает всего спектра значений, предлагавшегося их предшественниками, выбирая из них лишь наиболее устраивающее его мнение, и либо умалчивая о других, либо отмахиваясь от них одной фразой (см. ниже о мнении Г.П. Дурасова по поводу образа Рожаницы — 1.1). Фактически нет работ, где бы варианты основных образов, сюжетов, и прежде всего — трехчастной композиции с деревом или женщиной в центре, имеющей мировое распространение и привлекшей наибольшее внимание ученых, — были бы проанализированы на широком сравнительно-историческом фоне изобразительных и мифологических материалов других народов. Необходимо большее внимание к конкретным деталям изображаемого, но только — к устойчивым, закрепленным традицией, так как без ее учета в тех работах, где авторы пытаются очень пристально рассматривать каждый элемент вышивки, вся интерпретация в результате как бы «зависает» (например, у Л.М. Русаковой и др.), иногда налицо стремление «дорисовать» за вышивальщицу. В большинстве случаев авторы предлагают не конкретную дешифровку, а лишь возможные значения или их спектр, исходя из полисемантичное рассматриваемых образов в народных представлениях (не анализируя при этом истоки самой данной полисемантичное). В своей недавней обобщающей работе А.П. Косменко констатирует по поводу проведенных исследований вышивки в отечественной литературе: «... данная область изучена, как говорилось, слабо. Приходится признать, что в российской этнографии до сих пор не сложились строго научные приемы анализа этих специфических источников, которые позволили бы использовать их как полноценные "документы" для изучения прошлого тех или иных народов. Многие исследователи даже избегают использовать в своих работах такого рода источники, что связано с трудностями их научного анализа»69. Однако когда-то опубликованные опрометчивые и мало чем подкрепленные мнения, не подвергшиеся в свое время детальному критическому анализу, остаются на вооружении преподавателей, музейных сотрудников и прочих работников культуры, которые постоянно несут
их в широкие массы, причем часто — уже не в качестве мнений, а в качестве фактов народной культуры. Поэтому, несмотря на всю неоднозначность этой проблематики, разработку ее необходимо продолжать, хотя попытка заставить заговорить молчаливые памятники древности в какой-то степени всегда останется гипотетической.
Таким образом, в настоящее время мы лишь в самых общих чертах и в предположительной форме можем говорить о конкретных истоках основных образов и сюжетов вышивки. Несомненно, что при разработке этой проблематики необходимо значительно шире привлекать этнографический материал, уделяя самое пристальное внимание деталям изображаемого (но только — закрепленным традицией). Тем не менее отдельные положения, имеющие первостепенное значение для нашей темы, можно считать доказанными: в основе семантики сюжетной русской вышивки лежача идея всеобщего плодородия, связанная с представлениями о родовых предках-покровителях и с женским божеством, от которого зависела также плодовитость людей, продолжение жизнедеятельности родового коллектива (Г.С. Маслова, Б.А. Рыбаков, И.И. Шангина, СВ. Жарникова и др.). Именно с этих позиций предлагается проанализировать в данной работе группу фигур вышивки, которая, на наш взгляд, отражала когда-то концептуальные представления о мироустройстве наших далеких предков (более подробно мнения исследователей о семантике данных мотивов см. в соответствующих главах).
Цели, задачи и источники исследования.
В данной работе предлагается обратиться к двум взаимосвязанным группам фигур русской вышивки, вопрос о семантике которых частично затрагивался несколькими исследователями, однако конкретный, глубинный их смысл остался, на наш взгляд, до конца не раскрытым. Выбор объекта исследования не был случайным — в этих крупных, сложных, полных значительности фигурах, занимающих порой центральное место среди предстоящих более мелких, явно заключался когда-то глубокий смысл. Выявляемые в них даже на первый взгляд черты женщины и дерева говорят о вероятном отношении их к мифологическим образам, являющимся концептуальными в представлениях о мире многих традиционных культур. Данный выбор конкретного объекта исследования вполне соответствует выдвинутому Б.А. Рыбаковым принципу, что при подходе к изучению символики народного искусства нужно в первую очередь «рассмотреть самую крупную категорию — представления о мироздании, картину мира в тех формах, в каких она постепенно складывалась и видоизменялась в умах
~ 70
людей» .
Отправной точкой для исследования явилось стремление расшифровать смысл загадочного образа народной вышивки — сложной, многосоставной фигуры, в которой просматривается некая закодированная системность, представленной в большом количестве вариантов преимущественно в вышивке Русского Севера (табл. 5 — а-е), а в модификациях встре-
чающейся также в Калужской, Тульской, Тамбовской и некоторых других областях — по совокупности вариантов она определяется как древовидная. Классические образцы этой фигуры, выполненные в технике двустороннего шва, бытовали в бывших Новгородской, Санкт-Петербургской, Олонецкой, Тверской губерниях. Варианты же древовидной фигуры чаще представлены в иных техниках — набор, перевить, крест, и особо трансформированные — в тамбуре (табл. 6; илл. п.П — 2-5).
Еще В.В. Стасов особо отметил подобные мотивы в русской вышивке, считая их образом священного дерева, хотя и очень искусственным, явно сконструированным «на основании известной идеи или понятия»71. Позднее высказывались и несколько иные мнения, в том числе — об антропоморфности этих мотивов (Б.А. Рыбаков, Г.П. Дурасов), которые также имеют под собой некоторые основания, так как данная группа по ряду признаков примыкает к другой группе фигур, за которой в научной литературе закрепилось название Рожаница — изображение, очень напоминающее женщину в позе родов, причем с некоторыми зооморфными чертами, а порой и с растительными (табл. 1-4). По вариантам этих двух изобразительных мотивов можно выстроить чуть ли ни полный генетический ряд переходных форм, черты близости между ними просматриваются как в общей схеме, так и в особой маркированности их центральной части (табл. 4; 5). Имеются очень сложные гибридные модификации в вышивке этих двух исходных образов — А.П. Косменко, попытавшаяся комплексно рассмотреть подобные образы (в которых она увидела сочетание черт человека, дерева, животного или птицы), предполагает отражение в них некоего «сюжета мифологического происхождения», однако общий вывод ее свелся к констатации того факта, что смысл этого сюжета пока расшифровать не
удается . Поэтому отмеченная вторая группа фигур, которую мы условно назовем Рожаница, также явилась объектом данного исследования, и именно этот образ как более читаемый лег в его основу.
Исходя из этих предпосылок, основная цель данного исследования была поставлена как выявление семантических истоков каждого из этих образов (т.е. Рожаницы и сложного Древа) и мировоззренческих основ их взаимосвязи, их перетекания друг в друга. Предполагалось выявление по возможности именно довольно широкого мифологического контекста этих образов, показывающего их место в определенной картине мироздания, мировоззренческой системе, и их взаимосвязь с иными составляющими этой системы. В своих классических вариантах эти образы довольно различны (ср. табл. 1 и табл. 5) и, забегая вперед, надо отметить, что сопоставимы они с разными культурными архетипами, один из которых прочитывается в горизонтальных параметрах, а другой — в вертикальных, поэтому важно понять, отражает ли контаминация, а в некоторых вариантах почти полное слияние этих образов, какой-либо объективный процесс изменения в мировоззрении.
Однако означенная цель не явилась единственной для данного исследования. Интерпретация молчаливых изобразительных материалов — наследников древности — должна
опираться на уже более-менее воссозданную по другим разнообразным материалам мировоззренческую картину, что-то добавляя и уточняя в ней. В явном виде у носителей анализируемых мотивов вышивки мы не находим такой мировоззренческой системы, которую можно было бы считать адекватной этим мотивам. Восточнославянская мифология представляет собой довольно пеструю картину разновременных напластований, в которой вопросы выделения хронологических пластов, генезиса отдельных представлений и взаимосвязей между ними пока что довольно слабо разработаны в науке, несмотря на огромный накопленный фактологический материал и значительное количество исследований по отдельным специальным вопросам. Выбранные образы являются концептуальными во многих мифологиях, а в орнаменте русской вышивки они (особенно образ сложного Древа) имеют сами черты изобразительной многоэлементной системы. Поэтому второй целью исследования, проистекающей из первой, можно считать восстановление хотя бы в общих чертах мировоззренческой системы (или систем), адекватной анализируемым образам вышивки, системы, в лоне которой они могли возникнуть, и рассмотрение в свете ее представлений, соотносимых с узловыми элементами этих образов. Такой двухвекторпый характер исследования позволяет, с одной стороны, по возможности полно осветить семантический контекст рассматриваемых изобразительных материалов, а с другой — попытаться сквозь призму раскрывающегося в них смысла пролить дополнительный свет на некоторые малоизученные вопросы восточнославянской мифологии. Истоки многих реалий в русской народной культуре, как, впрочем, и в иных традиционных культурах, очень затемнены, они несут на себе следы вторичной, а то и третичной символизации, и исконный их смысл может приоткрыться лишь при определении их места и функций в исходной для них системе воззрений на окружающий мир.
Исходя из поставленных целей в ходе исследования необходимо решать по мере возможности следующие конкретные задачи:
выявить наиболее значимые признаки анализируемого образа, его характерные элементы, исходя из сопоставления его вариантов, а также изобразительные основы взаимосвязи обеих рассматриваемых групп образов;
ориентируясь на особенности каждого образа и его элементов, определить его мифологическую подоснову и ее архетипичность, тот мировоззренческий пласт представлений в мировой мифологии, с которой он сопоставим — это покажет нам предположительную степень древности образа, его неслучайный характер в народной культуре и его вероятный семантический контекст;
выявить наличие подобных представлений или их рудиментов в мифологии славян, в частности — восточных;
в случае их сохранности в очень руинированном виде, попытаться реконструировать их и прояснить их истоки на основе сравнительно-типологических сопоставлений с учетом анализируемого изобразительного материала;
наметить круг примыкающих к ним (или вытекающих из них) представлений, мифологем, для реконструкции более-менее цельной исходной мировоззренческой картины, желательно — с учетом ее диахронных трансформаций.
Для расшифровки глубинного смысла рассматриваемых образов вышивки необходимо погружение в архаичные пласты мифологических представлений. Попытка их интерпретации выводит нас на обширное поле дискуссионных и пока что далеко не решенных проблем не только в славянской мифологии, но и в общей истории религиозных представлений, естественным образом расширяя границы исследования и предоставляя возможность взглянуть на многие уже известные факты в контексте проявляющейся в ходе данного анализа мировоззренческой системы. Этим объясняется включение в работу отдельных экскурсов чисто мифологического плана, в которых предпринята попытка проследить вероятные пути формирования в свете данной мировоззренческой системы некоторых, уже давно выявленных наукой, культурных архетипов и мифологем (изначальное море, «сакральный центр», остров, растительная вертикаль, мировой змей и др.). В явном или завуалированном виде все они представлены и в восточнославянской культуре, и более пристальное внимание к их истокам и вариативным трансформациям позволяет обнаружить их своеобразные формы в нашей народной культуре. Избранный путь исследования можно охарактеризовать как дедуктивно-систематический, определяемый С.А. Токаревым как одно из трех важнейших исследовательских направлений в этнографии (в его основу положен принцип от общего к частному)73. Опираясь на уже определенные в науке теоретические положения, явившиеся результатом обобщения обширного этнографического и культурологического материала, исследователь обращается к конкретному частному материалу, выявляя в нем как общие черты, так и этнически особенные, по ходу уточняя, а порой и подвергая сомнению уже утвердившиеся ранее положения. Следуя по этому пути, в предлагаемой ниже работе приходится затрагивать многие концептуальные вопросы, связанные со сложнейшей областью древних воззрений на мироздание, поэтому автор считает себя вправе приводить дословное мнение различных ученых по этим вопросам преимущественно в цитатах, дабы не исказить их точку зрения. Не имея возможности излагать по каждому вопросу весь спектр встречающихся в науке мнений, автор приводит преимущественно устоявшиеся точки зрения, либо те, которые разделяет, или, напротив, которые подвергает сомнению и с которыми дискутирует.
Источником для данного исследования являются изобразительные материалы по русской народной вышивке, преимущественно второй пол. XIX — нач. XX вв., как опубликован-
ные в различных альбомах и исследовательских работах, так и неопубликованные, зафиксированные на фотопленку во время экспедиционных выездов и командировок с предметов быта, сохранившихся у сельских жителей и в музейных собраниях. Среди них наиболее ценными для работы явились материалы Российского этнографического музея в г.Санкт-Петербурге (приношу глубокую благодарность всем музейным сотрудникам, помогавшим мне в подборе и фиксации материала, и в первую очередь — И.И. Шангиной и Е.Л. Мадлевской). Сбор изобразительных и прочих этнографических материалов проводился с 1992 по 2004 г. в областях: Вологодской (Бабаевский, Белозерский, Вожегодский, Верховажский, Вологодский, Кирилловский, Сокольский, Усть-Кубенский, Устюженский р-ны); Архангельской (Каргопольский р-н); Костромской (Гальчский, Солигаличский и Вохомский р-ны); Новгородской (Борович-ский, Валдайский, Чудовский р-ны); Рязанской (с.Чернава Милославского р-на); Тульской (Одоевский р-н); Калужской (Думинический р-н); Республике Карелия (Беломорский, Кем-ский, Онежский, Медвежьегорский, Пудожский р-н). Большой объем накопленных изобразительных материалов позволяет провести сопоставление анализируемых образов в их вариативности, выявить их основу, проследить «перетекание» одних мотивов в другие, наметить в них генетические ряды. В качестве сравнительного привлекается изобразительный материал по декору деревянных изделий, глиняной игрушке, а также в некоторой степени и археологический материал, хотя вполне справедливо отмечено, что отражения в археологических культурах многих элементов традиционной духовной культуры народа найти не удается, чаще они отражены «лишь крайне косвенным образом, не поддающимся однозначной интерпретации» (С.А. Арутюнов)74. Для восстановления истории изучения данной проблематики привлекались архивные материалы (Архив РГО. Р. 109, оп. 1; Ф. 1-1915, оп. 1).
Для расшифровки образов вышивки используются самые разнообразные материалы по народной культуре, в первую очередь этнографические, фольклорные, как опубликованные, так и собранные в экспедициях, а также сведения, содержащиеся в исследованиях по культуре других народов, в том числе — Древнего мира. Так как для достижения поставленной цели работа касается многих культурологических вопросов и элементов культуры славянских народов, а также — многих иных этносов в ходе проведения типологических параллелей, очень важным подспорьем для нее являются опубликованные в последнее время классификационные обобщения материала в научных этнографических и мифологических словарях («Славянские древности», «Духовная культура Северного Белозерья», «Мифы народов мира»75 и др.), без которых исследования подобной направленности в настоящее время вряд ли возможны. Некоторых вопросов приходится касаться лишь тезисно, опираясь на обобщающие работы.
Иллюстративный материал приложен к каждому экземпляру диссертации в 18-ти таблицах, а также для проведения защиты представлено около 300 илл. в 1 экземпляре (75 листов в 7-й папках), на которые также даются ссылки в тексте.
Методологические принципы исследования.
Хотя в научной литературе не раз отмечалась слабая разработка методологии семантических исследований вышивки, основные ее принципы были намечены уже в первых работах по этой проблематике. Коротко они обобщены в монографии Г.С. Масловой: «Понять первоначальную семантику этих сюжетов можно лишь с привлечением сравнительных данных о верованиях, обрядах, фольклоре..., а также разнообразных исторических свидетельств и древних иконографических памятников»; при этом акцент нужно делать на устойчивые, повторяющиеся их элементы, которые говорят о закрепленности их традицией и об отражении в них не бытовых реалий, а древних мифологических представлений76. Именно отбор традиционных, устойчивых мотивов, образов и композиций — главный принцип при определении объекта исследования (хотя именно этот пункт в исследованиях чаще всего не выдерживается, что порождает немало фантазий).
Наиболее очевидный путь интерпретации орнаментальных мотивов мог бы заключаться в приложении к ним терминов, которыми их называли вышивальщицы, если бы их исконные названия не были давно забыты, что отмечали все исследователи и собиратели еще в XIX веке и подтверждали в XX. Наиболее известная исследовательница вышивки народов Русского Севера А.П. Косменко подводит неутешительный итог по этому вопросу: «Все говорит о том, что население, судя по всему, давно забыло древнее значение многих, явно символических мотивов», современные названия основаны «только на зрительных ассоциациях внешнего сходства с теми или иными предметами, явлениями местной среды»; и более того, даже они не устойчивы — «один и тот же геометрический рисунок в разных местностях назывался неодинаково», а разные мотивы, напротив, могли иметь одно и то же название77. Поэтому к терминам вышивки надо подходить очень осторожно, хотя иногда они все же могут содержать в себе следы древнего значения, определяющегося из всего контекста образа, но в этом случае терминология может служить лишь дополнительным аргументом. В некоторой степени принцип сопоставления мотивов с их терминами применяется и в данной работе.
Важный методологический принцип подхода к анализу изобразительного материала — рассмотрение отдельных мотивов и образов в композициях, в соотнесенности части и целого. Применительно к нашим анализируемым фигурам необходимо отметить, что они вполне самодостаточны — и изображенные одиночно, и занимая порой центральное место в трехчаст-ной композиции, они, будучи многосоставными, сами являются своего рода композициями (особенно Древо), где все элементы тесно взаимосвязаны. Значение части и целого может быть только взаимообусловленным, и потому к прояснению смысла элемента нужно подходить с позиций проявляющегося общего значения образа, а все более восстанавливающееся значение элемента дополняет и углубляет семантику всего образа и прочих его элементов.
При анализе материалов вышивки необходимо соблюдать еще один принцип — рассматривать образы в их вариативности, также свидетельствующей о закрепленности тради-
цией. Сравнение вариантов позволяет при неизбежной ориентации на визуальность выявить в них наиболее типические черты и наиболее древние формы, опуская все мелкое и случайное — Л.А. Динцес сравнивал такую работу исследователя с работой реставратора, снимающего поздние наслоения и обнажающего исходную форму78. Эта установка не исключает того, что за отдельными, даже единичными элементами может иногда также стоять традиция — их аналоги могли до нас не дойти, и «факт, абсурдный сегодня, оказывается пережитком целого, некогда имевшего определенный смысл»79 (что можно отнести к любому элементу традиционной культуры). В редких случаях такие единичные мотивы могут являться и своего рода примером «возрождения» древних форм на основе отдельных совпадений в миросозерцании традиционного человека разных исторических эпох, а также, возможно, — в результате подспудного сохранения традиций, однако в таком случае традиционность этого мотива должна иметь косвенное подтверждение, быть обусловлена логикой контекста.
Делая ставку на вариативность мотива, необходимо учитывать также по возможности наличие его вариантов в других видах народного искусства, а также — у других народов, причем желательно — ив разных хронологических срезах. Каждый вид народного искусства имеет свой набор образов, свою стилистику, свою изобразительную систему. Но в целом, во всей совокупности традиционного изобразительного искусства данного этноса можно обнаружить и определенную перекличку видовых образов (у русских вышивка прежде всего сопоставима по отдельным параметрам с декором деревянных изделий и с глиняной игрушкой), что лишний раз подтверждает их традиционность и может помочь в расшифровке их смысла. То же значение имеют межэтнические и диахронные сопоставления, позволяющие нащупать историческую глубину образа и его архетипичность. «Сравнение орнамента в пространственном отношении представляет такой же важный интерес, как сравнение его во времени» — считал Л.Я. Штернберг80. Типологические совпадения по отдельным элементам культуры могут быть у самых различных народов, в то время, как по другим элементам они могут сильно отличаться, даже по языку81 — в настоящее время это известный культурологический факт.
Хотя природа типологических совпадений элементов культуры у разных народов, порой очень далеких друг от друга как в пространственном отношении, так и во временном, до сих пор до конца не выяснена, однако сам факт их наличия не подлежит сомнению. Поэтому в интерпретационных исследованиях, касающихся архаичных представлений о мироздании, вполне допустимо проведение типологических сопоставлений — такая параллель если даже и не является непосредственным доказательством при реконструкции того или иного представления, способна показать саму возможность его существования, вероятный ход мысли человека традиционного общества, хотя за ней может стоять и значительно большее. С середины XIX века до настоящего времени в трудах ученых различных школ и направлений (эволюционистов, диффузионистов, структуралистов и пр.) отмечается применение сравнительно-исторического и сравнительно-типологического методов (объединяемых иногда в термине
сравнительно-этнографический), причем основанные на этом методе работы таких эволюционистов, как Л.Г. Морган, Э.Б. Тайлор, Дж. Дж. Фрэзер были для своего времени наиболее прогрессивными и во многом остаются таковыми до сих пор. Среди русских ученых сравнительно-этнографический метод был также популярен во второй пол. Х1Х-нач. XX века (труды А.Д. Анучина, Л.Я. Штернберга, Харузиных и др.), и хотя в дальнейшем он все больше подвергался критике, работы В.Я. Проппа в данном направлении являются бесспорным вкладом в этнологию. Данный метод остается на вооружении и у современных ученых82.
Аргументированное теоретическое обоснование важности и необходимости применения сравнительно-типологической и сравнительно-исторической методологии при исследовании фольклорных явлений культуры дал Б.Н. Путилов — позволим себе процитировать большую часть его высказывания: поиск семантических корней сюжетов и образов «особенно с архаической основой, требует анализа максимального количества текстов из разных регионов, в том числе и иноэтнических... Вариативность на уровне межрегиональном, межэтническом, международном — постоянное качество фольклорной культуры. ... Национальные разработки, в сущности, являются фактами вариативности... При этом вариативность в межэтнических масштабах сохраняет одно из генеральных своих качеств — сохранение узловых сюжетно-тематических моментов замысла, опорных элементов семантики и соответствующих структурных позиций... Так или иначе, любой вариативный комплекс одной этнической традиции наилучшим образом прочитывается и толкуется в соотнесенности с его иноэтниче-скими вариантами, в которых запечатлены свои оттенки семантики и свои этапы эволюции и типы разработок»83 (курсив мой — И.Д.).
Этносемиотические исследования последних десятилетий все чаще приводят их авторов к выводу о необходимости решать одновременно подобную двойную задачу: «Для выявления знаковой природы (в этнографических описаниях — И.Д.) решающее значение имеют и конкретный культурный контекст с его материальной основой, и обнаруживаемые в ходе сравнительных исследований произвольность и универсальность», «без сравнительного анализа такое описание не имеет большой ценности»84. Применительно к нашей теме эту важнейшую методологическую установку вполне можно отнести не только к самим изобразительным мотивам, но прежде всего к тому материалу, который привлекается для их интерпретации, воссоздавая их семантический контекст. Если при сопоставлении мелких элементов традиционной культуры у разных народов возможны случайные совпадения, то в отношении доминантных, архетипических символов и образов фактор случайности минимален, так как они совпадают обычно по многим параметрам, и глубинный, исконный их смысл способен раскрыться именно на фоне мировых универсалий, добавляя к общей картине последних этнически специфические черты. Избранный путь исследования можно охарактеризовать как дедуктивно-систематический, определяемый С.А. Токаревым как одно из трех важнейших
исследовательских направлений в этнографии (в его основу положен принцип от общего к частному)85.
Правомерность привлечения широких сравнительных материалов оправдана не только типологическими совпадениями в результате конвергентного развития мировоззрения различных народов, но также и тем, что, в результате углубленных археологических, лингвистических, этнографических исследований последних десятилетий в науке все более укрепляется мнение о единой праоснове всех древних евразийских цивилизаций, а также о существовании общего субстрата у народов циркумполярной зоны Северной Евразии и Америки, чем может объясняться близость мифологических представлений многих народов мира86. «Общий субстрат, на основе которого развились сходные мифологические сюжеты Старого и Нового Света, должен быть отнесен к периоду порядка 15-20 тыс. лет назад и мог быть распространен на очень большой территории», — считает Ю.Е. Березкин; причем, по его мнению, «мифы, составившие основу как американских, так и евразийских мифологий, в своей исходной форме сложились вскоре после появления у homo sapiens'a членораздельной речи, а содержание наиболее универсально распространенных сюжетов отражает фундаментальные особенности человеческой психики и психологии»87. М. Элиаде высказал мнение о существовании в IV-III тыс. до н.э. «великой афро-азиатской культуры» на территориях от Восточного Средиземноморья и Месопотамии до Индии88. Известный археолог Е.В. Антонова отмечала бытование «на всей раннеземледельческой ойкумене аналогичных представлений о плодородии, персонифицированных в женском образе»89. Поэтому сравнительное изучение различных форм традиционной культуры, в том числе и содержательной стороны искусства, может быть очень перспективным в будущих этнологических исследованиях.
Еще в 1870-х годах А.Н. Веселовский в специальной статье указывал, что сравнительное изучение фольклорных и этнографических реалий должно стать в будущем новой наукой, основанной на широчайшем сборе и обобщении материала по всему миру90. Возможно, его предвидение вскоре осуществится — наиболее масштабно в этом направлении проводится в последние годы работа Ю.Е. Березкиным по созданию блока данных по фольклорно-мифологическим сюжетам и мотивам народов всего мира (частично в сотрудничестве с генетиками — сравнительные данные по мифологии и фольклору рассматриваются в свете генетического анализа различных групп населения земного шара). Основная цель этих исследований — выяснение миграционных потоков в древности и хронологической глубины мотивов, и хотя от вопросов поиска их содержательных истоков он пока что старается воздерживаться, в перспективе, по его мнению, «поиск истоков континентально-евразийской мифологии» может стать одним из генеральных направлений исследований с опорой на эту базу данных '. Результаты этих исследований показывают значительно большую древность многих элементов традиционной культуры, чем это предполагалось до недавнего времени (некоторые из них
восходят ко временам верхнего палеолита), и в дальнейшем могут во многом способствовать прояснению их исходной основы.
Однако в гуманитарной науке существует и немало критически настроенных исследователей по отношению к применению сравнительно-типологических и сравнительно-исторических сопоставлений. Так, Н.И. Толстой предложил свою разработку методологии семантического анализа изобразительного фольклора, в которой этим двум направлениям, хотя они и признаются, отводится последнее место после сведения всего узко этнического материала и детальнейшей его классификации, от которой очень осторожно надо переходить к постепенному расширению территориальных и этнических границ бытования рассматриваемого явления92. В идеале эта методологическая установка может быть и верна, однако последовательное осуществление ее на практике по отношению к каждому элементу культуры большинства народов мира потребовало бы очень длительных совместных и согласованных усилий очень большого количества исследователей, то есть тех средств, которыми современная гуманитарная наука не располагает. Кроме того, данная методология без ее последних пунктов не гарантирует правильности интерпретации (к примеру, самому Н.И. Толстому в ходе анализа в той же статье определенного изобразительного мотива южных славян без учета его аналогий вряд ли удалось уловить его исходный смысл — см. подробнее 2.3 и 3.3). На этот момент указывал еще В.Я. Пропп в своей знаменитой монографии по семантике русской сказки, где изложил и основные принципы семантического анализа93: «Принцип, который здесь выдвигается, противоположен принципу, обычно лежащему в основе фольклорных исследований ... фактически мы видим, что там, где материал в пределах доступности действительно исчерпан, вопросы все же решены неправильно»; «Ошибки исследователей часто заключаются в том, что они ограничивают свой материал одним сюжетом или одной культурой, или другими искусственно созданными границами. Для нас этих границ не существует. ... Фольклор — интернациональное явление». Главное, по его мнению, — правильно поставить задачу и уловить на основе широких сопоставлений тот изначальный смысл, который лег в основу фольклорного образа, мотива, только так можно определить их генезис, установить определенные закономерности в их развитии: «Закон выясняется постепенно, и он объясняется не обязательно именно на этом, а не на другом материале. Поэтому фольклорист может не учитывать решительно всего океана материала». До сих пор не потеряли злободневности слова В.Я. Проппа: «... раздвинуть рамки фольклористических исследований совершенно необходимо... Предварительных работ по отдельным культурам, по отдельным народностям так много, что настал момент, когда этот материал нужно начинать действительно использовать...»; «Подобное расширение необходимо даже в целях специальных исследований: к ним необходимо вернуться в свете сравнительных данных».
Еще одним методологическим принципом при изучении народного искусства является учет научных достижений в самых разнообразных областях знания, исторический подход к
предмету на основе его комплексного исследования — на этом моменте особо заострил внимание Б.А. Рыбаков: семантический аспект народного искусства может быть прояснен «только при широком комплексном изучении всей истории культуры в широчайшем хронологическом диапазоне — от далекой первобытности к средневековью и далее к современности. В этом изучении должны быть слиты: этнография и фольклористика, искусствоведение и археология, история религии и семиотика. Только такое изучение раскроет перед нами тот богатый мир исчезнувших представлений, который так бережно сохранен многообразным, устойчивым и глубоким по своему содержанию народным искусством»94 (к перечисленным наукам можно еще добавить лингвистику и психологию).
Вполне очевидно, что в одном авторском исследовании соблюсти в полноте все вышеизложенные принципы вряд ли возможно, однако они должны являться теми методологическими путеводными вехами, на которые необходимо ориентироваться в своей работе исследователю семантических аспектов народной культуры. К перечисленным методологическим установкам, на наш взгляд, необходимо добавить еще одну. Хотя, по верному замечанию В.Я. Проппа, «по существу, такая работа никогда не может считаться оконченной»95, для ее даже частичной успешности большое значение имеет верное предварительное определение основной идеи, того кода, с которым исследователь будет подходить к анализируемому материалу и который должен быть подсказан самим исходным материалом. Для данного исследования такой отправной точкой является фигура Рожаницы в вышивке, ее определенная поза, манифестирующая идею продолжения жизни, плодородия, актуальную для всех эпох. Проявляющиеся в процессе исследования космологические параметры образа побуждают с позиций этого кода искать решение и отдельных спорных вопросов в области архаичной космологии.
Новизна данного исследования, по сравнению с предшествующими исследованиями семантики русской народной вышивки, заключается прежде всего в значительно более проработанной интерпретации наиболее важных в концептуальном отношении образов (Рожаницы и Древа). Большее внимание уделяется их вариативности, отдельно и во взаимосвязи с целым рассматриваются составные элементы этих образов и детально анализируются через мифологические представления. Особое внимание уделяется объединяющему эти образы изобразительному комплексу «центра», выявляются и отдельно анализируются его мифологические аналоги. Отталкиваясь от самих изобразительных мотивов, делается попытка разглядеть архаичную, исходную основу некоторых малопонятных представлений восточнославянской культуры. В научный оборот вводятся новые изобразительные материалы.
На основе анализируемых образов, с привлечением широких сравнительно-типологических сопоставлений, предпринимается попытка реконструкции двух взаимосвязанных мировоззренческих систем, последовательно сменявших друг друга в глубокой древности и в рудиментах сохранившихся в народной культуре восточных славян. В контексте
этих систем по-новому проявляются истоки многих космологических представлений, мифологических архетипов (чудо-острова, изначального океана, древа жизни, вселенского потопа и др.), с них спадает пелена мистики, предположение о каком-то ином, «дологическом» мышлении человека древности. Анализируемые образы и стоящие за ними представления и мифологемы являются, на наш взгляд, очень интересным примером первых попыток человека объяснить окружающий мир в сложной взаимосвязи его явлений через свой собственный живой организм. По ходу исследования в его орбиту вовлекаются многие дополнительные мотивы и образы, семантика которых рассматривается (а иногда и пересматривается) сквозь призму основных систем-образов. Хотя подобное исследование не может не носить в чем-то гипотетический характер, однако постоянно встречающиеся автору по ходу его проведения все новые и новые факты, которые органично вписываются в реконструируемую систему представлений, свидетельствуют о правомерности избранного направления исследования и его результатов.
Апробацией основных положений данного исследования являются прочитанные в разные годы на различных конференциях и конгрессах доклады: на Всероссийских конгрессах этнологических и антропологических наук — 1-м в 1995 г. в Рязани, 11-м в 1997 г. в Уфе, Ш-ем в 1999 г. в Москве, VI-м в 2005 г. в Санкт-Петербурге; на конференциях в Российском этнографическом музее в 1993 г., 1999 г., 2001 г. Отдельные доклады по данной тематике были прочитаны также в 1990-х-нач. 2000-х годах на семинарах преподавателей народной культуры в школах и домах творчества. Диссертация обсуждена на заседании Отдела русской этнологии Института этнологии и антропологии РАН 24 октября 2006 г. и рекомендована к защите.
Антропоморфные образы вышивки и их интерпретация исследователями
В сюжетной вышивке архаического типа антропоморфные образы представлены преимущественно женскими — это и центральная фигура в трехчастной композиции (или ее трансформированных вариантах), иногда с признаками дерева, и две женщины по сторонам дерева, и женские фигурки, чередующиеся с деревом или как бы находящиеся внутри шалашика, культовой постройки, а иногда и в центре или на вершине дерева (табл. 5 — 6-е; 6-г; 7; илл.: п.П — 1,2,5,7,17; п.Ш — 5,6); это и очень условные небольшие фигурки в обрамлении основной композиции (которые могут быть и в позе рожениц), и фигурки, входящие иногда в ромбический узор, почти окончательно утерявшие свою образность. Это также мотивы, которые являются основным предметом данного исследования: крупная стилизованная фигура в позе рожающей женщины, часто с рогами или их рудиментами (табл. 1 — 3; 4-а; илл. п.1 — 1-8), и различные гибридные варианты этой фигуры и дерева (табл. 2-г; 4 — б-д; 6-а, б, д, е; 7-е; илл. п.1 — 4-6; п.П — 3,4,7). Таких гибридных, усложненных и трансформированных почти до неузнаваемости фигур русская северная вышивка содержит во множестве вариантов, что несомненно указывает на глубокую закрепленность данного мотива традицией и долго сохранявшуюся актуальность его. Изредка этот выразительный образ можно встретить в декоре деревянных предметов, и также — с рогами и процветающими конечностями (например, на прялке из собрания РЭМ, скорее всего — из бывшей Новгородской губ., хотя точное место происхождения ее неизвестно — табл. 11-а; илл. n.V — 1). Образ дерева-богини известен и в глиняной игрушке, особенно ярко он выражен в скульптурках из д.Хлуднево Калужской обл., хотя время появления его в данном промысле дискуссионно (табл. 12-е,ж; илл. n.IV — 5).
Мужские образы выступают только либо в виде адорирующих всадников по сторонам женского образа, либо иногда — в ряду условных человечков, чередуясь с женскими фигурками96, причем подобные ряды часто производят впечатление относительно поздних сюжетов. Значительная проработанность фигур всадников на конях (в тех вариантах, когда это явные всадники — они встречаются преимущественно на Каргополье97) тоже указывает на их не очень глубокую древность. Возможно, им предшествовал значительно чаще встречающийся в вышивках образ всадниц, выполненный обычно в более условной манере, — этой точки зрения придерживалась И.И. Шаньгина98. Всадницы изображались не только на животных, но и на птицах, часто пол наездника вообще неопределим, иногда весь образ оставляет впечатление слитности антропоморфной фигуры и животного (табл. 1-д; 7-6; 9-а,в,м; илл. п.Ш — 5-г,д,ж), Л.А. Динцес считал образы всадников и всадниц в вышивке и архаичной глиняной иг рушке (где также отсутствует явный образ мужчины) отражением процесса антропоморфиза-ции животных «прибогов» женского божества, восходящим к эпохе вытеснения животного-тотема первопредком-человеком". Изредка в вышивке встречаются столпообразные фигуры100 (табл. 5-е), в том числе — на месте женской между всадников (илл. п.Ш — 5-ж) — в них можно предполагать изображение идолов мужских богов, хотя, как известно, подобные идолы могли быть и женские (иногда женская фигура сильно вытянута и приближается к столпообразной; даже по поводу крупных столпообразных фигур, очень напоминающих мужские, но с рогами на голове, Г.С. Маслова считает, что они определенно женские101).
Такое засилье женских образов в русской вышивке дало возможность многим ученым предполагать, что она донесла до нас пласт более архаичных представлений, нежели зафиксированные источниками языческие культы мужских богов I тыс. н.э. — в силу того, что вышитые изделия оставались востребованными в быту крестьян-землельцев, они отражали в первую очередь идею плодородия, продолжения жизни, и были далеки от официальных культов более поздних мужских божеств. «Первичные аграрные культы были связаны с богиней-матерью... Культ единого мужского божества возник не ранее П тыс. до н.э.» — считал Б.А. Рыбаков (в другом месте он указывает в этом плане на Ш тыс. до н.э.)102.
Основоположник изучения русского орнамента В.В. Стасов считал человеческие фигуры в вышивках либо изображением идолов, либо — реальных людей, принимающих участие в языческих богослужениях. По его мнению, это отражение русальных и иных народных праздников, связанных в первую очередь с поклонением деревьям, вышитые изображенные участвующих в таких обрядах людей с цветами, ветвями, птицами, жертвенными сосудами в руках напоминают ассирийские барельефы, а в языческие храмах просматриваются формы буддийских103. Образность весенне-летних праздников отмечали в вышивках и последующие исследователи: Г.С. Маслова предполагала возможность ее в различных композициях и образах, в том числе — в образе всадницы как отражения обряда «вождение русалки», и почти определенно — в рядах женских фигур «с ветками или светильниками в руках», именовавшихся в некоторых местах «кумушки», «кумки со свечами»104; В.А. Фалеева обратила внимание на женские изображения в шатре, отражавшие, по ее мнению, элементы конкретных весенних обрядов105; акцент именно на отражение земледельческой обрядности и связанных с ней представлений в вышивке делал во всех своих работах Б.А. Рыбаков.
Однако наибольшее внимание исследователей привлекла трехчастная композиция с женской фигурой в центре и всадниками по сторонам ее, распространенная в северорусской вышивке (сюжеты с занимающими место всадников конями, птицами рассматривались первыми исследователями просто как вариант ее). Хотя эта композиция встречается в вышивке и финно-угорских народов европейского Севера, она, вероятно, исконе присуща славянскому миру (а корни ее еще значительно глубже), что подтверждается наличием вариантов ее в некоторых районах Украины (в частности, в Подолии; известен также археологический образец ХІІ-ХШ в. из Борисоглебского р-на Киевской обл. ). Встречается она и в народном искусстве других славянских народов (к примеру, у поляков — в сюжетах вырезных бумажных «выци-нанок», заменивших настенные росписи107). Высказанное в 1920-х годах мнение В.А. Город-цова о центральном женском образе трехчастной композиции остается фактически общепризнанным до сегодняшнего дня, оно лишь частично дополнялось последующими исследователями, хотя его точка зрения о дако-сарматских корнях этой композиции в значительной степени пересмотрена. Считая женский образ в ней несомненно изображением богини и отмечая контаминацию его с образом древа жизни — ее явным символом, он заключает, что богиня сама есть начало жизни, мать всего сщего, ей принадлежат все стихии — воздух, вода, земля, это Великая богиня, мать второстепенных богов, известная многим культурам древнего мира108. Предстоящие по сторонам ее всадники, кони, отмеченные священными знаками (крестами, свастиками, ромбами и т.п.), — это подчиненные ей небесные существа, боги (предположительно — Перун и Стрибог), не отмеченные ими — возможно, цари, а встречающиеся более мелкие фигурки — жрицы и жрецы богини. Хотя сама она, судя по воздетым рукам с «символами светил небесных» (птицами, розетками, ромбами, крестами и т.п.), молится какому-то высшему богу, символом которого было солнце, является посредницей между людьми и им. «Этим необъятным светлым божеством возглавляется стройное религиозное учение, как законченная теософская система» — заключает В.А. Городцов109.
Концепция архаичной модели мира в виде живого существа
Сам факт изображения в нашей вышивке женских фигур в позе роженицы крупным планом, часто в виде отдельной фигуры, их многовариантность, указывают на большую значимость образа, сохранявшуюся, видимо, с глубокой древности. В археологических памятниках древней Евразии изобразительный мотив, близкий образу Роженицы, встречается по крайней мере уже со времен неолита153, а в VII-V тыс. до н.э. керамика с подобными мотивами была распространена на территориях от Фессалии и Македонии до северной Венгрии и Германии154. Возможно, подобный образ являлся для определенного исторического периода мировой универсалией (хотя этот вопрос, несомненно, требует специальных сравнительно-типологических исследований). Культовое искусство Древнего мира донесло до нас уникальное свидетельство обожествления такого образа: в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина на выставке древностей из коллекции Дж. Ортиса в 1993 г. была представлена скульптурная композиция из меди, состоящая из трех мужских фигур, молящихся четвертой центральной в виде женщины-роженицы, напоминающей в то же время обрубленное дерево (происходит из Шумера начала III тыс. до н.э.). Одно из древнейших свидетельств, дающих нам ключ к постижению того контекста, который древние могли вкладывать в подобный образ, сохранилось в «Ригведе» (Х.72.4):
«Земля возникла из прародительницы, Из земли возникло пространство мира...»155 Имеется и другой перевод с санскрита данного отрывка, приводимый Ж. Дюмезилем, — в нем прародительница названа именно Роженицей: «... Части света родились, выйдя из Роженицы» — «букв, из той, у кого ноги вытянуты, как при человеческих родах»156. Здесь образ рожающей женщины, создающей мир как своего ребенка, явно обладает космическими параметрами и подсказывает нам подход к содержанию подобных образов с позиций архаичных представлений о мироздании, которые имели свою длительную историю и свои предпосылки в особенностях мышления человека архаичных традиционных обществ. В первобытном мышлении, еще очень ограниченном в средствах познания, превалируют те качества, которые являются очень важными для творческого, художественного освоения действительности — эмоциональность, ассоциативность, олицетворение неодушевленных предметов и явлений, хотя ему не чужды и определенная последовательность и логичность157. На стыке реальности и фантазии, интуиции и логики, веры и эмпирики возник обширнейший пласт мифологии, остающейся наиболее загадочной областью из всего накопленного человечеством за тысячелетия культурного наследия. Мифологическое отражение окружающего мира могло принимать довольно причудливые формы, и дискуссионность проблематики в области мифологии, мифологического мышления, присущего во многом и современному человеку, с течением времени не ослабевает.
Один из основных принципов мифопоэтического мышления — осмысление явления по аналогии с более знакомым и понятным, ассоциативное отождествление объектов по отдельным признакам — часто формальным, чисто внешним, а порой наоборот — по близости главного функционального признака (с точки зрения древнего человека) — так, например, отождествлялись тучи и стада, печь и женщина и т.п. (много примеров рассматривается ниже в данной работе). В результате такого подхода к явлениям мира в течение тысячелетий появлялись «целые поля семантических ассоциаций, ... ассоциации переплетаются и сменяются в зависимости от конкретных обстоятельств»158, однако и при забвении изначальных ассоциаций возникшие на основе их мифологемы и образы могли продолжать жить благодаря традиции, вплетаясь в новые ассоциативные ряды и умножая загадки мифологии.
Сложность явлений окружающего мира и их взаимосвязей при лишь частичном ассоциативном совпадении отождествляемых объектов приводила порой к представлению этих явлений в очень разных образах в рамках даже одной мифологической системы, причем эти образы могли быть взаимодополняющими, так как «мифопоэтическое сознание, тяготеющее к конкретному, выражало иррациональное.., допуская правомерность нескольких подходов одновременно»159 (характерный пример: в одном меланезийском мифе месяц выступает одновременно и в качестве скребка, и в роли мужчины160). Хотя, несомненно, многообразие мифологической образности в представлениях о мире даже одного этноса может быть обусловлено также и их хронологической разнородностью, диахронным наложением мировоззренческих систем и сохранением, благодаря традиции, в лоне более поздних из них элементов предшествующих вплоть до самых архаичных, причем архаичные представления могут быть очень глубоко закреплены традицией в силу их наиболее протяженного в хронологическом плане бытования.
В то же время ассоциативно-образный подход в осмыслении мира как на микро-, так и на макроуровне не был хаотичным, так как одна из главных, искони присущих человеку черт, помимо любознательности, — стремление к постижению и упорядочиванию пространства вокруг себя для облегчения координации в нем. "Нет такой ранней поры, когда человечество питалось бы обрывками или отдельными кусками представлений, — констатирует О.М. Фрейденберг. — ... Чем древнее культура, тем больше в ней внутренней связанности, неподвижности, замкнутости"161.
Близостью первобытного мышления, то есть теми «одинаковыми средствами, с которыми разные древние народы подходили к познанию мира, и одинаковостью наиболее важных явлений, требовавших осмысления»162 в значительной степени, вероятно, можно объяснить причины возникновения близких мифологем и архетипов, неких фундаментальных мотивов и образов, встречающихся в сходных формах в культурах народов, никоим образом между собой не связанных. С легкой руки швейцарского психоаналитика Карла Юнга такие устойчивые образы получили название «архетипов», явившихся, по его мнению, плодом «коллективного бессознательного»163. Благодаря сравнительно-типологическим сопоставлениям мифологических архетипов, или «доминантных символов культуры» (по В. Тэрнеру), все более становится ясно, что они не представляют собой нечто застывшее, раз навсегда изначально данное «бессознательное», а являются скорее продуктом коллективного сознания со своей историей возникновения, становления и длительного бытования-функционирования в умах и социально-обрядовой жизни многих и многих поколений. В настоящее время — время увлечения психоанализом и мистикой — вполне злободневным остается критическое отношение к юнговской теории архетипов, высказанное когда-то венгерским этнологом и мифологом Карлом Кереньи, с которым К. Юнг сотрудничал и на материалы которого во многом опирался. По мнению К. Кереньи, культурные архетипы «не могут быть реалиями одной лишь психики», за ними стоят глубокие исторические реалии, истоки которых уловить очень непросто; «Если такие утверждения, как «это архетипично» или «это архетип» приводят к тому, что дальнейшее исследование представляется излишним или ненужным, тогда от подобной терминологии в научной работе следует отказаться»; «Сам Юнг в итоге подчеркивает несостоятельность своего чисто психологического объяснения и обращается к истории культуры ... Юнг оставил последнее слово по вопросу первопричины за этнологом»164.
Сравнительным исследованиям таких доминантных символов культуры в последнее время уделяется все больше внимания (см. Введение)165. Пристальное изучение их позволяет уловить связь между отдельными, на первый взгляд вполне самостоятельными, архетипами и мифологемами. Возможно, что сама загадочная природа архетипов заключается именно в том, что архетипы — это осколки некоей давно забытой мировоззренческой системы. Справедливо отмечено, что «более глубокий анализ позволяет обнаружить в мифах строгую гармонич ную систему взглядов и понятий, основанную на тонкой, если не сказать изысканной, логике»166.
Знаки «центра» на образах народного искусства и концепция мифологического «центра мира».
Обращаясь к центральной части вышитых фигур Рожаниц, необходимо отметить, что она всегда маркирована каким-либо изобразительным мотивом — в классических геометризованных вариантах, вышитых чаще всего набором, это обычно узорный квадрат со срезанными углами, что приближает его к кругу, который встречается в аналогичном месте подобных фигур в тамбурной вышивке (табл. 1 а-г; 2-д; 3 — в,е; илл. п.1 — 1-3,6). В классических вариантах в такой круг/квадрат обычно вписана 8-лепестковая розетка, лепестки которой чаще всего соединены попарно, образуя крестообразный мотив (табл. 1 — а,б,г; илл. п.1 — 1,2) — в целом центральный мотив на фигуре Рожаниц в этих изводах можно считать вариантом перекрещенного круга/ромба, изображаемого иногда на них явно (табл. 1-в; 2-д) и известного как древний, широко распространенный символ плодородия (см. ниже). В трансформированных фигурах, выполненных с использованием тамбурного шва, центральный мотив варьирует от перекрещенного прямоугольника до круга/овала с вписанной внутрь фигуркой животного, птицы, женщины (табл. 2-в; 3 — в,е), растения, а иногда центр занимает сложная комбинация мотивов. Особо нужно выделить фигуры Рожаницы и Рожаницы-дерева, центр которых представляет собой комплексный мотив из соединения круга(овала)/ромба с огибающей его дугообразной фигурой с загнутыми концами, напоминающей двуголовую змею (табл. 4) — этот мотив будет рассматриваться отдельно в заключительном разделе данной главы (2.3), а вопрос о растительных мотивах «центра» — розетки, деревца — в третьей главе, в разделе о растительной вертикали (3.2). Необходимо отметить наличие традиции маркирования лона и для стоящих женских фигур в вышивке — розеткой, крестообразной звездой, иногда — растением, птицей, узорным квадратом, восьмиугольником с крестиком503 и даже иногда свастикой (табл. 7 — а-в; илл. п.Ш — 5,6-а). Изредка мотив, близкий свастике, можно видеть и в центре фигуры Рожаницы (см. изображение на такой стилизованной фигуре в золотом шитье северодвинского кокошника из Вологодского музея504), причем свастические мотивы нередко украшают и нижнюю половину женской одежды, наряду с птицами (см. фартуки из Вологод. губ. и у ижор, «занавеску» из Клужской губ. — илл. п.Ш — 6-6, 7-а,в), и эта традиция имеет, видимо, давние евразийские корни, так как встречает археологические параллели (в частности, свастику в окружении точек мы видим в нижней части туловища женской скульптурки из Трои505, аналоги имеются и в древнеиндийской пластике). Любопытно наличие изобразительной традиции выделения лона женских стоящих фигур и в индийской народной вышивке, в частности — крупным ромбом506. В настоящем разделе речь пойдет об основных геометрических образах «центра» в русском народном искусстве — круге, ромбе, квадрате, часто в основе перекрещенных (или дополняемых отростками, превращающими их в крестообразный мотив), которые во многом можно рассматривать как взаимозаменяемые.
Относительно изображений в первобытном и народном искусстве простого или орнаментированного круга в научной литературе существует давняя традиция, отраженная во множестве работ, считать их в первую очередь символами солнца. Эта, наиболее простая, трактовка может иметь под собой основания, но лишь в отдельных конкретных случаях и для определенного времени. Обзор основных зарубежных и отечественных работ по данному вопросу был представлен в работе А.А. Миллера 1933 года507 — в большинстве случаев различные изображения кругов, а также свастика, рассматривались в них как знаки солнца, усложненные окружности — знаки неба, хотя сам Миллер более осторожно относился к подобным трактовкам, указывая на примеры, когда в шаманских рисунках кружком изображался и проход в нижний мир. Кстати, СВ. Иванов приводит местные значения изображений на шаманских изделиях удэгейцев в виде простых и перекрещенных кругов как «бездна», «море» (хотя в аналогичных мотивах, значение которых неизвестно, автор также почему-то был склонен видеть образ солнца)508. Вплоть до последнего времени в научной литературе встречаются порой опрометчивые, безапелляционные высказывания по этому вопросу — например, Я.Е. Боровского по поводу клейм на донцах древнерусских глиняных сосудах — и перекрещенный круг, и концетрические кружки, а также кружки с точкой в центре, ромб, крест и т.п. он считает «общеупотребляемыми солярными символами»509. Та же тенденция — в работах Г.П. Ду-расова, поместившего, в частности, абсолютно бездоказательную подпись под олонецким полотенцем, на котором вышит крупный процветший крест: «Солнце в окружении солярных знаков»510. Подобные однозначные мнения никак не обосновываются и вызывают уйму вопросов — достаточно взглянуть хотя бы на декор русской глиняной игрушки, особенно карго-польской, в которой крупный крест, орнаментированный круг, и в первую очередь — перекрещенный, нередко отмечают у фигур женщин нижнюю часть торса спереди (табл. 12 — а,з,и), причем, если по поводу значения этих знаков на юбках «баб» еще можно сомневаться, то расположение их у вертикально стоящих «медведей» не оставляет никаких сомнений — они маркируют именно «чрево» (а у животных с горизонтальным торсом — преимущественно заднюю его часть)5" (илл. n.IV — 3 — в,г). Особенно стойка эта традиция в изделиях древнего промысла глиняной игрушки в д. Хлуднево (Калужская обл. Думинический р-н) — здесь «чрево» бабы и бабы-дерева маркируется всегда — кругом с точками, розетками, крестами, а нередко прямо из него вырастает 4-х лепестковый цветок; те же знаки отмечают и заднюю часть туловища разных зверюшек (илл. n.IV — 6-8)512.
Этой традиции имеются прямые аналогии в культурах древности, в частности, в наскальных изображениях Сибири, преимущественно бронзового века, где перекрещенный круг или колесо мы видим на задней части туловища у лошадей из Минусинской котловины и у волка на плите из окуневских могильников, а на окуневских каменных стелах с изображением каких-то божеств знаки из сочетания креста и кругов также маркируют их «чрево»513. Знаки в виде восьмиконечной звезды, крестика (а чаще — деревца) изображали на аналогичных местах у женских терракотовых статуэток носители раннеземледельческой анауской культуры Ш-П тыс. до н.э. (предположительно индоиранцы на юге Туркменистана)514. Каргопольские глиняные «бабы» со знаками в виде перекрещенных кругов и концентрических окружностей с синей точкой в центре пользовались особым спросом и ценились всего дороже, как отмечал сам Г.П. Дурасов515. Любопытная параллель: точно такой же знак, как у наших глиняных «баб», — перекрещенный круг — изображен посередине туловища индийского Пуруши, декорированного на ткани XIX века (причем рогатое завершение его головного убора очень близко нашим вышитым Рожаницам)516, а это божество, как известно, обладало вселенскими параметрами — из частей его тела в Ригведе творится Вселенная, в нем, к тому же, просматривается женское начало (см. 1.4 — раздел о «вселенском существе»). Перекрещенный круг в этом образе находится на месте пупа божества, а исследователи отмечают, что подчеркну-тость пупа указывает на связь образа с первопредками, также «иногда выделение пупа у антропоморфных изображений символизировало ... принадлежность к материнскому роду»517 (см. ниже о «пупе земли»). Изобразительные аналогии нашим мотивам можно встретить по всему миру с глубокой древности: на храмовых рельефах Чатал-Хююка VII тыс. до н.э. имеется немало фигур женщин в позе рожениц, чье чрево маркировано кругом или концентрическими кругами518, а перекрещенный ромб с четырьмя точками, как известно, — наиболее характерный знак на лоне трипольских женских статуэток (кстати, на многих из них встречается изображение на ягодицах концентрических кругов и спиралей, а также крестообразных зна-ков519).
Вопрос о семантике образа священного дерева в отечественной литературе
С середины XIX веке в среде российской интеллигенции особенно ярко вспыхнул живой интерес к народной культуре, сохранявшийся до революции, появлялось все больше посвященных этой тематике исследований, в которых вопросам, связанным с культом дерева, уделялось значительное внимание. «Культ растительного мира представляет собой одну из основных форм религиозного сознания первобытного человека, некогда одинаково распространенную почти у всех племен земного шара и в массе народа не вымершую отчасти и до сих пор», — писал Е.Г. Кагаров; по его мнению корни этого культа восходят «к самому истоку дней человеческих»967. Во многих работах повторялись сведения, почерпнутые из ранне-средневековых источников, о священных деревьях и связанных с ними святилищах у древних славян, главным образом — балтийских: это святилища в Штетине — одно с большим ореховым деревом, другое — с огромным дубом, посвященным какому-то божеству (Прове или Проне; А.Н. Афанасьев считал его Перуном), идол которого находился на самом дубе; упоминались также священные рощи богини Живы, культ которой был особенно характерен для поляков . Столь же часто в исследованиях ученых приводились сведения из Константина Порфирородного (сер. X в.) о жертвенных обрядах русов у огромного дуба на острове Святого Георгия (неподалеку от устья Днепра)969. Большое внимание в работах XIX в. уделялось различным местным поверьям, легендам и обрядам, связанным с разными видами деревьев, представлениям о соотнесенности жизни и души человека с деревьями, и в целом — тому значительному месту, которое занимал культ дерева в народной культуре970.
Поклонение священным деревьям у славян дореволюционные ученые сравнивали часто с аналогичными культами в древних цивилизациях — Египте, Греции, Риме (священная сикомора, Додонский дуб, пальма и олива Афродиты, дуб Юпитера и др.), и особенно — с описаниями из священных текстов Скандинавии, Древней Индии и Ирана971. На их основе реконструировался во многом архетипический образ Мирового древа — опоры Вселенной высотой до неба, со светилами на ветвях, с корнями, уходящими в подземный мир, со змеем в его корнях или обвившемся вокруг ствола, с птицей на вершине, животными у ствола и чудесным источником юности у подножия. Подобный «образ дерева, образующего собой мир, является присущим всем арийским космогониям», — констатировал Н.И. Коробка — «... дуб — мир, ветви его — народы...» (хотя он отмечал и иной аспект этого образа — дерево как обиталище душ)972. Близких взглядов по этому вопросу придерживались Я. Автономов, А.Н. Афанасьев (хотя он преимущественно стремился свести весь образ Древа к астральной и атмосферной образности, и прежде всего — грозовой тучи), Е.Г. Кагаров, А.Н. Веселовский (он, правда, во всем пытается искать христианские корни), Н.И. Костомаров, А.А. Потебня и др. Однако по славянским материалам более-менее полная и четкая реконструкция этого архетипа никем из ученых проведена не была, аспект «мирового» в изложении материалов порой теряется в иных аспектах образа дерева (как Древа жизни, родового, обрядового и пр.). «Обломком мифа о всемирном дереве, составляющем одну из крупных черт первобытной арийской мифологии» считал Н.И. Костомаров восстанавливаемую по фольклорным текстам широко распространенную мифологему о творении мира двумя птицами, в том числе — прилетевшими на возвышающееся из первозданного моря дерево (дуб, явор)973. Хотя некоторые современные исследователи возводят миф с птицами-творцами к финноугорскому субстрату974, однако этот вопрос остается спорным, так как несомненно широкое бытование его в славянском мире, а также — близкие параллели у многих других народов.
В послереволюционной научной литературе тематика, связанная с культом деревьев и образом Мирового древа продолжала разрабатываться. В 1930-х годах выходят две заметные работы Д.К. Зеленина по культу деревьев, посвященные одна — восточным славянам, другая — прочим народам Европы975. Приведенные в них обширные материалы, особенно по весенней обрядности, которую он считает несомненно восходящей к матриархату, значительно дополняют общую картину этого культа. Рассматривая его как стадиальное явление, Д.К. Зеленин стремится теоретически осмыслить его истоки, которые он усматривает в тотемизме, предполагая, что в древности родовая группа людей могла заключать определенный «союз» с деревом-тотемом, как и с животным-тотемом, относясь к ним как к мифическим первопред-кам. Автор пытается наметить определенные этапы зарождения и развития культа деревьев, хотя эта периодизация довольно спорна (предлагаются стадии: из неумения рубить деревья возникает табу; с потребностью в деревьях — стремление снять табуацию, возникновение союза с деревом; с появлением магических представлений дерево мыслится как источник здоровья, одушевляется; деревья все больше индивидуализируются, воспринимаются как заключающие в себе некий дух типа русалки)976. Вопрос об архетипическом образе Мирового древа Д.К. Зеленин в своих работах фактически не затрагивает.
В разработку именно образа Мирового древа в отечественной литературе того времени внесла вклад работа Б.А. Латынина977, на которой хотелось бы остановиться несколько подробнее, так как она имеет самое непосредственное отношение к нашей теме. По поводу образа Мирового древа автор считал, что он — «один из главнейших, центральных образов всего религиозного миросозерцания (отложившийся в той или иной сохранности едва ли не во всех религиях)»978. Название работы шире ее содержания — автор сопоставляет культурные явления лишь двух этносов, отдавая дань духу времени и делая акцент на стадиальности мифологического образа дерева, причем предостерегает от упрощенного понимания стадиальностии: «стадия в развитии общества понимается как ... сложная и противоречивая система, генетически всеми своими компонентами связанная с пройденными уже этапами» . Он сопоставляет мотивы мордовского фольклора (прежде всего — образ яблони на бугре, чьи корни «во всю ширину земли», а «ветви ее во все небо») с русской вышивкой, заключая: «Орнаментальный мотив мирового дерева // неба находит себе полное соответствие в религиозном миропонимании мордвы, стадиально тождественном миропониманию языческого славянства...»980. Правда, не совсем понятно, о каком именно орнаментальном мотиве здесь идет речь — ни соответствующей иллюстрации, ни самостоятельного анализа русской вышивки мы у Б.А. Латынина не находим, он в основном обращается к работе В.А. Городцова 1926 года981, который рассматривал трехчастную композицию с женской фигурой в центре, сливающейся в некоторых изводах с образом дерева, и делал вывод, что «перед нами не простая женщина, а богиня, царица неба и земли», замещающее же ее дерево — «это, очевидно, и есть древо жизни»982. Но образу дерева, моделирующего мир, Городцов в своей работе внимания не уделяет. Латынин же, напротив, довольно четко разграничил эти два мифологические аспекта образа дерева. В фольклорном образе Мирового древа он акцентирует его «вселешюсть», всеохватность, связь с небом (правда, лишь на мордовском материале), в то время, как образ Древа жизни, по мнению автора, тесно сопряжен с главным женским божеством, богиней-матерью, ее производительной силой, выступая даже часто в роли олицетворения этого божества. Хотя стадиально, хронологически он эти концепции не разграничивает, бегло говоря о Древе жизни как об «особом преломлении» образа Мирового древа.