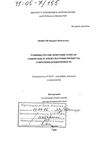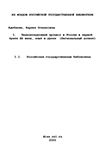Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Колдовство в официальном дискурсе 25
1.1. Светская власть и колдовство (колдовство в законодательных актах Российской Империи) 25
1.2. Церковь и колдовство 45
1.3. Колдовство в "просветительском" дискурсе 52
1.3.1. "Госпожа Суеверова" и колдун - обманщик 52
1.3.2. "Невинное увеселение" и "Забава в скуке" 64
Глава 2. Магические практики и представления о "волшебном" в XVIII в 74
2.1. Заговоры и контекст их бытования 78
2.2. Травы и коренья. Волшебство, отравление, медицина 90
2.3. Кости и "бобки". Колдовство - гадание 100
2.4. Предметы личного благочестия. Представления о порче и связи колдовства с дьяволом
105
2.5. Стереотипные волшебные действия 108
2.6. Народная и официальная медицина 117
Глава 3. Специфика русского колдовского процесса второй половины XVIII в 121
3.1. Конфликт людей и идей 121
3.1.1. Доносчики и их мотивы. Типы процессов 125
3.1.2. Семейные отношения сквозь призму колдовского процесса 127
3.1.3. Приходское духовенство в колдовских процессах 133
3.1.4. "Аккультурационная" и "демократическая" конфигурации колдовского процесса 141
3.1.5. Доносы "отчаявшихся" ("слово и дело" и обвинение в колдовстве) 150
3.2. Власть и "носитель практик" 157
3.2.1."Процесс без доносчика". Эффективность исполнения законодательной нормы 157
3.2.2. Особенности судопроизводства 162
3.2.3. Человек перед судом 167
Заключение 181
Список сокращений 194
Библиография 195
- Светская власть и колдовство (колдовство в законодательных актах Российской Империи)
- Травы и коренья. Волшебство, отравление, медицина
- Стереотипные волшебные действия
- Семейные отношения сквозь призму колдовского процесса
Введение к работе
Цели и задачи работы
Основным предметом нашего исследования является такой феномен русской культуры как колдовской процесс. Цель данной работы — описать феномен колдовского процесса определенной исторической эпохи, выявить и объяснить его специфические черты. Мы ограничиваем свое исследование конкретными хронологическими рамками 1741-1801 гг. (о причинах, заставивших нас остановиться именно на этих датах, речь пойдет несколько ниже). Столь сложный культурно-исторический феномен как колдовской процесс можно рассматривать во многих ракурсах, и перед нами стоит несколько задач.
Во-первых, нас будет интересовать законодательная почва для подобного рода процессов, отношение к магическим практикам со стороны господствующей культуры и его изменение на протяжении XVIII в.
Во-вторых, мы попытаемся сквозь призму следственных дел о колдовстве взглянуть на "магическую повседневность" подданных Российской Империи XVIII века, главным образом — русского православного населения.
Наконец, нас будет интересовать сам феномен колдовского процесса с его специфическими чертами в том виде, в каком он существовал в России во второй половине XVIII в. Надо иметь в виду, что русский колдовской процесс не был однородным. Во-первых, существует специфика отдельных его вариантов, обусловленная взаимным отношением доносчика и обвиняемого, и мы ставили перед собой задачу последовательно описать все эти варианты. Во-вторых, колдовской процесс изменялся во времени, и мы проследим отличия процессов второй половины XVIII в. от более раннего периода.
Наконец, у данной работы существует и чисто практическая цель — ввести неизвестные и малоизвестные архивные дела в круг актуальных этнографических источников.
История вопроса
А.С. Лавров справедливо пишет, что "в истории изучения религиозного менталитета в России материалам "духовных" и политических дел предстояло сыграть не меньшую роль, нежели фольклорным источникам и народной картинке" (Лавров 2000:10). Впервые исследователи обратились к архивным материалам политического сыска (частью которых в XVII-первой трети XVIII в. были и дела о колдовстве) во второй половине XIX в. К этому времени относятся первые публикации архивных дел и первые посвященные им статьи. Обращение к теме поначалу имело скорее общественный интерес, чем строго научный, и среди первых публикаторов были не только историки и филологи, но также юристы, врачи, общественные деятели либерального крыла. Так, например, А.А. Левенстим сначала обращался к теме колдовских процессов как практикующий юрист, и его целью было "выяснить, насколько суеверие имеет значение в настоящее время, как источник преступления и средство обмана" (Левенстим 1906:291). Затем он обратился к истории отношения законодательства к вопросу о суеверии в Западной Европе и в России. Колдовство представлялось суеверием темного народа, от которого происходит немало бед и с которым необходимо бороться с помощью просвещения: "необходимость просветить его (русский народ - Т.М.) христианскою нравственностью, освободить его от внутренней тьмы и дикости" (Марков 1887:23). Для успешной проповеди просвещения среди крестьян требовалось изучить их суеверия, и материалы дел о волшебстве воспринимались как равноправный источник, наряду с многочисленными "наблюдениями", "сообщениями с мест" и т.п. П. Чубинский, в предисловии к статье В.Б. Антоновича "Колдовство" пишет: "Сближая данные актов с современными этнографическими данными о суевериях, нельзя не заметить, что те же верования в таинственные силы природы существуют и теперь; что народ и теперь верит в возможность принести пользу или вред употреблением извест-
ных предметов...Почти все верования заключающиеся в процессах XVIII века, -тождественны с современными. Так, вера в ведьм, упырей, "лятавцев" - существует и теперь. Тот же взгляд на "завитку" во ржи, те же воззрения на обливание пути, те же и средства колдовства или знахарства. Вообще упомянутые процессы могут служить богатым материалом для характеристики народных верований, предлагая в тоже время материал историко-юридический" (Антонович 1877:321).
Общественная значимость темы определила соответствующий дискурс первых статей и комментариев к публикациям дел. В качестве "общих мест" мы можем обнаружить и идею о колдовстве как суеверном заблуждении, присущем крестьянам (см. выше), и рационалистические истолкования феномена, как, например, психическая болезнь или гипноз ("Мы имеем здесь дело с несомненно психически больным субъектом (психопатом или визионером по современной терминологии), нарекающим на себя, что он-то и есть настоящий упырь от самого своего рождения и обладает завидным даром узнавать ведьм" (Линниченко 1889:173); "ознакомление в последние годы с гипнозом показало, что многие явления ... которые заставляют суеверных людей прибегать к объяснениям их вмешательством злых сил, должны быть приписаны естественным объяснениям" (Весин 1892:57)), и отношение к волшебным делам, имевшим место в недалеком прошлом как к курьезу ("Курьезное такое происшествие случилось в 1831 году в селе Подосах" (Кошовик 1884:169)) или к мрачной, но уже изжитой странице темного прошлого ("Будем надеяться, что грамотность и просвещение ... проникнут во все медвежьи углы нашего отечества, и что общий подъем культуры избавит нас от многочисленных преступлений, совершаемых по суеверию, как он избавил нас от процессов о чародействе, застенка и костров" (Ле-венстим 1906:251)).
Большое число архивного материала было введено в научный оборот Г.В. Есиповым (Есипов 1861; 1878; 1885 (а); 1885 (Ь)), который вошел в историю науки прежде всего как публикатор. Г.В. Есипов первым стал разрабатывать фонды архивов Преображенского приказа и Тайной канцелярии. Г.В. Есипову принадлежит мысль о важности понимания того места, которое колдовство занимало в системе мировоззрения людей XVII в. (эпохи, к которой относились источники Г.В. Есипова). Без понимания того факта, что "убеждение в силе колдовства ... было принадлежностью всего русского народа от царя до последнего холопа" (Есипов 1878:64), согласно Г.В. Есипову, была бы непонятна в том числе и политическая история России.
Одна из крупнейших публикаций волшебных дел принадлежит В.Б. Антоновичу (Антонович 1877). В.Б. Антонович просмотрел и издал около ста колдовских дел из Киевского Центрального архива, разбиравшихся местными магистратами и обладающими рядом особенностей, присущих украинским и польским процессам. В частности В.Б. Антонович отмечает относительную мягкость приговоров судов: "среди всех дел, возбужденных о чародействе, никогда ни гродские ни магистратские суды не помышляют о наказании виновных сожжением...Обыкновенно, уплатою штрафа в пользу церкви, церковною эпитимиею, или очистительною присягою отделываются обвиненные от возводимого на них подозрения" (Антонович 1877:327). Причину этого В.Б. Антонович справедливо видит в неразвитости демонологических представлений: "причина относительной мягкости судебных приговоров...в отсутствии тех демонологических понятий, которые вызвали на Западе жестокое преследование колдунов... демонология не только не была развита, как свод стройно развитой системы представлений, но, до самого конца XVIII столетия, насколько можно судить по процессам, совсем не существовала в народном воображении, даже в виде неясного зародыша" (Там же).
Значительное число публикаций и пересказов архивных дел о колдовстве можно обнаружить в работах И.Е. Забелина о процессах XVII в. в среде царского окружения (Забелин 1851), А.А. Левенстима (Левенстим 1906) о делах, главным образом, первой половины XVIII в., А.А. Кизеветтера, иследовавшего дела тульского совестного суда (Кизеветтер 1923). Существует ряд более мелких публикаций и исследований, принадлежащих авторам XIX века; такие работы, как правило, представляют собой пересказ нескольких дел (обычно одного или двух) о колдовстве, кликушестве, чертях и т.п. и комментарий к ним (Алмазов 1911; Беляев 1905; Ефименко 1883,1884; Кирпичников 1894; Кошовик 1884; Костров 1879; Куроптев 1878; Линниченко 1889; Оглоблин 1887; Сапожников 1886; Селецкий 1886; С.П.А. 1911). Данные статьи содержат материал как об украинских, так и о "великорусских" колдовских делах. В хронологическом отношении большинство таких публикаций касаются дел XVII — начала XVIII в. или же — XIX в., в то время, как дела второй половины XVIII в. представлены сравнительно редко.
Среди работ аналитического характера следует отметить вышедшие в самом начале XX в. книги Н.Я. Новомбергского (Новомбергский 1906; 1907; 1909; 1911). Опираясь на большой корпус дел о колдовстве конца XVII - первой трети XVIII в., Н.Я. Новомбергский опровергает установившееся в русской историографии мнение о том, что в России практически не было жестокого преследования людей, обвиненных в колдовстве. Последнюю точку зрения разделяет, например, Л. Весин: "в то время как за границею жестокие определения закона шли, так сказать, с практикою рука об руку, у нас постановления относительно сожжения колдунов оставались, к счастью, мертвой буквой" (Весин 1892:60). Н.Я. Новомбергский убедительно доказывает обратное: "добытые нами новые архивные материалы не оставляют сомнения в том, что борьба с ведовством приводила в движение органы власти. Больше того, эта борьба отличалась не
меньшей жестокостью, чем в Западной Европе. Московская Русь в борьбе с ведунами пережила и повальный терроризирующий сыск, и пытки, и публичное сожжение обвиненных в чародействе" (Новомбергский 1907:21). Именно благодаря работам Н.Я. Новомбергского такое убеждение проникло в западную историографию, в которой изучение "русского случая" борьбы с колдовством основано на публикациях дел, осуществленных Н.Я. Новомбергским (например, Zguta 1997).
Н.Я. Новомбергскому принадлежит важная мысль о близости колдовства и народной медицины, которую он высказывает в книге "Врачебное строение в допетровской Руси", где дает очерк истории медицинских знаний в России и высказывает мнение, что народная медицина и знахарство — это одно и тоже, что медицина возникла из приемов колдовства: "мы думаем, что колыбелью народного врачебного знания было ведовство" (Новомбергский 1907:21).
Последней выполненной на тему колдовских дел работой перед затишьем советского периода (когда с 30-х годов было прекращено историческое и этнографическое изучение колдовства как "пережитка" прошлого) стала работа Е.Н. Елеонской "К изучению заговора и колдовства в России, на материалах XVII в.", впервые вышедшая в 1917 г. (Елеонская 1994:99-143). Е.Н. Елеонская в своей книге подходит к анализу заговоров как фольклорист, и ее в первую очередь интересуют вопросы соотношение текста и ритуала, характер бытования, способы хранения и прагматика заговоров. Одним из источников для работы Е.Н. Елеонской послужили "волшебные дела", опубликованные Н.Я. Новомбергским.
Интерес к изучению следственных дел возобновился в нашей стране в 60-е годы XX в., что является заслугой Н.Н. Покровского, которому удалось создать в Новосибирске целую школу специалистов, работающих с материалами судебно-следственных дел, и доказать, что данный вид источников является ак-
туальным, важным и информативным для изучения религиозности "народных масс". Н.Н. Покровский наметил источниковедческую базу, в которую вошли судебно-следственные дела о старообрядцах, волшебстве, суевериях, договорах с дьяволом и прочих девиантных по отношению к официальному православию формах религиозности. Н.Н. Покровским ввел в научное обращение и сам концепт "синодального варианта православия". Противоречие между синодальным и "крестьянским (народным) православием" представляет собой аналог концепции аккультурации (Muchambled 1978:1991) и является основой для работ школы Покровского. Наибольшее внимание в исследованиях этой школы уделяется изучению старообрядческих дел, а основу источниковедческой базы составляют сибирские материалы (Покровский 1972:133-137; 1975 (а): 19-49; 1975 (Ь):110-130;1978:49-57; Покровский, 1981:96-108; 1987(а):290-297;1987(Ь):239-266; Го-релкина 1987:289-305; Журавель 1992:29-40).
Практически первой крупной работой в советский период, посвященной анализу именно "духовных дел", стала защищенная в 1987 г. диссертация Е.Б. Смилянской (Смилянская 1987). Источниковедческой основой исследования Е.Б. Смилянской стали несколько серий судебных дел первой половины XVIII в. о различных церковных преступлениях — колдовских, кощунственных, дел об оскорблении икон, еретических (серия дел о кружке Дмитрия Тверитинова). Работа Е.Б. Смилянской написана на основе архивных материалов Преображенского приказа, Тайной канцелярии, Синода и Московской синодальной конторы. Все дела были разбиты на три группы: волшебные, богохульные и (куда вошли дела о "кощунствах", оскорблениях икон, богоотступничестве) и еретические (о кружке Тверетинова). Е.Б. Смилянская сознательно исключила из рассмотрения дела о старообрядцах и сектантах, которые долгое время были главным объектом советских исследований религиозности. Таким образом, работа Е.Б. Смилянской стала первым крупным исследованием "народного правосла-
вия" первой половины XVIII в. Впоследствии Е.Б. Смилянская продолжили исследования в области народной религиозности и опубликовала целый ряд статей (см., например, Смилянская 1989; 1999; 2001(a); 2000; 2001(b); 2001 (с); 2001 (d); 2002 (а); 2002 (Ь); 2002 (с); 2002 (d)). Нам представляется справедливым и актуальным антропологический подход к изучению религиозности, который предлагает Е.Б. Смилянская, при котором "народное христианство" должно рассматриваться как целостная религиозная система1. Поскольку, как пишет исследовательница, "догматы и установки "народного христианства"...если существуют в письменности, то лишь в памятниках, отражающих индивидуальные религиозные воззрения" (Смилянская 2000:106), то "исследовательские подходы к изучению общих и частных черт народной религии в полноте взаимосвязей догмата и ритуала, христианской и архаической мифологии, религиозного опыта — должны быть исключительно антропологичны и видятся нам через анализ религиозных воззрений личности при максимально подробном воссоздании ее...картины мира" (Там же: 107).
Колдовским процессам первой половины XVIII в. уделено внимание в недавно опубликованном исследовании А.С. Лаврова (Лавров 2000). Тема данной книги гораздо шире, чем просто анализ колдовских дел петровского и аннинского времени, цель автора — изучение религиозности нескольких поколений российских людей, чья жизнь пришлась на период серьезных потрясений и изменений в российском обществе. А.С. Лавров использует в качестве источников очень большой массив следственных дел из архивов центральных учреждений
Подобный подход был предложен А.А. Панченко: "с антропологической точки зрения представляется более уместным говорить не о церковном каноне и отступлениях от него, а о религиозных институциях и религиозных практиках, подразумевая, что последние представляют собой иначе организованную, более лабильную, но не менее важную часть религиозной жизни общества...Большинство исследователей, писавших о "русской народной религиозности", обычно пытались квалифицировать ее в качестве "язычества", "двоеверия", "аграрной обрядности" или "магии", либо, наоборот, как "подлинное" воцерковленное православие. Возможно, настало время отказаться и от той, и от другой крайности и рассматривать "народное православие" как сумму религиозных практик, находящихся в динамическом взаимодействии с религиозными институциями" (Панченко 1999:202, 215).
Российской империи (Преображенский приказ, Тайная канцелярия, Синод), выделяя отдельные тематические "ряды". В центре внимания исследователя — такие аспекты "народной религиозности" как кануны и братчины, переходные обряды, народное почитание мощей, икон, эсхатология, юродство, старообрядчество и колдовство. Все эти сюжеты рассматриваются на фоне петровской реформы благочестия, которая создала крайнюю напряженность в религиозной жизни общества, поделив его на "правильно" и "не правильно" верующих. Мы во многом опираемся на положения и подсчеты А.С. Лаврова, а наши источники являются прямым продолжением "первичного ряда" дел о колдовстве 1700-1740 гг.
Среди западных исследований русских колдовских процессов следует отметить работы Р. Згуты (Zguta 1977 (а); 1977 (Ь)), В. Кивельсон (Kivelson 1991; 1995; 1997), К. Воробец (Worobec 1994), У. Райна (Rayn 1998; 1999). Западные специалисты опираются на дела, опубликованные Н.Новомбергским, и сферой их интересов остается борьба московского государства и церкви с колдовством в XVII в., однако, например, К. Воробец анализирует украинские процессы более позднего времени. Для работ Р. Згуты и К. Воробец характерен тендерный подход к изучению колдовства, и их внимание привлекают различия в тендерном составе обвиняемых в колдовстве в России и в Западной Европе. Последним крупным исследование о русском колдовстве стала недавно вышедшая книга У. Райана (Rayn 1999), которая представляет собой обзор форм магических действий с IX по XIX вв. Автор уделяет не слишком много внимания социальному контексту магических представлений и месту магии в традиционной картине мира, но для нашей темы интерес представляет последняя глава книги "Магия, Церковь, Закон и Государство" (Там же 408-433), в которой автор анализирует 23 следственных дела (из собрания Н.Я. Новомбергского), приходя к
выводу о том, что Россия не избежала большой "охоты на ведьм", в которую была вовлечена Западная Европа .
О том, что интерес к изучению материалов колдовских процессов в последнее время остается высоким, свидетельствует проведение в декабре 2000 г. в Англии международной конференции "Что стоит за ведовскими процессами" ("Beyond the Witchcraft Trials"). На конференции, в частности, обсуждались следующие темы: отношение односельчан к людям, обвиненным в колдовстве и вернувшимся после процесса в деревню; отношение элиты общества к тем, кого официальная культура объявляла "суеверными" и постепенное превращение концепта "магии" в ироническую характристику (Линда Ойя); властные и иерархические отношения в деревенском сообществе, когда обвинение в ведовстве было способом перевернуть устоявшуюся социальную иерархию (Райза Той-во); специфика ведовских процессов в условиях, когда для светской и церковной властей преследование колдовства не было главной проблемой (такая ситуация имела место, например в Шотландии) (Петер Максвелл-Стюарт); тендерные различия договоров с дьяволом в Швеции в период тридцатилетней войны (Сойли-Мария Эклунд) (отчет о конференции см.: Stark-Arola 2000).
Завершая данный обзор, следует отметить, что в большинстве случаев исследователей русских колдовских процессов привлекали дела конца XVII в. и петровского времени. Последнее вполне объяснимо, поскольку источники данного времени наиболее ярко иллюстрируют резкое противоречие между государственной политикой и нормами официальной культуры, с одной стороны, и религиозностью подавляющей части населения — с другой. Материалы второй половины XVIII в. за редким исключением не опубликованы и не известны ши-
2 Данный вывод не нов ни в русской, ни западной историографии (ср., Новомбергский 1907), однако нуждается в корректировке. Жестокие наказания за колдовство действительно имели место в конце XVII первой трети XVIII в., но даже для этого периода русской истории преследование колдовства оставалось менее актуальным, чем "охота на ведьм" дл Западной Европы. При привлечении большего количества дел несоизмеримость "русского случая" и западно-европейской "охоты на ведьм" становится очевидной (см. об этом Лавров 2000:12-13).
рокому кругу ученых. На данный момент не существует ни одной крупной работы, которая была бы посвящена изучению "волшебных дел" второй половины XVIII в.
Источники
Источниками для нашей работы стали, с одной стороны, официальные документы, выражающие позицию светской власти, Церкви и высших слоев российского общества относительно колдовства, а с другой — судебно-следственные дела.
К первой группе источников относятся законодательные акты, касающиеся колдовства, изданные на протяжении XVIII в. (указы, распоряжения, уставы и регламенты), церковные постановления, затрагивающие данную тему и актуальные в исследуемый период, а также ряд светских литературных сочинений и публицистических изданий, в которых упоминается колдовство и колдуны и которые должны были формировать общественное мнение по этому вопросу. В качестве изданий, содержащих законодательный материал, можно назвать "Полное собрание законов Российской Империи", "Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской Империи", "Книгу правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец". В качестве источников, иллюстрирующих общественное (не законодательное) обсуждение интересующего нас вопроса, можно упомянуть многочисленные публицистические издания второй половины XVIII в. Важным источником являются издававшиеся в 1770-1790 гг. "Оракулы", "Сонники", "Новейшие способы гаданий" и т.п. (полный список данных изданий см. в Приложении 1).
Вторую группу источников, основную для нашего исследования составляют архивные документы — "волшебные дела". "Волшебные дела" входят в
типологический ряд "следствий по духовным делам" , включающий в себя дела о "расколе", богохульствах, ложных чудесах, "несвидетельствованных" мощах, различных "суевериях" (почитание местных святынь - колодцев, камней, родников, о юродивых, кликушах и т.п.). Объединить все эти дела в единый ряд позволяет тот факт, что все они являются результатом давления регулярного государства, стремящегося облечь повседневную религиозность в формы нового благочестия.
Определенную проблему представляет собой выделение волшебных дел из общего массива "следствий по духовным делам". Волшебным делом в строгом смысле слова должно считаться то, которое возбуждено по доносу с обвинением в волшебстве, и где в приговоре человек осуждается за занятие волшебством. Однако ситуация в России второй половины XVIII в. несколько сложнее: зачастую человек, обвиненный в волшебстве, осуждается за какое-то иное преступление (суеверие, мошенничество, незаконное лечение); более того, возможны случаи, когда обвиняемый оправдывается, а доносчик, напротив, сам подвергается суду (такая ситуация имеет место в делах, начатых по доносам кликуш). Нечеткость юридического языка XVIII в., в особенности в применении к духовным следствиям, также создает сложности. Так, "богопротивными поступками" могло быть названо как колдовство — практики магического характера, так и "богохульство" (которое могло быть, а могло и не быть связано с колдовством) или "раскол" (понятие "раскол" покрывало всю сферу альтернативной религиозности, а не только старообрядчество); слово "противоцерковный" могло применяться по отношению как к заговорам, так и к "раскольническим тетрадям".
Нельзя исключать, что важный для нашего исследования материал о повседневных практиках магического характера могут дать дела, ни название, ни
3 Формулировку впервые предложила Е.Б. Смилянская (Смилянская 1987).
приговор которых не содержат слова "волшебство". Таковы, например, дела из фондов врачебных и ветеринарных отделений губернских правлений и врачебных управ "о тайном лечении", "об освидетельствовании подозрительного вещества" или же донесения епископов и духовных консисторий "об обнаружении суеверий в епархиях".
В данной работе мы опираемся на корпус следственных дел, обнаруженных нами в ходе архивной работы в Российском Государственном архиве Древних Актов (далее РГАДА), Российском Государственном Историческом архиве (далее РГИА), Государственном архиве Псковской области (далее ГАПО) и Государственном архиве Архангельской области (далее ГААО). Вслед за Е.Б. Смилянской и А.С. Лавровым мы, прежде всего, остановились на фондах центральных учреждений, разбиравших дела о "волшебствах", таких как Преображенский приказ и Тайная канцелярия (РГАДА фонд 7), Сыскной приказ (РГАДА фонд 372) и Синод (РГИА фонд 796). Правомерность подобного подхода объясняется как лучшей сохранностью данных фондов, так и сравнительной репрезентативностью хранящихся в них документов (в центральные учреждения поступали дела изо всех губерний и епархий страны). Однако мы посчитали необходимым выйти за рамки центральных учреждений и обратиться к делам местных архивов, практически не введенным в научных оборот, полагая, что подобный подход позволит получить более полные материалы (до центральных учреждений зачастую доходили лишь "экстракты" - краткие пересказы дел, из которых исключены многие могущие заинтересовать этнографа подробности). Этими соображениями объясняется привлечение корпуса дел из ГАПО и ГААО. Кроме того, мы проанализировали дела Московской конторы тайных дел ( РГАДА фонд 349), Московской Синодальной конторы (РГАДА фонд 1183), Владимирской провинциальной канцелярии (РГАДА фонд 423) и Тамбовской провинциальной канцелярии (РГАДА фонд 447).
В нашем распоряжении имеется 127 волшебных дел за период 1741 - 1801 гг.4 Данную подборку можно считать достаточно репрезентативной (для сравнения: А.С. Лавров за предшествующий период 1700-1740 гг. насчитывает 103 дела о волшебстве (Лавров 2000:365)). Мы ставили целью обработать не случайную выборку, а весь массив однородных дел, отложившихся в фонде того или иного учреждения за период 1741-1801 гг., следуя в этом за А.С. Лавровым, который справедливо пишет: "принципиальным является исследование каждого дела в рамках определенного ряда — других дел о колдовстве, о ложных чудесах или о кликушестве ... в противном случае дело просто невозможно прокомментировать, а все оценки носят вкусовой характер" (Лавров 2000:35). Анализ большого массива однотипных источников важен при изучении верований еще и потому, что мы сталкиваемся с проблемой отделения общих стереотипов от индивидуальных убеждений, фантазий и т.п. (о существовании подобных индивидуальных систем, не становящихся достоянием традиционной культуры см., например, Гинзбург 2000). Только анализ таких рядов дел позволяет отделить типичное от необычного, общее от индивидуального.
В состав дела входят донос, листы допросов, материалы повального розыска и очных ставок, списки вещественных доказательств, выписки из законодательных памятников, подходящих для решения дела, материалы переписки суда с другими инстанциями.
Дело начинается с доноса ("доношения") частного лица или того учреждения, которое ранее расследовало дело. Чаще нам приходится иметь дело с "экстрактами" из инстанции более низкого уровня, чем собственноручными доносами частных лиц, но в любом, случае донос или экстракт позволяет полу-
Общий список архивных источников несколько больше именно в силу оговоренной выше сложности. Мы включаем в него, наряду с "волшебными" делами, "не волшебные", но содержащие интересующий нас материал (дела врачебных управ, доношения о суевериях) и в ряде случаев позволяем себе нарушать хронологические рамки, привлекая в качестве сравнительного материала дела как более раннего, так и более позднего времени.
чить информацию о доносчике и его стереотипных представлениях, связанных с областью магического.
Листы допросов ("роспрос" или "пыточные речи", в случае, если при расследовании применялась пытка) вместе с примыкающими к ним материалами очных ставок и повальных розысков составляют основной объем дела. "Роспросы" второй половины XVIII в. достаточно подробны и позволяют получить информацию о представшем перед судом человеке (его родителях, возрасте, конфессиональной принадлежности, грамотности, многих чертах его повседневной жизни). Важную информацию предоставляют списки "подозрительных вещей" — вещественных доказательств, обнаруженных при обвиняемом или в его доме во время обыска. Именно в таких описях мы обнаруживаем списки названий, а нередко и тексты "отреченной" литературы (апокрифов, астрологических предсказаний), копии "волшебных тетрадок" и "писем" (заговоров), травников, набор предметов и веществ, с которыми были связаны волшебные коннотации и т.п. Все это, наряду с почти полным отсутствием для XVIII в. иных источников по повседневным религиозно-магическим практикам и верованиям, делает массовый архивный материал крайне важным и актуальным.
Именно листы допросов являются нашим основным источником для изучения магической повседневности XVIII века, но при использовании подобного рода материалов необходимо помнить, что мы имеем дело с записью, созданной в условиях заведомо неравной коммуникации. Вопрос о том, чей текст (носителей интересующих нас практик или судей, репрезентирующих нормативные установки господствующей культуры) мы читаем в допросе, неоднократно поднимался в научной литературе (см., например, Ginzburg 1994; Гинзбург 1990; Гуревич 1987). Работая со следственными делами в материалах допросов сложно разделить "реплики" сторон. А.С. Лавров, описывая аналогичные источники, справедливо пишет: "порой в показания допрашиваемых попадали целые абза-
цы чуждого им текста" и далее — "порой следствие просто представляло в виде стандартных формулировок отрывочные высказывания, междометия и, наверное, даже молчание допрашиваемых" (Лавров 2000:30). Проблематичность использования подобного типа источников для изучения этнографических реалий отдаленной от нас эпохи достаточно очевидна: в следственных документах мы получаем описание одной культуры на языке другой (на "чужом языке", сквозь призму чуждых ей понятий). Так, мы регулярно встречаем в текстах допросов "раскольник" вместо употреблявшегося самими допрашиваемыми "старовер", а "суеверие", "суеверный" фактически являются основными понятиями, посредством которых официальная культура XVIII в. описывает всю обширную сферу повседневных религиозно-магических практик и верований.
Тем не менее мы полагаем возможным использовать следственные дела в качестве этнографического источника5. В материалах доносов и допросных речей мы имеем дело не столько с описаниями реально совершаемых действий (хотя и такой вариант не исключен), сколько с областью стереотипных представлений и верований, и именно эта область является для нас объектом изучения. Значимым для нас является тот факт, что доносчики полагали правдоподобным совершение тех или иных действий, произнесение тех или иных слов и возможность тех или иных последствий, а не то, происходило ли все это в действительности. В этом смысле донос (в том числе ложный, клеветнический) в полной мере может быть нашим источником, и при подобном подходе действительно "любой донос (или любое доказанное обвинение) имеет под собой почву" (Лавров 2000:32). Для исследователя верований индивидуальные "истории" допрашиваемых (термин, предложенный Натали Земон Дэвис, см. Davis 1987), при всей невозможности свести их в общую непротиворечивую историю и при
Дискуссия о сопоставлении следственных дел с этнографическими интервью показала, что подобные метафоры могут быть плодотворными как для антропологов, так и для историков (см., например, Гинзбург 1994; Пан-ченко 2000).
всех элементах "fiction", в них содержащихся, гораздо важнее, чем "версия следствия".
Работая с материалами судопроизводства, мы сталкиваемся с проблемой того, кому принадлежат изучаемые стереотипы — представшим перед судом людям или же самим судьям, т.е. не являются ли они принадлежностью господствующей культуры, и не объясняется ли высокая повторяемость ответов тем, что в условиях неравной коммуникации они навязываются сверху. Возможность такого положения дел хорошо показана в работах, проведенных на материале западноевропейских ведовских процессов: клишированные ответы обвиняемых, полученные в большинстве случаев под пыткой, отражают как раз представления "ученой культуры" о ведьмах и колдовстве. Так, Карло Гинзбург пишет: "наводящие вопросы особенно очевидны в допросах инквизиторов, касающихся шабаша ведьм, который по мнению демонологов и есть сама суть колдовства. В таких случаях обвиняемые отражают, более или менее произвольно, стереотипы инквизиторов, которые распространялись по Европе проповедниками, теологами и юристами" и далее: "ответы обвиняемых довольно часто были просто эхом, вторившим вопросам инквизиторов" (Ginzburg 1994).
В случае с русскими "волшебными делами" второй половины XVIII в., однако, можно говорить о стереотипных представлениях именно носителей практик. В определенной мере мы можем доверять речам подследственных. Допрос по волшебным делам в России, несмотря на всю тяжесть "первого свидания с регулярным государством" (Лавров 2000:29), проходил все же под гораздо меньшим прессом, чем в инквизиционных судах Западной Европы (подробнее мы рассматриваем данную проблематику в разделе "Власть и носитель практик"). Важно, что большая часть признаний получена без применения пытки: последняя была исключена в расследованиях, проводившихся Синодом и совестными судами. Допросные речи, по сравнению с западно-европейским мате-
риалом, менее клишированы и в качестве этнографического источника вызывают большее доверие6.
Аргументом в пользу того, что в текстах доносов и допросных речей мы имеем дело с "внутренней" позицией, может также служить разница между доносом и приговором. Мы уже упоминали выше, что довольно часто судьи интерпретировали действия обвиняемого не так, как это делал доносчик, и человек, обвиненный в волшебстве, мог быть осужден за иное преступление.
Материалы очных ставок и повального розыска примыкают к допросным листам. Эти процедуры применялись в тех случаях, когда в показаниях наблюдались несовпадения ("разноречие"). При очной ставке проводились второй и третий допросы, иногда с применением пытки (тогда верили словам того, кто ни разу не изменил свои показания). При повальном розыске полагалось верить тому из "разноречащих", о ком все или большая часть опрошенных в повальном розыске отзывались положительно. Материалы "повального розыска" содержат текст присяги и краткую запись показаний свидетелей о поведении подследственного. Будучи свидетельскими показаниями соседей обвиняемого, материалы повального розыска могут в какой-то мере прояснить социально-психологический климат (см., например, показания крестьян в деле Акилины Пантелеевой (ГАПО. Ф.105. Оп.2. Д.305. Л.16-18об.), в котором становилось возможным обвинение в колдовстве и демонстрировать как стереотипные представления о колдуне, так и отношение к магическим практикам рядового населения империи.
Кроме вышеперечисленных документов, в составе дела имеются специально подобранные указы и постановления, исходя из положений которых
6 Самым клишированным является дело об устюжских чародеях, обвиняемые по которому прошли четыре допроса в инстанциях разного уровня с применением пытки. Показания настолько однотипны, что заставляют вспомнить западно-европейские аналоги, но и в данном случае приходиться говорить о верованиях крестьянской общины, под давлением которой были первоначально "выбиты" признания в колдовстве и порче (которые затем только подтверждались в судах из-за "боязни разноречия"), а не о давлении "господствующей культуры".
должно было приниматься решение по делу (страницы, озаглавленные "на справку"). На их основании мы можем судить о том, как в реальности работала система, описанная в законодательных памятниках, какие акты служили для принятия реальных решений, а какие оставались только декларируемой нормой, и как эта система изменялась во времени. Характерным примером здесь может служить постоянное вынесение "на справку" норм петровского и аннинского законодательства (предусматривавших смертную казнь за колдовство) вплоть до 90-х гг. XVIII в. (см., например, ГАПО. Ф.105.Оп.2.№305.Л.ЗЗ), при полном отсутствии смертных приговоров после 1736 года7.
Довольно запутанная бюрократическая система XVIII в. порождала еще один вид документов — материалы переписки суда с другими инстанциями: "предложения", "доношения", "требования", рапорты о получении и исполнении указов (о системе государственных учреждений Российской империи см., например, Латкин 1887; 1899; Чернов 1960). Такие материалы могут не только рисовать картину судопроизводства, но и служить иллюстрацией столкновения различных позиций по вопросу о колдовстве (ярким примером этого является дело об устюжских чародеях (РГИА. Ф. 796 Оп. 49 № 355), см. об этом деле ниже, разделы Церковь и колдовство, Предметы личного благочестия... и Власть и носитель практик).
Согласно нормам петровского законодательства (ПСЗ. T.IV. №1818; ПСПР. Т.П. №532), волшебные дела (наряду с богохульными, еретическими и раскольничьими) принадлежали к ведению Синода, который был судом высшей инстанции. В Синод передавались донесения и материалы следствий, проведенных в низших инстанциях духовного ведомства (духовных правлениях и консисториях, епископских и монастырских канцеляриях). Но синодальный суд не был единственным и, тем более, независимым от светского государства судом
7 Последней известной в русской истории смертной казнью за колдовство стало сожжение в 1736 году в Сим-
по "делам веры". Духовные дела существовали на пересечении государственной и церковной юрисдикции. Светская политическая система сыска, обладая чрезвычайными полномочиями, могла дублировать и подменять синодальную, поэтому большое количество дел отложилось в архивах Преображенского и Сыскного приказов. На местах, где непосредственно подавались доносы и проходили первые разбирательства, волшебные дела часто расследовались в светских учреждениях (нижних и верхних земских судах, воеводских канцеляриях, магистратах, провинциальных и губернских канцеляриях), откуда их могли передать наверх по линии светского или духовного следствия или решить на местах. В последнем случае их следует искать в фондах местных архивов. С 1775 года в России появляется новое местное судебное учреждение, в ведение которого поступают волшебные дела — совестные суды, что, впрочем, не отменило существовавшую систему синодального расследования.
Необходимо отметить неполноту многих дел, особенно синодального и местного производства. По окончании расследования и вынесении приговора (или, в случае синодального следствия, — менее обязательного к исполнению "мнения") человек передавался для наказания в другую инстанцию (в Юстиц-Коллегию или, по месту жительства и согласно с его социальным положением, в земский суд, полковую канцелярию, магистрат и т.п.). Из-за таких особенностей российского судопроизводства XVIII в. отыскать начало или конец большинства дел трудно, а подчас невозможно8.
Хронологические рамки работы
Выбор хронологических рамок нашей работы требует пояснения. Столь точное установление временных рамок, особенно в исследованиях, посвященных области верований, не может не быть условным. Эти даты обозначают пе-
бирске Якова Ярова (РГИА. Ф.796. Оп. 21. №328). См. также Сапожников 1886.
В нашем распоряжении имеется ряд дел-комплексов (дубликаты или разные стадии расследования дела, отложившиеся в разных фондах и архивах). При всех подсчетах мы принимаем такие комплексы за одно дело.
риод, к которому принадлежат наши архивные источники. Дела, вошедшие в нашу подборку, являются прямым продолжением "первичного ряда" дел о колдовстве, проанализированных А.С. Лавровым, чье исследование заканчивается как раз на 1740 году.
Помимо этой формальной причины, существуют действительные основания для выделения такого хронологического отрезка. 1741 г. — это начало царствования Елизаветы, момент, с которого можно отсчитывать новую эпоху в религиозной политике российского государства. Как мы постараемся показать, во второй половине XVIII в. пресс государства, со времени петровской реформы активно проводившего политику нового благочестия, ослабел, власть постепенно стала терять интерес к данной проблеме, и к XIX в. волшебные дела перешли в область курьезов. Не соглашаясь с тем, что с начала 1740-х гг. из источников исчезают "интересные подробности о "народном православии"" (Лавров 2000:5), мы должны отметить, что картина, рисуемая источниками в обозначенных нами хронологических рамках, отличается от той, которую мы встречаем в аналогичных делах предыдущего времени. Так, исчезают смертные приговоры за волшебство, к 1760-м гг. волшебные дела исключаются из сферы политического сыска, заметные изменения претерпевает официальный взгляд на волшебство, к концу XVIII в. резко уменьшается количество возникающих волшебных дел, зато появляются дела "о незаконном лечении" и т.п.
А.С. Лавров пишет: "перед нами определенный тренд, начавшийся в 1666 г. и исчерпанный к 1741 г.", мы можем сказать, что с 1740-х гг. начинается новый тренд, который, по видимому, оказывается исчерпанным к концу XVIII в. Таким образом, колдовские процессы 1741-1801 гг. могут и должны быть рассматриваемы в более широком контексте. Их специфика выявляется на фоне материалов предшествующего и последующего времени. Если первые проанализированы А.С. Лавровым (и мы довольно часто будем обращаться к его рабо-
те в нашем исследовании), то относительно судебного преследования колдовства в XIX в. следует сказать несколько слов.
Мы не ставили себе целью детально проанализировать феномен колдовского процесса в XIX в.: это требует привлечения многих дополнительных источников и может служить темой отдельной работы. Тем не менее, на основании ряда дел, обнаруженных нами в синодальном фонде РГИА (список дел см. в Приложении 2), можно сделать ряд общих замечаний. Если в XVIII в. волшебство было предметом серьезного судебного разбирательства, хотя к концу века власть и начала бороться не столько с волшебством, сколько с верой в него (см. об этом главу Колдовство в официальном дискурсе), то в XIX в. волшебные дела представляют собой скорее курьез. Власть окончательно теряет интерес к проблеме колдовства, в ее задачи входит пресечение обмана, шарлатанства, мошенничества. Тот факт, что подобные преступления порождались невежеством и суеверием, со временем стал рассматриваться как смягчающее обстоятельство, (ср. ст. 49 уголовного уложения: "покушение учинить преступное деяние очевидно негодным средством, избранным по крайнему невежеству или суеверию не наказуемо" (Левенстим 1906: 334-335)). Проблема колдовства постепенно уходит в сферу интересов общественных деятелей и ученых, сначала юристов, затем — филологов, историков, этнографов.
В XIX в. волшебные дела исчезают или трансформируются. За сорок лет XIX в. в фонде Синода обнаружено всего 9 дел (для сравнения: за 1740-1800 — 44 дела), которые отделены друг от друга неравномерными большими промежутками времени. Можно предположить, что для XIX в. "бывшие" колдовские процессы следует искать в делах о мошенничестве, шарлатанском лечении, разрытии могил, пресечении самосудов крестьян и т.п., именно сюда должно будет попадать то этнографическое наполнение, которое в XVIII в. мы находим в волшебных делах.
В свете всего вышесказанного 1801 г. как формальный конец века, ставший первым годом Александровского царствования (и, между прочим, годом отмены пыток как актуального средства расследования) представляется нам оправданной верхней границей нашего исследования.
Светская власть и колдовство (колдовство в законодательных актах Российской Империи)
Следует отметить, что количество законодательных актов, посвященных колдовству, в XVIII в. невелико. Тем не менее, обращает на себя внимание постоянство, с которым власть возвращается к данной проблеме. Ни одно длительное царствование XVIII в. (петровское, аннинское, елизаветинское и екатерининское) не обошлось в своем законодательстве без рассмотрения вопроса о колдовстве.
Действующими юридическими актами, регулирующими данную проблему, являлись следующие: Устав Воинский 1716 года и Морской Устав 1720 года, два именных указа Анны Иоанновны 25 мая 1731 года и 25 ноября 1737 гда9, Сенатский указ от 14 марта 1770 года, статья 399 Учреждения для управления Губерний Всероссийской Империи 1775 г. и три статьи в Уставе Благочиния 1782 года. Кроме них, существовало еще два документа, которые показательны для изменения характера юридического дискурса, но которые не были собственно действующими законами — это Проект нового уложения 1754 года и Наказ Екатерины II Комиссии по составлению Нового Уложения 1767 года.
Конечно, приведенными здесь документами не исчерпывается весь набор подобных актов. Колдовские процессы — принадлежность не только XVIII столетия, но и более ранних веков. Законодательные акты по вопросу о колдовстве существовали и раньше10, но мы затронем лишь вышеперечисленные правительственные распоряжения, поскольку именно они составляют юридическую основу колдовских дел второй половины XVIII в. Нам представляется логичным начинать описание законодательных инициатив государства с петровского царствования: именно тогда обозначилась "новая политика" власти по отношению к народной религиозности, характеризующая все XVIII столетие. Задачей государства (и Церкви, как подчиненного государству ведомства) в рамках "новой политики" было упорядочить "нерегулярную", изменчивую сферу народной религиозности, определить и зафиксировать нормативные образцы поведения и запретить все противоречащее образцу. В царствование Петра I был издан целый ряд законодательных актов, призванных регулировать религиозную жизнь подданных11. Многие практики и верования, которые были существенной составляющей народной религиозности, были запрещены. Не избежали пристального внимания власти многие чтимые ранее святыни, чудотворные иконы, мощи, практика подаяния милостыни, привычка приносить к иконам вотивные изображения и т.п. Подверглись преследованию и многочисленные практики, порожденные верой в возможность магического воздействия.
Здесь уместно отметить, что господствующим концептом, который применялся "культурой верхов" для описания народной религиозности, служило "суеверие". Е.Б. Смилянская справедливо пишет: "в религиозной и культурной истории России века Просвещения борьба с "суеверием", насмешка над "суеверием", бичевание "суеверия" занимают весьма примечательное место. Отношение к суевериям...опрделяло религизную политику властей в течении всего XVIII столетия" (Смилянская 2001:219). О том же пишет в своем диссир-тационном исследовании Т.Е. Абрамзон: "вся эпоха Просвещения проходит под знаком борьбы с "суевериями". Данное понятие становится одним из самых употребимых и в художественной литературе, и в публицистике, и в исторических документах этого времени. Оно являлось своеобразным символом невежества старой России" (Абрамзон 1998:9). Об истории появления термина "суеверие" в России как заимствованного из польской традиции superstitio см. Смилянская 2002 (Ь); 2002 (с). Суеверие понималось, прежде всего, как ложное благочестие, покрывающее невежество и корысть: "Заградили суеверы мерские уста свои и безсильный яд в скаредных своих серцах заключили. Полезно было падение суеверов [...] падением (этим) возсияло благочестие в полной истинне, и стрелы, ненасытныя злобы, покрывающиеся именем ревности к православию, притупилися, сии стрелы защищающия невежество, корысть тунеядцов, легкомыслие тщетных людей, сии стрелы устремляющиеся против свободы разума и совести, противу благополучия подданых и против законной власти обладателей" ("Слово похвальное о государе императоре Петре Великом".Трудолюбивая пчела, 1759 584-585). Обратим внимание на то, с чем соседствует суеверие: мы встречаем здесь "невежество", "корысть", "легкомыслие", известные и по юридическому дискурсу. В указе 1737 г. для характеристики поведения "суеверцев" избираются слова "притворность", "шалость" (надо иметь в виду, что одним из значений, которыми обладало слово "шалость" в XVIII веке было "дурачество, глупость вредная и непристойная" (см., например, Словарь... Т.6. 1794: 849)), "обманство", "противные закону и совести продерзости", "притворства ... безобразия и соблазны" (ПСЗ. Т. X. № 7450.).
Магические практики должны были бы попадать в сферу суеверий, однако, несмотря на то, что запреты волшебства и "суеверий" начиная с петровского времени идут рука об руку, до определенного времени волшебство не растворяется в общей сфере "суеверий". И в петровское, и в аннинское царствование в законодательном дискурсе существует две линии преследования — суеверий вообще и волшебства в частности. Так, Регламент Духовный говорит о "суевериях" вообще, а Устав Воинский и Морской Устав — о "чародействе и чернокнижестве"; указ 1737 г. посвящен суевериям, а указ 1731 г. — отдельно говорит о "волшебстве" и "волшебниках".
Можно выделить две тенденции, которые остаются характерными для российского законодательного дискурса на протяжении всего XVIII века, да и впоследствии не утрачивают актуальности. Это, во-первых, аккультурационная тенденция, во-вторых, - тенденция к рационализации, которые проявляются, прежде всего, на уровне риторики законодательных актов. Ко времени царствования Екатерины II одинаковые риторические приемы будут использоваться в рассуждениях и о суеверии, и о колдовстве, которое как бы перейдет в область суеверий, станет одним из многочисленных заблуждений "простого народа".
Травы и коренья. Волшебство, отравление, медицина
Область смыслов, связанных с травами и корешками и для носителей практик, и для судей была широка и включала в себя "волшебство", "отравы", "медицинские средства" и пр. Показания сестер Архиповых демонстрируют характерную для "народной культуры" многофункциональность: "травы и коренья служат некоторые для лечения другие для украшения третьи для предотвращения несчастий (РГИА.Ф.796. Оп. ЗО. Д.375. Л. 10); тексты травников также показывают, что одна и та же трава могла использоваться как для лечения, так и для достижения магических целей, причем эффекта можно было достичь как принятием внутрь, так и простым обладанием травой (ср. Приложение 6, ср. также публикации травников: Змеев, 1895; Книга глаголемая Прохладный вертоград, 1997). Более или менее явный ореол волшебного, по-видимому, окружал любой корешок или траву: "да присланы с ним из приказной избы вынятые у него Жукова в кармане два иверешка (лоскутка. - Т.М.) малых и оные де называются трава плакун которые ему Жукову...дал попов сын Никифор Семенов... и... сказывал про ту траву немалое волшебство" (РГИА.Ф. 796. Оп.22. Д. 417.Л.З.).
Мы писали выше, что ко второй половине XVIII в. в господствующей культуре произошло разделение порчи и отравления (до определенного времени бывших синонимичными понятиями), в результате которого отравление стало рациональным эквивалентом порчи. Это убеждение, однако, не сразу проникло в умы подданных Российской Империи, в том числе и тех, кто должен был быть его проводниками - судей. Ореол волшебного продолжал в глазах сотрудников судебных инстанций окружать пучки трав и корешки49. В 1765 г. местные власти прибегли к обыску в доме обвинявшегося в имении "приговорного письма" священника Василия Алексеева, результаты которого были описаны следующим образом: "в доме попа во всех местах осматривали и по тому осмотру в разных местах найдено ноздреватый камень на котором камне видимо между ноздринок подобие креста скляница железная в которой положено неведомо какое сочинительное снадобье один мешочек небольшой неведомо какой травою завязаной. Да разных цветов, трав и кореньев завязаных в разных узелочках узелочков с дватцать и больше пузыречек маленькой завязанной неведомо с какой надобностью канонник заупокойный старонаречной" (РГИА.Ф. 796. Оп.46. Д.358. Л.5.). Набор предметов, попавших в поле зрения судебных приставов, вообще показателен: подозрительным было сочтено все хранившееся в "узелочках" и "пузыречках"50, предмет, назначение которого было неясно и возможно склонялось к "суеверию" (камень с крестом) и изданная до реформы 1653 г. книга. В итоге разбирательства, однако, священник был оправдан, а среди прочих наказанных оказались приставы проводившие в его доме обыск — за то, что "белила румяна инбирь и дикой перец астраханский яко предметы к волшебству несклонные объявили волшебными" (Там же. Л.7).
Складывается впечатление, что редкий человек не носил с собой "корешки", настолько часто их находят при обыске случайно задержанных людей: "в московскую полицыю из 11 команды при репорте прислан купец Сергей Исаев и при нем в четырех бумашках не знаємо какие коренья да в трех бумаш ках незнаемо какие толченые снадобья кремень да нож"51 (РГАДА.Ф.372.0п.1.Д.1937. Л.1.). У Ивана Иконникова монастырского крестьянина, который содежался в Тайной конторе "по слову и делу" в подушке было обнаружено "фальшивые паспорты воровская печать травы и коренья" (РГАДА.Ф.7.0п.1. Д. 1612. Л.1-1об.). У лакея И.А.Голицына Федора Струнина в ларце хозяин обнаружил "в мешочке в узлу незнаемо какие коренья" (РГАДА. Ф.372. Оп.І.Д.5928. Л.1.) Корешки были найдены при солдатке Улите Леонтьевой, задержанной "в краже епанчи", причем она объясняла, что "имеющийся при ней корень называемый калган купила на площади не знамо у кого от болезни, а ярого воску два кусочка взяла года с два назад у дьячка церкви Антипия Чудотворца у Арбатский ворот от зубной болезни" (РГАДА. Ф.372.Оп.1.Д.2775. Л.5об.).
Для провинциального дворянства любой найденный в усадьбе корешок означал какие-либо происки дворни52, причем в текстах доносов встречается как "отрава", так и "волшебство" и иногда доносчик недостаточно различает их. "У крепостной моей дворовой девки Ульяны Сергеевой которая находилась во услужении при доме моем служащею ж девкою Анною Сергеевой дочерью усмотрено и вынуто у нее Ульяны некакие три корня о которых я сумневаюсь не ядовитые ли, того ради с теми кореньями оную девку при сем моем челобитье для роспросу в сыскной приказ предъявляю" (РГАДА. Ф.372.Оп.1.Д.3940. Л.1. Донос графа Ф.А. Апраксина). И "волшебство" и "отравление" присутствуют в деле дворового Ильи Казакова, которое озаглавлено "для следствия о волшебной траве", на справку был вынесен только указ 1731 г. о волшебниках, но по ходу дела задавался и вопрос об отравлении, на что Казаков ответил, что "отравить его (приказчика. - Т.М.) намерения не было" (РГАДА. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1855. Л. 14). Показательна формулировка нижнего земского суда, куда обратился помещик Григорий Полибин, по делу о трех своих крепостных: "сих женщин подозревает в отравлении ево и жену волшебным ядом т.е. колдовстве" (ГАПО. Ф. 105. Оп. 2. Д. 322. Л. 1.). Дело Полибина хорошо показывает "неразбириху" с "волшебством" и "отравлением", которая продолжалась до самого конца XVIII в. На основании употребления Полибиным слова "волшебный" земский суд передал это дело в совестной. Замечательно, что совестной суд, в свою очередь, отослал дело обратно, на том основании, что "совестному суду препоручаются дела колдунов ... а не отрав ядом в каковом преступлении есть совершенное зло ... а хотя помещик Полибин называет его волшебным; но совестной суд несомненно полагает что яд без всякого волшебства сам по себе действие имеет" (Там же. ЛЛбоб.).
Стереотипные волшебные действия
Среди действий, которые опознаются как "волшебные", на первом месте стоит "шептание" (наговаривание) — произнесение "слов" над предметом или веществом шепотом, не вслух. Точно также как письменный текст стоит первым в ряду подозрительных предметов, "шепты" стоят первыми в ряду действий, маркирующих "волшебника". Характерно, что именно "шептание" появляется как признак "волшебства" в тех случаях, когда человек вынужден показать что-нибудь о волшебстве, но не имеет конкретного случая, как, например, в ложных доносах. Упоминание "шептания" или "наговоренных" предметов и веществ в делах достаточно многочисленны. Например: "оный ево господин неоднократно посылывал к ... Мирону порознь дворовых своих людей Николая Федорова да Бориса Иванова и с кувшином и говаривал де он тихонько принеси де мне от Мирона воды и как...тое воду...принашивали в полату то де оной ево господин... смотря на тое воду незнаемо что шептывал и потом де тою водою умывался" (РГАДА. Ф. 372. Оп. 1. Д. 1553. Л. 1). Василису Павлову, дворовую гене-рал-майорши Елисаветы Текуевой судили "за опоение мужа своего якобы каким-то наговоренным вином по неумышленности коий от того и умре" (РГИА.Ф.796.Оп.81.Д.308.Л.1об.). Крестьянин Семен Карпов "от болезни наговаривал де на вино итем вином больное место спрыскивал. И признавается оные ево наговоры к волшебству" (РГАДА. Ф.372.Оп.1.Д.5201.Л.1.). Помещица Авдотья Яковлева доносила на своих дворовых: "дворовая моя крепостная девка Аксинья Степанова усмотря за крепостной же нашей девкою Агафьею Андреевой дочерью которая ходила за детьми моими нянею, что она со общего умысла с крепостной же нашей женкою Прасковьею Яковлевою дочерью клали в солоницу соль которая подается к нам на стол и на тое соль наговаривали волшебные слова" (РГАДА.Ф.372.0п.1.Д.684.Л.1.). Для Яковлевой наговорная соль свидетельствует, конечно, о злом умысле со стороны дворовых (именно в этой соли она видела причину своей болезни), для дворовых, однако, "волшебные коннотации" наговорной соли были иными. Обвиняемая Агафья Андреева (21 год) показывала, что "женка Прасковья Яковлева дочь...пришед к ней принесла соль в трепице и сказала...что де оная соль // наговорная а дала де ей вышепо-мянутая...женка Дарья и велела де сыпать в солонцу которая подается на стол господам и они господа будут до нее Агафьи милостивы а ее де Прасковью выдадут замуж за...крестьянина Порамона Терентьева за которого она желала замуж" (Там же. Л.2-2об.).
Такая же ситуация имеет место в деле дворовых Петра Овцына, который был убит ("застреляй из ружья") кем-то из дворни; уголовное дело расследовалось в палате местного (псковского) уголовного суда, но по ходу его выяснилось, что трое дворовых были замечены в поступках, которые относились к ведению суда совестного: "относительно дворового человека Захара Кондратьева, крестьянина Никиты Савельева и девки Агафьи Денисовой, которые в преступлении никаком другом по сему делу не оказались как только...в приеме... волшебной сажи завязанной в узелке и...в подсыпании // оной под порог господских покоев для того что господин их Овцын будто уймется от побой чинимых им крестьянам" (ГАПО. Ф.105. Оп.2. Д. 349. Л.1-1об.). Цель, с которой сажа была подсыпана под порог, оценивалась по-разному участниками дела — как попытка избавится от побоев и как попытка порчи. Относительно происхождения сажи крепостной Кондратий Денисов (брат девки Агафьи) показывал в допросах, что сажа была получена от "пришедшего в деревню их незнаемо какого прудокопа" (Там же. Л. 7об.), причем за нее была запрошена сумма в 12 рублей; прудокоп "взяв не знаємо где сажу для того же чтоб помещика извести // шептал над оною и завязал в узел отдал ему" (ГАПО. Ф.105. Оп.2. Д. 349. Л. 8об-9.).
Вообще, слова, произнесенные (подразумевалось, "нашептанные") над чем-то, практически всегда интерпретировались как "волшебные". Об этом еви но детельствует то, что, защищаясь от обвинения, люди подчеркивали, что они не шептали, а говорили вслух, и произносимые "слова" представляли как молитвы: "приходящих от болезней пользует молясь пред святыми образами говоря при том к нему пришедшим в явь а не по шептам и никаким волшебством и богу противным поступлением а что де читает предъявит в своем допросе71" (РГАДА. Ф.423. Оп. 3. Д. 576. Л.Зоб.). Действия жены священника Акилины Васильевой (она пришла в острог к находившемуся там мужу и принесла в склянке воды) вызвали подозрения в "волшебстве"; сама она отвечала следующим образом: "а в тоиде склянице вода которая обливана ею попадьею Акили-ною с светцевых железных ушек собою в доме ее в селе Спасском с приричени-ем исусовой молитвы безволшебных приговоров понеже де у оного мужа ее имеется болезнь иотнелась левая рука ... хотела ему мазать болезненную руку а что оная вода к тому леченью угодна о том слышала ... от повивальной бабки ... вдовы Анны Петровой" (РГИА.Ф.796.0п.27.Д.228.Л.1об.). Ср. также такую же защиту Мирочника (см. выше сноска 31), который "говорил только господи боже благослови отче". Крестьянин Семен Карпов вообще отрицал, что он "наговаривает", в том числе и "от святого писания": "а что де он наговаривает на травы от святаго писания ... а соль называет молебственною и показанного конюха ...от той болезни пользовал наговаривал на вино и тем вином больное место спрыскивали того ничего он ... не чинил" (РГАДА. Ф. 372. Оп. 1. Д. 5201. Л. З-Зоб.).
Семейные отношения сквозь призму колдовского процесса
Колдовские дела, начало которым положили доносы родственников друг на друга, дают нам уникальную возможность познакомиться с внутренней жизнью семьи XVIII в., повседневностью, отношениями между членами семьи, бытом, то есть, с той сферой, которая практически не затронута иными видами источников.
В общем виде семейный колдовской процесс можно описать как донос родственника с более высоким статусом на домочадца с более низким статусом, которым традиционно обладали женщины и младшие члены семьи . Если говорить о социальном положении семьи в целом, то в небольшую подборку попали и дворянские семьи, и купеческие, и посадские и семьи клириков, и крестьянские. Несмотря на принадлежность участников к различным социальным группам, семейный колдовской процесс удивительно монолитен как по составу преступления (в чем состояло колдовство), так и по стратегиям обвинения и защиты. В пяти случаях из семи обвинение состоит в том, что женщина портила или искала способ испортить мужа или иного родственника-мужчину, а защитная стратегии женщины в таких делах состоит в том, чтобы доказать, что она по совету третьего лица (матери или "знающей") пыталась волшебными способами расположить к себе домашних или заслужить любовь мужа. Заметим, что многочисленные "усадебные" процессы (помещик - дворовый) развиваются по той же схеме, что и не удивительно, учитывая типологическую близость институтов патриархальной семьи и дворянской усадьбы.
Такой расклад заслуживает внимания, особенно на фоне семейных процессов предшествующего времени (первой половины XVIII в.), когда нередкой ситуацией былидворянские бракоразводные процессы, где обвинение в волшебстве было поводом для подачи на развод. Глубинные причины бракоразводных процессов в дворянских семьях А.С. Лавров справедливо усматривает в реформах петровского царствования: "Петровская реформа (и, прежде всего, введение действительной пожизненной военной службы) создала такое давление на дворянскую семью, которого она просто не могла выдержать. Отсюда такие явления как двоеженство ... или развод, вызванный многолетним взаимным отчуждением супругов. В последнем случае обвинение в "порче" было умелым ходом, позволявшим легче преодолевать канонические препятствия на пути к разводу. Нельзя исключать и другой возможности - стремительная "вестернизация" мужской части общества не могла не привести к тому, что ее представители с опаской и брезгливостью смотрели на дворянок, обращавшихся к "ворожеям"" (Лавров 2000:336-337). Относительно последнего утверждения мы должны отметить, что оно справедливо, кажется, только для петровского времени, когда в самом деле возникла культурная пропасть между мужской и женской частью общества в дворянской среде (впрочем, и это требует поправки, поскольку вряд ли ситуация была распространена далеко за пределами столицы). Что касается материалов дел последующего времени, они не дают оснований видеть в мужской части дворянства людей иной культуры, чем их жены и домочадцы (см. об этом раздел Аккулыпурационная и демократическая конфигурации колдовского процесса).
Ко второй половине века классические бракоразводные процессы остались в прошлом. Единственным похожим делом можно считать дело Андрея Грекова, с той разницей, что участники принадлежат к столичному посаду, а не к дворянству . Обвинение в волшебстве в данном деле выглядит несколько избыточным на фоне и без того основательного обвинения в прелюбодеянии. Как кажется, оно стало результатом "самопроизвольного" признания женщины ("оная же моя жена мне при свидетелях объявила, что она со оным учеником Спиридоновым // согласясь искали такового случая, чтоб меня обволшество-вать, дабы я ей никакого уже за ее прелюбодейство наказания чинить не мог" (РГИА. Ф. 796. Оп. 22. Д.462. Л.1 - 1об.)), и было включено Грековым в челобитную на всякий случай, как дополнительный аргумент для суда. Такое включение в обвинительный акт пункта о волшебстве как еще одного доказательство крайней испорченности обвиняемой, является распространенным приемом и характерно, как мы увидим в дальнейшем, не только для семейных процессов.
Отличие дела Грекова от других дел данной группы в том, что обвинение не демонстрирует страха быть испорченным (основной коллизии как семейных, так и "усадебных" процессов), что если и не свидетельствует напрямую о принадлежности Грекова к "просвещенной части" общества, то, по крайней мере, заставляет задуматься о том, верил ли он сам в колдовство. Последнее предположение тем более убедительно, что Андрей Греков не просто был жителем столицы, но учился "рисовальному делу" при Академии Наук.