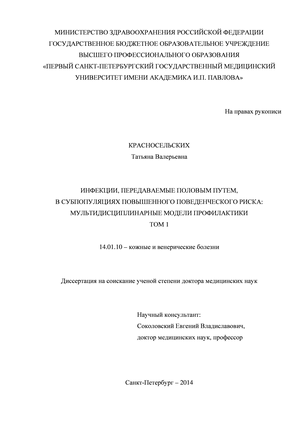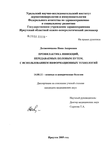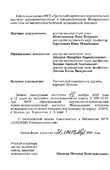Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Обзор литературы 23
1.1. Превентивные поведенческие интервенции при инфекциях, передаваемых половым путем 23
1.2. Динамическая модель распространения инфекций, передаваемых половым путем, в популяции 31
Глава 2. Материалы и методы 96
2.1. Объект исследования 96
2.2. Этапы исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков 96
Глава 3. Результаты собственных исследований 140
3.1. Результаты I этапа исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков 140
3.2. Результаты II этапа исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков 146
Глава 4. Обсуждение результатов исследования 202
4.1. Обсуждение результатов I этапа исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков 202
4.2. Резюме результатов I этапа исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков 212
Заключение 293
Выводы 299
Рекомендации 303
Перспективы дальнейшей разработки темы 305
Список сокращений и условных обозначений 306
Словарь терминов 310
Список литературы 313
Список иллюстративного материала 351
- Динамическая модель распространения инфекций, передаваемых половым путем, в популяции
- Этапы исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков
- Результаты II этапа исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков
- Резюме результатов I этапа исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков
Введение к работе
Актуальность исследования. В начале 90-х гг. ХХ века в Российской Федерации была зарегистрирована эпидемия инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), полностью не ликвидированная до настоящего времени и наиболее глубоко затронувшая социально уязвимые группы населения - потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), работников коммерческого секса, трудовых мигрантов, заключенных, лиц без определенного места жительства, беспризорных детей, подростков и др. [Кубанова А.А., 2008; 2009; 2010]. Среди представителей данных субпопуляций, склонных к рискованному поведению, но не желающих или не имеющих возможности снизить риск и получить доступ к качественной медицинской помощи, ИППП распространяются быстрее всего [Кубанова А.А., 2006; Steen R., 2009]. В России, как и в других странах, имеются лишь фрагментарные статистические данные относительно общей численности уязвимых групп [Денисов Б.П., 2004], а также о распространенности и заболеваемости ИППП среди их представителей. Последние часто не обследуются и не лечатся вообще, либо занимаются самолечением, и даже те, кто обращаются к врачам, в силу ряда объективных и субъективных причин избегают государственных лечебно-профилактических учреждений, а коммерческие клиники, частнопрактикующие врачи и многочисленные лаборатории, проводящие скрининг-диагностику ИППП, не предоставляют информацию о вновь выявленных случаях заболеваний [Потекаев Н.Н., 2013].
В конце 90-х гг. ХХ века неблагополучная эпидемическая ситуация с заболеваемостью ИППП значительно усугубилась в результате быстрого распространения инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), который раньше всего проник в группу ПИН. В настоящее время распространенность ВИЧ-инфекции среди ПИН в РФ в среднем составляет 20-35%, а в некоторых регионах она еще выше [Ширяев О.Ю., 2011]. С 1996 г. до настоящего времени рискованные инъекционные практики (использование общих нестерильных шприцев, игл и другого оборудования) являются основным способом распространения ВИЧ в нашей стране [Денисов Б.П., 2004]. В 2012 г. парентеральным путем инфицировались 56,1% вновь выявленных пациентов с известными факторами риска [Офиц. сайт Федерального Центра СПИД, 2013].
Однако с 2005 г. в РФ отмечается тенденция к постепенному переключению с преимущественно инъекционного на половой путь передачи вируса. Так, среди новых случаев ВИЧ-инфекции с установленными источниками заражения доля лиц, инфицировавшихся при гетеросексуальных контактах, возросла с 17,7% в 2002 г. до 41,9% - в 2012 г. [Офиц. сайт Федерального Центра СПИД, 2013]. Это свидетельствует о переходе эпидемии из концентрированной фазы, когда она распространялась в основном среди ПИН, в фазу генерализации [Жо-лобов В.Е., 2009]. Таким образом, сегодня в России ВИЧ-инфекция из категории преимущественно гемоконтактных инфекций (ГКИ) постепенно переходит в группу инфекций, передаваемых преимущественно половым путем. Среди всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в мире 70-85% приходятся
именно на долю полового заражения, а на инфицирование при употреблении инъекционных наркотиков (ИН) - лишь 5-10% [Доклад ЮНЕЙДС о глобальной эпидемии СПИДа, 2008; Bekker L.G., 2012; Mishra S.R., 2013], поэтому есть все основания рассматривать ее скорее как ИППП, нежели ГКИ.
В России эпидемия ИППП, в частности, ВИЧ-инфекции, как и других социально значимых болезней (вирусных гепатитов, туберкулеза), тесно ассоциирована с ростом заболеваемости наркоманией [Островский Д.В., 2005; Krupitsky E.M., 2006; Шакуров И.Г., 2010]. Субпопуляция ПИН представляет собой «ядро» эпидемии, обладающее - в силу большой распространенности рискованного инъекционного и сексуального поведения - высоким потенциалом для распространения ИППП в общую популяцию. Очевидно, что группа ПИН должна являться объектом неотложных и активных вмешательств, направленных на предупреждение ИППП. Однако объективным препятствием для их проведения является трудность установления контакта с этой социально обособленной, маргинализованной и стигматизированной субпопуляцией. Для осуществления превентивных вмешательств в группах с ускользающей мотивацией к снижению риска (ПИН, работники коммерческого секса) необходима организация специальных, предпочтительно негосударственных, центров, наркологических клиник, волонтерских программ и т.д., где есть условия для создания так называемого «пространства помощи» - реабилитационного континуума, поддерживаемого мультипрофессиональным коллективом специалистов, объединенных общим пациент-центрированным подходом [Островский Д.В., 2005]. Наиболее эффективные способы привлечения представителей замкнутых групп в подобные центры - это аутрич-работа, задействование «равных» лидеров [Прохоренков В.И., 2001; Pisani E., 2004].
В последние годы происходит активное проникновение ВИЧ-инфекции из «ядерной» группы ПИН через их сексуальных партнеров, не употребляющих наркотики (группу-«мостик»), в общую популяцию, причем важнейшим фактором, способствующим распространению вируса, является наличие сопутствующих ИППП - как сопровождающихся эрозивно-язвенными высыпаниями на гениталиях (генитальный герпес, сифилис), так и «неязвенных» (хламидиоз, гонорея, трихомониаз) [Korenromp E.L., 2005; Orroth K.K., 2006; Steen R., 2009; Burchell A.N., 2010]. Поэтому во избежание возникновения широкомасштабной эпидемии необходимо проводить энергичные мероприятия по профилактике ИППП в группе, служащей передаточным звеном инфекции, - среди лиц с рискованным сексуальным поведением, вступающих в незащищенные сексуальные контакты с несколькими партнерами, в числе которых имеются ПИН. Для работы с такими лицами лучше всего подходят кожно-венерологические диспансеры (КВД), куда они обращаются при наличии симптомов ИППП или с целью профилактического обследования, а также женские и подростковые консультации, центры помощи трудовым мигрантам и др. Целесообразно также искать контакт с ними через представителей «ядерных» групп [Steen R., 2009].
Уникальной особенностью ИППП является то, что заражение ими почти полностью определяется поведенческими факторами. ИППП служат индикато-
5 ром распространенности рискованного сексуального поведения в популяции. Наблюдающаяся в настоящее время эпидемия - это общественное явление, имеющее ярко выраженные социальные и поведенческие характеристики [Максимова С.Г. 2005; Бородкина О.И., 2008]. С учетом существенной роли поведенческих факторов в распространении ИППП, традиционный диспансерный подход к их выявлению и профилактике, преобладающий в практике работы учреждений венерологического профиля, целесообразно дополнить вмешательствами, направленными на коррекцию психологических и поведенческих аспектов рискованного поведения [Piper J.M., 2008; Marrazzo J.M., 2011].
Коррекция поведенческих отклонений - наиболее трудная область профилактики. Эта проблема носит мультидисциплинарный характер и является предметом изучения широкого круга наук - медицины, психологии, социологии, антропологии, биологии, педагогики, юриспруденции. В связи с этим, очевидно, что как разработка эффективных поведенческих превентивных программ для уязвимых групп, так и их реализация не могут быть осуществлены только силами медицинских работников и исключительно на базе медицинских учреждений [Кубанова А.А., 2000; Steen R., 2009]. В условиях сложившейся эпидемической ситуации разработка и апробация мультидисциплинарных поведенческих моделей первичной профилактики ИППП, направленных на группы населения с повышенным риском инфицирования, представляют собой важную научно-практическую проблему, требующую всестороннего изучения, что обосновывает необходимость проведения настоящего исследования.
Степень разработанности темы исследования. Направление профилактики, предполагающее осуществление вмешательств с целью коррекции поведения, приводящего к заражению ИППП, - первичная профилактика, - в нашей стране почти не разработано [Кубанова А.А., 2000; Рахматулина М.Р., 2010]. На протяжении десятилетий базовым принципом борьбы с распространением ИППП являлось своевременное выявление и этиотропная терапия уже инфицированных лиц с целью предотвращения заражения их партнеров, то есть превалировала вторичная профилактика. Превентивные мероприятия осуществлялись почти исключительно медицинскими работниками и на базе учреждений здравоохранения. Клиническое консультирование, направленное на снижение индивидуального риска заражения, было ограниченным и бессистемным. Выполнявшиеся клинико-эпидемиологические исследования, как правило, носили одномоментный (поперечный, кросс-секционный) характер, сводились к констатации ситуации с распространенностью ИППП и других социально значимых заболеваний в общей популяции и не позволяли судить об эффективности превентивных мероприятий. Как общая методология первичной профилактики, так и конкретные профилактические программы, адресованные определенным группам повышенного риска, до последнего времени практически не разрабатывались и не применялись. Почти не изучены особенности рискованного поведения представителей социально неадаптированных, маргинальных групп населения. В результате настоящее время в РФ государственные программы первичной профилактики ИППП отсутствуют.
Между тем, с 90-х годов XX века в связи с возникновением глобальной эпидемии ВИЧ-инфекции, единственный способ ограничить распространение которой - предупреждение заражения, во всем мире началось активное развитие поведенческого направления профилактики. Выполнено огромное количество научных исследований, направленных на совершенствование стратегий первичной профилактики ИППП/ГКИ, апробируются комплексные превентивные программы, сочетающие в себе биомедицинские и поведенческие компоненты [Aral S.O., 2007; Kalichman S.C., 2008; Kelly J.A., 2004; St. Lawrence J.S., 2010; Wetmore C.M., 2010]. Однако разработанные за рубежом профилактические модели не могут быть механически внедрены в практику российского здравоохранения. Они должны быть адаптированы и реализовываться в контексте социально-экономических и культурных особенностей нашей страны.
Лишь в последние несколько лет в РФ были предприняты первые попытки проведения превентивных вмешательств в уязвимых группах, финансируемые зарубежными научно-исследовательскими и благотворительными учреждениями и фондами [Somlai A.M., 2002; Aral S.O., 2005; Niccolai L.M., 2010]. Однако объективная оценка эффективности этих программ, воспроизводимости и обобщаемости их результатов не проводилась, и они остались практически незамеченными врачами-дерматовенерологами, инфекционистами, эпидемиологами, организаторами здравоохранения.
Цель исследования: научно обосновать и разработать комплексную систему первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, основанную на мультидисциплинарном поведенческом подходе, и оценить ее эффективность в субпопуляциях повышенного поведенческого риска заражения.
Задачи исследования:
-
Оценить динамику показателей распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сифилисом, вирусными гепатитами В и С и инфекцией, вызванной вирусом простого герпеса 2 типа, в группе потребителей инъекционных наркотиков, проживающих в условиях мегаполиса (Санкт-Петербурга).
-
Изучить гендерные особенности поведения, способствующего заражению инфекциями, передаваемыми половым и гемоконтактным путями, в субпопуляциях потребителей инъекционных наркотиков и пациентов венерологического отделения кожно-венерологического диспансера (ПВО).
-
Выявить особенности сексуального поведения наркопотребителей и пациентов венерологического отделения диспансера, их установки в отношении защищенного секса.
-
Оценить влияние употребления психоактивных веществ (алкоголя и наркотиков) на риск заражения ИППП в группах потребителей инъекционных наркотиков и пациентов венерологического отделения диспансера.
-
Изучить характеристики социальных сетей потребителей инъекционных наркотиков, способствующие распространению эпидемии ИППП, установки и социальные нормы, принятые в социальных сетях, оценить связь между особенностями социальных сетей и рискованностью поведения их участников.
-
Определить особенности психоэмоционального статуса наркопотребителей и пациентов венерологического отделения диспансера, влияющие на рискованность их поведения с точки зрения заражения ИППП.
-
Оценить распространенность насилия в межличностных отношениях сексуальных партнеров в группах потребителей инъекционных наркотиков и пациентов венерологического отделения диспансера и взаимосвязь между насилием и поведенческими рисками инфицирования ИППП.
-
Разработать для каждой из целевых групп исследования адресные модели профилактических поведенческих вмешательств, основанные на мульти-дисциплинарном подходе, апробировать их и оценить эффективность с точки зрения влияния на характеристики рискованного поведения, психологическое самочувствие, поведенческие установки и уровень заболеваемости ИППП; предложить практические рекомендации по организации превентивных мероприятий для учреждений и служб, оказывающих помощь представителям исследуемых субпопуляций, а также для организаторов здравоохранения.
Научная новизна исследования. Научно обосновано и практически разработано принципиально новое направление профилактики ИППП в группах повышенного риска заражения, существенно дополняющее традиционный диспансерный подход и ориентированное на коррекцию поведения, способствующего заражению.
Изучены в динамике за период с 2002 по 2009 г. преваленс-показатели основных инфекций с половым и гемоконтактным путями передачи в субпопуляции ПИН Санкт-Петербурга. Показана широкая распространенность в данной группе ВИЧ-инфекции (30,0-42,4%), гепатита В (81,0-85,2%), гепатита С (95,3-97,3%), а также рост зараженности вирусом генитального герпеса 2 типа (ВПГ-2) с 44,8 до 61,9% в период с 2005 по 2009 г.
С помощью серии когортных исследований проведено прямое измерение инциденс-показателей ИППП/ГКИ в группе ПИН. Показано увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 1,54 раза в период с 2003 по 2010 г., гепатитом В - в 1,2 раза и гепатитом С - в 2,7 раза с 2005 по 2010 г. Увеличение инциденс-показателя инфекции, вызванной ВПГ-2, в 1,8 раза с 2005 по 2010 г. является индикатором рискованности сексуального поведения ПИН.
Выявлена гендерная специфика рискованного в отношении заражения ИППП/ГКИ поведения в субпопуляциях ПИН и ПВО. Установлено, что жен-щины-ПИН подвержены более высокому риску инфицирования инъекционным путем по сравнению с мужчинами (р=0,015). В группе ПИН женщины имеют больше половых партнеров (р=0,004), чаще предоставляют сексуальные услуги за вознаграждение (р=0,008), а в группе ПВО, напротив, большее число партнеров (р=0,001), в том числе коммерческих (р<0,001), имеют мужчины.
Показано, что 58,3-64,6% ПИН отличаются рискованным сексуальным поведением, то есть подвержены двойному риску заражения ИППП/ГКИ, причем ВИЧ-инфицированные ПИН чаще применяют небезопасные сексуальные практики по сравнению с ВИЧ-негативными (р=0,001).
Установлена низкая приверженность к использованию презервативов в
8 обеих целевых группах исследования: среди ПИН никогда или нерегулярно пользовались ими со случайными партнерами 34,4%, с коммерческими - 26,7%, а в субпопуляции ПВО - 50,0 и 22,3% соответственно.
Выявлена взаимосвязь между рискованным сексуальным поведением ПИН и ПВО и избыточным употреблением ими алкоголя (р=0,024 и р<0,001 соответственно).
Установлено, что употребление психостимуляторов амфетаминового ряда (САР) ассоциировано с более высоким уровнем сексуального риска (р<0,001) за счет увеличения числа половых партнеров, склонности к выбору более рискованных партнеров (случайных и коммерческих) и, как следствие, с большей частотой сероконверсий по ВИЧ-инфекции (р=0,016), поэтому употребление САР является индикатором риска заражения ИППП в группе ПИН.
Доказано влияние поведенческих установок, распространенных в социальных сетях (СС) ПИН на рискованность их инъекционного (р<0,001) и сексуального поведения (р=0,024).
У 65% ПИН и 20% ПВО обнаружены расстройства депрессивного спектра (РДС). В группе ПИН РДС ассоциированы с рискованными инъекционными практиками (р=0,031), в группе ПВО - с избыточным алкопотреблением (р=0,015) и в обеих группах - с рискованным сексуальным поведением (р=0,025 и р=0,033 соответственно), а также негативными установками в отношении снижения риска (р<0,001 и р=0,031).
Показано, что в течение жизни 26-30% ПИН и 25% ПВО, преимущественно женщины (р<0,001), подвергаются насилию со стороны партнеров по сексу. ПИН и ПВО, перенесшие насилие, характеризуются более рискованным сексуальным поведением по сравнению с не имевшими подобного опыта (р=0,027 и р=0,021 соответственно).
Доказано, то частие ПИН программе олгосрочного медико-социально-психологического сопровождения (МСПС), особенно в сочетании с групповыми обучающими тренингами, основанными на модели «равный - равному», является эффективной превентивной стратегией, позволившей уменьшить риск заражения ИППП/ГКИ как инъекционным, так и половым путями и снизить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в экспериментальной группе (ЭГ) в 1,84 раза.
Установлено, что проведение в группе ПВО индивидуального профилактического вмешательства, основанного на модели «Информация-Мотивация-Поведение» (ИМП) способствует изменению поведения, связанного с риском заражения ИППП/ГКИ, в частности позволяет снизить сексуальный риск, ассоциированный с употреблением алкоголя (р=0,001) и уменьшить заболеваемость ИППП в ЭГ в 4,3 раза.
Оценка эффективности разработанных инновационных моделей профилактики ИППП в целевых группах осуществлялась на основе лонгитюдных (ко-гортных) исследований. Ранее в России когортные исследования, направленные на коррекцию рискованного поведения и снижение заболеваемости ИППП, в субпопуляциях высокого поведенческого риска не проводились.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Научно обосновано, разработано и внедрено оригинальное направление профилактики
9 ИППП/ГКИ, сущность которого заключается в ориентации превентивных мероприятий на коррекцию поведения, приводящего к заражению. По сравнению с традиционным диспансерным подходом, целью которого является раннее выявление и лечение уже приобретенных ИППП, мультидисциплинарные поведенческие стратегии, направленные на предупреждение инфицирования, являются переходом на качественно иной - первичный - уровень профилактики.
Изучение теоретических и практических вопросов организации и проведения долгосрочных когортных исследований в труднодоступной субпопуляции ПИН и в группе лиц с рискованным сексуальным поведением, обращающихся в венерологические учреждения, позволило разработать оптимальные стратегии набора и удержания представителей этих групп населения в профилактических программах, определить необходимые компоненты их индивидуального сопровождения, что позволяет дать конкретные практические рекомендации специалистам в различных областях научного знания, занимающимся превенцией: врачам-клиницистам, эпидемиологам, организаторам здравоохранения, психологам, социологам и др. Результаты исследования могут применяться при разработке образовательных программ для студентов медицинских вузов и специалистов в области общественного здоровья.
Превентивные модели, разработанные для субпопуляции ПИН и контингента венерологических учреждений, могут быть широко внедрены в повседневную практику работы организаций и служб, призванных оказывать помощь представителям данных групп населения, так как они теоретически обоснованны, адаптированы в социо-культурном контексте, испытаны на практике, и их эффективность доказана с помощью математико-статистических методов.
Описанные социально-демографические, поведенческие и психологические особенности представителей субпопуляций ПИН и ПВО, определяющие высокий риск их заражения ИППП/ГКИ, могут быть положены в основу обоснования и разработки новых превентивных моделей. В результате исследования определены новые целевые группы, остро нуждающиеся в разработке адресных профилактических программ. Таким образом, проведенная работа позволяет наметить направления будущих исследований и поведенческих вмешательств.
Полученные данные о распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, сифилисом и генитальным герпесом в группе ПИН могут быть использованы для оценки темпов и математического моделирования распространения эпидемий данных инфекций, построения долгосрочных прогнозов и планирования мероприятий в сфере общественного здоровья.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Система первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, в субпопуляциях повышенного риска заражения направлена на коррекцию поведения, способствующего инфицированию, основана на адресном, мультидисциплинарном, пациент-центрированном подходе, включает медицинскую помощь, психологическое консультирование, социальную поддержку представителей уязвимых групп и предполагает их обучение (информирование о рисках), формирование мотивации к изменению поведения, а также навыков
предохранительного поведения.
-
Эффективность мультидисциплинарной превентивной модели (программы) первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, определяется снижением уровня заболеваемости и уменьшением частоты эпизодов поведения, приводящего к заражению.
-
Факторами, влияющими на реализацию рискованного или, напротив, предохранительного поведения в отношении заражения инфекциями с половым и гемоконтактным путями передачи и значимыми для разработки и проведения профилактических вмешательств являются: пол, особенности употребления наркотиков и алкоголя, психоэмоциональное состояние, ВИЧ-статус, подверженность насилию со стороны половых партнеров, особенности социального окружения и принятые в нем социальные нормы.
-
Долгосрочное медико-социально-психологическое сопровождение потребителей инъекционных наркотиков в сочетании с групповыми обучающими тренингами, основанными на модели «равный - равному», позволило снизить рискованность их инъекционного и сексуального поведения, а также уменьшить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в экспериментальной группе в 1,8 раза.
-
Индивидуальное профилактическое консультирование пациентов венерологического отделения кожно-венерологического диспансера, основанное на модели «Информация-Мотивация-Поведение», способствовало снижению рисков, связанных с употреблением алкоголя и сексуальными практиками, и позволило уменьшить заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, в экспериментальной группе в 4,3 раза.
Степень достоверности результатов исследования. Достоверность результатов проведенного исследования определяется использованием в качестве теоретической и методологической базы диссертации фундаментальных работ отечественных и зарубежных авторов в области кожных и венерических болезней, эпидемиологии, психофизиологии, организации здравоохранения. Достоверность результатов исследования обеспечивается также достаточным и репрезентативным объемом выборок представителей целевых групп, использованием современных высокоинформативных методов исследования, применением адекватных методов статистической обработки полученных данных. Сформулированные в диссертации выводы, положения и практические рекомендации аргументированы и логически вытекают из системного анализа результатов выполненного многоэтапного и многокомпонентного исследования.
Апробация и публикация результатов исследования. Основные положения диссертации были представлены на 11-18-й Международных конференциях «СПИД, рак и общественное здоровье» (Санкт-Петербург, 2003-2009 гг.); XVI Международной конференции по СПИДу (XVI International AIDS Conference) (г. Торонто, Канада, 2006 г); XVII Международной конференции по СПИДу (XVII International AIDS Conference) (г. Мехико, Мексика, 2008 г.); 5-й Европейской конференции по клиническим и социальным исследованиям в области СПИДа и наркозависимости (5th European conference on clinical and social research on AIDS and drugs) (г. Вильнюс, Литва, 2009 г.); XVIII Международной
конференции по СПИДу (XVIII International AIDS Conference) (г. Вена, Австрия, 2010 г.); 6-й Международной конференции по патогенезу и лечению ВИЧ-инфекции (6th IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment) (г. Рим, Италия, 2011 г.); 2-ом Континентальном конгрессе дерматологов/4-ом Всероссийском конгрессе дерматологов (Санкт-Петербург, 2011 .); научно-практической конференции с международным участием «Терапевтическая школа СП. Боткина и ее вклад в развитие отечественной клинической медицины» (Санкт-Петербург, 2012 г.); 8-м ежегодном Международном конгрессе «Психосоматическая медицина - 2013» (Санкт-Петербург, 2013 г.); V Всероссийском конгрессе дерматовенерологов и косметологов (г. Казань, 2013 г.).
По теме диссертации опубликовано 65 печатных работ, в том числе 19 статей - в рецензируемых журналах, входящих в перечень рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ для публикации основных научных результатов диссертаций, 18 статей - в зарубежных рецензируемых журналах и одна монография.
Реализация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования используются в научной и учебной работе кафедры дерматовенерологии с клиникой Первого Санкт-Петербургского Государственного медицинского Университета им. акад. И.П. Павлова, кафедры психологии поведения и превенции поведенческих аномалий, а также кафедры социальной адаптации и психологической коррекции личности психологического факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета, лаборатории теоретических и междисциплинарных проблем информатики Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии.
Личное участие автора в получении результатов. Автором подготовлен обзор данных литературы по теме исследования, определены цель и задачи, разработаны методология и дизайн комплексных программ первичной профилактики ИППП для каждой из целевых групп. Автор принимал непосредственное участие в составлении опросников и выборе инструментария исследования, отборе участников, их клиническом и лабораторном обследовании и лечении, организации и проведении анкетирования, консультирования и других процедур исследования. Автором сформированы базы данных по каждому из пяти этапов исследования, проведен статистический анализ, обобщение и интерпретация полученных результатов, сформулированы обоснованные выводы, положения, выносимые на защиту, и практические рекомендации.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из двух томов (второй том содержит приложения), изложена на 539 страницах, из них текста 297 страниц, иллюстрирована 90 таблицами и 24 рисунками, включает 8 приложений. Работа состоит из введения, четырех глав (обзор литературы, материалы и методы, результаты собственных исследований, обсуждение результатов исследования), заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 89 отечественных и 408 иностранных источников.
Динамическая модель распространения инфекций, передаваемых половым путем, в популяции
Вероятность передачи возбудителей И11І1І1 при контакте с источником заражения (Р) зависит от многих факторов, в частности: особенностей патогенного микроорганизма (вирулентности, минимальной инфицирующей дозы и др.); применения рискованных сексуальных и инъекционных практик, таких как незащищенный рецептивный анальный секс (англ.: receptive - принимающий), незащищенный вагинальный секс, групповой секс, «сухой» секс, секс во время менструации, использование общих игл/шприцев для введения наркотиков; нарушения барьерной функции слизистой оболочки половых органов при воспалении и дисбиозе, приводящих к повышенной травмируемости, кровоточивости, появлению эрозивно-язвенных дефектов. R0 = pcD эффективность ;ж трансмиссии при экспозиции Экспозиция восприимчивого лица частота экспозиции Точки приложения интервенций Персистенция инфекции, степень инфективности длительность заразного периода Рисунок 1 - «Точки приложения» интервенций в соответствии с детерминантами распространения инфекций, передаваемых половым путем (по St. Louis и Holmes [428])
Доказан «эпидемиологический синергизм» ВИЧ-инфекции и других И111111: наличие последних в 5-10 раз увеличивает вероятность как приобретения, так и передачи ВИЧ при незащищенном половом акте [166, 185, 199, 236, 265, 384, 451, 481]. С одной стороны, И11І1І1 повышают восприимчивость к заражению ВИЧ за счет нарушения целостности слизистой оболочки половых путей и привлечения клеток воспаления, которые и являются мишенью для вируса [242, 410, 483]. С другой стороны, на фоне сопутствующих ИПГШ увеличивается выделение вирусов инфицированными лицами, то есть они становятся более заразными для своих партнеров [185, 228, 242, 384, 446].
Наибольший риск заражения ВИЧ возникает при так называемых «язвенных» И111111 (англ.: genital ulcer disease, GUD) - генитальном герпесе, сифилисе, мягком шанкре [95, 221, 242, 448], сопровождающихся мокнущими, кровоточащими высыпаниями в области гениталий. Даже субклиническая (наиболее частая) форма инфекции, вызванной вирусом простого герпеса 2 типа (ВПГ-2), ассоциирована с повышенной восприимчивостью к заражению ВИЧ, а также с усиленной репликацией вируса в слизистой оболочке и повышением уровня вирусной РНК в сыворотке ВИЧ-инфицированных [370, 393, 451]. «Неязвенные» ИППП (хламиди-оз, гонорея, трихомониаз, бактериальный вагиноз) в силу малосимптомной персистенции и большей распространенности в популяции также вносят существенный вклад в расширение эпидемии ВИЧ-инфекции [95, 176, 349]. Интервентные исследования, выполненные в г. Киншаса (Республика Конго) [171] и г. Абиджан (Республика Кот-д Ивуар) [446], убедительно показали, что эффективное лечение ИППП снижает заболеваемость женщин-РКС ВИЧ-инфекцией, а у уже инфицированных уменьшается содержание вируса в шеечно-влагалищном секрете. Рандомизированное контролируемое исследование, проведенное на общинном уровне в округе Мванза (Республика Танзания), показало, что синдромное лечение больных с манифестными ИППП в учреждениях первичной медицинской помощи позволило сократить заболеваемость ВИЧ-инфекцией в популяции на 38% [175, 294]. Исследование среди ВИЧ-инфицированных мужчин с сопутствующим уретритом, проведенное в г. Лилонгве (Республика Малави), показало, что концентрация РНК ВИЧ в жидкой части спермы у них была в 8 раз выше, чем у серопозитивных мужчин без уретрита [384]. Спустя 2 недели после курса антимикробной терапии по поводу уретрита концентрация РНК ВИЧ в сперме значительно снизилась, в то время как в контрольной группе существенных изменений концентрации РНК не произошло. Эти данные свидетельствуют, что лечение сопутствующего уретрита снижает контагиозность ВИЧ-инфекции у мужчин. Поэтому вмешательства по профилактике ИППП могут одновременно рассматриваться как потенциально успешные стратегии предупреждения ВИЧ-инфекции, однако только в том случае, если они осуществляются на ранней стадии эпидемии [176, 199, 242, 275]. Так, в популяции округа Мванза до начала интервенции распространенность ВИЧ-инфекции составляла 4%, а эпидемия продолжалась около 10 лет [175, 280, 294]. По мере увеличения распространенности ВИЧ-инфекции в популяции эффективность поведенческих и терапевтических интервенций, проводимых в группах риска, снижается [143, 144, 392]. Когда преваленс-показатель достигает 10-20%, начинает проявляться эффект «самоподдержания» эпидемии: даже при незначительной распространенности рискованного поведения наблюдается высокий уровень заболеваемости [281]. Так, исследование, проведенное в сельском округе Ракаи (Республика Уганда), показало, что при исходно большой длительности эпидемии (17 лет) и распространенности ВИЧ-инфекции в популяции (16%) антибиотикотерапия, проводимая по поводу И111111, не способствовала снижению заражаемости ВИЧ [93, 174, 280, 440]. Аналогичные результаты были получены в г. Найроби (Республика Кения) в субпопуляции РКС, получавших азитромицин по поводу бактериальных И111111 [345], и в Танзании - среди женщин, лечившихся азитромицином по поводу гениталь-ного герпеса [212].
Подростки также биологически более подвержены инфицированию и осложненному течению ИППП вследствие функционального несовершенства эндокринной системы, дисбаланса половых гормонов, анатомо-физиологических особенностей репродуктивной системы [27]. У сексуально активных подростков часто встречаются сочетанные инфекции, многоочаговые поражения, экстрагенитальные очаги. При бессимптомном или малосимптомном течении ИППП в подростковом возрасте высока частота осложнений (воспалительные заболевания органов малого таза у девушек, простатиты и эпидидимиты у юношей) [44].
Пропаганда регулярного и правильного использования презервативов. Доказа но, что постоянное использование презервативов снижает риск заражения ВИЧ не менее чем на 85% [186]. Они в большинстве случаев эффективны и при других И111111. Однако для снижения уровня заболеваемости недостаточно просто раздавать бесплатные презервативы представителям УГ [217]. Целью интервенции должно являться изменение индивидуальной поведенческой модели, преодоление негативных ПУ в отношении защищенного секса, а также социальной нормы, принятой в сообществах (группах риска). Дизайн таких вмешательств обычно предусматривает информирование участников о методах профилактики И111111, формирование у них мотивации к изменению поведения, выработку навыков правильного использования презервативов и соответствующей коммуникации с сексуальным партнером, а также увеличение доступности презервативов (бесплатное распространение). Основной недостаток подобных интервенций заключается в трудности достижения долговременных поведенческих изменений: после завершения превентивной программы многие участники вновь возвращаются к нерегулярному использованию презервативов.
Пропаганда средств химиопрофилактики/микробицидов. В связи с большей уязвимостью женщин в отношении заражения И1І11І1 целесообразно развивать методы профилактики, контролировать использование которых женщина могла бы по собственному усмотрению, независимо от согласия партнера. С начала 2000-х гг. ведутся исследования эффективности микробицидов - препаратов, которые при вагинальном или ректальном применении способны предотвращать заражение И111111. В настоящее время доступны вагинальные микробициды, представляющие собой водорастворимые детергенты, способные растворять липидные мембраны бактерий и сперматозоидов. Они применяются в различных лекарственных формах: в виде гелей, кремов, пен, губок, пленок, шеечных силиконовых колец или диафрагм, суппозиториев пролонгированного действия. Идеальный микробицид должен обладать физической и химической стабильностью в условиях влагалища, возможностью введения за некоторое время до сексуального контакта, иметь невысокую стоимость, не должен раздражать слизистую оболочку влагалища, разрушать клетки эпителия, служить помехой половому акту, желательно - оказывать контрацептивное действие.
Разработку эффективных микробицидов существенно затрудняет тот факт, что, вещества, обладающие токсичностью по отношению к бактериальным и вирусным патогенам и сперматозоидам, влияют и на нормальную микрофлору влагалища. Поэтому, хотя и было доказано, что вагинальные микробициды снижают вероятность заражения при сифилисе и гонорее, широкого применения они до настоящего времени не нашли. В период с 1996 по 2011 г. в странах Африки, Индии, Таиланде и США было проведено 13 клинических испытаний эффективности вагинальных микробицидов, в которых приняли участие почти 36 тысяч ВИЧ-негативных женщин. Лишь в одном сравнительно небольшом исследовании было показано, что препарат тенофовир (ингибитор обратной транскриптазы) позволяет значимо снизить риск заражения ВИЧ. Профилактическая эффективность тенофовира требует дальнейшего подтверждения в более крупных исследованиях. Другие испытывавшиеся микробициды (ноноксинол-9 (N-9), сульфат целлюлозы, SAVVY, Carraguard, PRO 2000, BufferGel) оказались неэффективны. Более того, некоторые вагинальные микробициды, например ноноксинол-9, при частом использовании могут вызывать эрозирование и изъязвление слизистой оболочки влагалища и прямой кишки за счет химического раздражения и тем самым фактически повышать риск заражения ИППП [476]. Таким образом, в настоящее время нет объективных оснований рекомендовать применение вагинальных микробицидов как средств профилактики заражения ИППП/ВИЧ.
Этапы исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков
Исследование в данной субпопуляции проводили в три этапа. На первой стадии каждого этапа осуществляли рекрутирование большой группы ПИН, изучали ее социально-демографические характеристики, особенности инъекционного и сексуального поведения, распространенность ГКИ и И111111 и ряд других показателей, то есть проводили кросс-секционный анализ субпопуляции. После этого ПИН, соответствовавших критериям включения, регистрировали к когорту для последующего длительного сопровождения. На второй (когортной) стадии исследования изучали уровень заболеваемости ИППП/ГКИ в группе, выявляли демографические и поведенческие особенности ПИН, коррелировавшие с риском заражения, и оценивали динамику показателей рискованного инъекционного и сексуального поведения на фоне превентивного вмешательства. В совокупности в трех этапах исследования в субпопуляции ПИН приняли участие 2283 человека. Этап I - всего участвовало 899 человек, из них 520 ВИЧ-негативных ПИН составили когорту 1 (К-1). Рекрутирование участников продолжалось с февраля по декабрь 2002 г. Обязательные процедуры сопровождения ПИН, включенных в К-1, были завершены в январе 2004 г. Цель I этапа исследования - изучить влияние долгосрочного медико-социально-психологического сопровождения (МСПС) на уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией и поведение ПИН, определить наиболее эффективные стратегии рекрутирования и сопровождения наркопотребителей в превентивных исследовательских проектах. Этап II - всего приняли участие 667 человек, из них 509 ПИН (как ВИЧ-негативных, так и ВИЧ-инфицированных) были включены в когорту 2 (К-2). При этом 231 человек вошел в ЭГ и 278 - в КГ. Рекрутирование участников проводили в период с декабря 2004 г. по октябрь 2007 г. Процедуры сопровождения были завершены в декабре 2008 г. Основная цель II этапа исследования - в когорте, включавшей ПИН с большим стажем наркопотребления и членов их СС, оценить эффективность программы психологического коммуникативного тренинга, основанной на модели «равный - равному», с точки зрения снижения поведенческих рисков и заболеваемости ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами В и С, сифилисом и генитальным герпесом. Дополнительные цели: - разработать оптимальную модель медицинской поддержки ПИН как компонента комплексного МСПС; - выявить характеристики социальных сетей ПИН, влияющие на рискованность их инъекционного и сексуального поведения и способствующие передаче И11І1І1 внутри сети; - изучить уровень информированности ПИН о ВИЧ-инфекции, их установки в отношении дезинфекции инъекционного инструментария и защищенного секса, влияние указанных показателей на фактическое инъекционное и сексуальное поведение, а также их динамику на фоне превентивного вмешательства; - сравнить психологическое самочувствие ПИН до начала и на фоне интервенции и оценить его влияние на рискованность их поведения. Этап III - всего участвовало 717 человек, из них 466 ВИЧ-негативных ПИН были зарегистрированы в когорту 3 (К-3). Рекрутирование участников проводили в период с июля 2008 г. по май 2009 г. Процедуры сопровождения были окончены в октябре 2010 г. Основная цель III этапа - продолжить изучение профилактической эффективности долгосрочного МСПС ПИН, повторно оценить эпидемическую ситуацию по ИППП/ГКИ (ВИЧ-инфекции, вирусным гепатитам В и С, сифилису и генитальному герпесу) в популяции ПИН и поведенческие характеристики, ассоциированные с риском заражения, провести сравнение полученных данных с результатами ранее проведенных когортных исследований.
Дополнительные цели: - оценить информированность ПИН об ИППП и ее влияние на фактическое инъекционное и сексуальное поведение; - оценить распространенность физического и психологического насилия в отношениях между сексуальными партнерами, факторы, влияющие на уровень насилия, а также влияние насилия на показатели рискованного поведения ПИН; - изучить причины отказа от использования презервативов при сексуальных контактах с постоянными (1111), случайными (СП) и коммерческими половыми партнерами (КП). В рамках данного исследования термином «половые партнеры» обозначали лиц, вступающих в сексуальные отношения между собой, независимо от их пола, числа, сексуальной ориентации, а также от продолжительности отношений и от того, возникают ли последние на добровольной основе или по принуждению, узаконены официально или нет. Была принята следующая условная типология сексуального партнерства: Постоянный партнер (англ.: regular partner) - партнер, с которым сексуальные контакты происходят регулярно и которого сам участник исследования считает постоянным. Случайный партнер (англ.: casual partner) - партнер, с которым половой контакт имел место однократно или сексуальные отношения бывают от случая к случаю, и которого сам участник исследования не считает постоянным или коммерческим. Коммерческий партнер (англ.: commercial partner) - партнер, с которым сексуальные контакты происходят в обмен на деньги, наркотики, жилье или иные материальные ценности. кожно-венерологического диспансера В данной группе исследование выполняли в два этапа. Этап I - кросс-секционное исследование, которое включало анонимное анкетирование ПВО и различные типы интервью. Анкетирование 457 ПВО было проведено в период с июня 2008 г. по июль 2009 г. Также в период с октября 2008 г. по июнь 2009 г. было выполнено: - 30 полу структурированных интервью с открытыми вопросами на относящиеся к целям и задачам исследования темы; - 4 групповых фокусированных интервью (общее количество участников - 15); - 20 индивидуальных пилотных мотивационных интервью, основой которых являлась модель «Информация-Мотивация-Поведение», опирающаяся на общие положения и техники мотивационного интервью. Участие в фокус-группах и интервью было анонимным, всего было проинтервьюировано 35 мужчин и 30 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. Данные, полученные в ходе фокус-групп и интервью, были подвергнуты качественному анализу. Основная цель I этапа исследования - сбор информации, которая должна была лечь в основу разработки поведенческой интервенции. Изучали социально-демографические особенности группы ПВО, сексуальное поведение, употребление наркотиков, роль алкоголя как фактора риска передачи И11І1І1 (мотивация, обстоятельства употребления, установки в отношении алкопотребления, взаимосвязь употребления алкоголя с рискованным сексуальным поведением). Дополнительные цели: - изучить мотивы отказа от использования презервативов при сексуальных контактах с ГШ, СП и КП; - изучить распространенность физического и психологического насилия в отношениях сексуальных партнеров, взаимосвязь уровня насилия с употреблением алкоголя и иными факторами, а также оценить влияние насилия на показатели рискованного поведения. Этап II - когортное исследование с рандомизированной выборкой. В период с июля 2009 г. по ноябрь 2010 г. 307 ПВО, характеризовавшихся рискованным сексуальным поведением, были включены в когорту 4 (К-4) для последующего сопровождения, которое было завершено в июне 2011 г. 154 участника вошли в ЭГ и 153 - в КГ.
Основная цель II этапа - оценить эффективность поведенческой интервенции, основанной на модели ИМП, с точки зрения снижения риска заражения И11І1І1 среди ПВО. Эффективность вмешательства оценивали по 1. уменьшению количества половых партнеров; 2. снижению частоты рискованных сексуальных практик, связанных с употреблением алкоголя, и 3. увеличению частоты использования презервативов (основные эффекты). В качестве дополнительных эффектов интервенции учитывали: повышение уровня информированности ПВО об И111111, формирование желательных поведенческих установок и навыков в отношении защищенного секса, улучшение психологического самочувствия респондентов.
Для участия в исследовании привлекали активных ПИН. Под активным употреблением инъекционных наркотиков (ИН) понимали употребление не реже 3 раз в неделю в течение месяца, предшествовавшего включению в исследование, и/или наличие не менее 3 эпизодов использования инъекционного оборудования (иглы, шприцы и др.) после другого человека на протяжении 3 последних месяцев.
В К-2, кроме ПИН, являвшихся основными участниками (ОУ), включали лиц, идентифицированных ОУ как члены их социальных сетей (ЧСС) с высоким риском заражения ИППП/ГКИ. Членом социальной сети ОУ считали половых партнеров, имевших незащищенный секс с ОУ, или партнеров по использованию ИН, то есть лиц, совместно с ОУ применявших иглы, шприцы или другое инъекционное оборудование.
Пригодными для участия в исследовании признавали: лиц старше 16 лет; способных и согласных предоставить письменное информированное согласие (ИС) на участие; доступных для исследовательских процедур в течение ближайших 12 месяцев (проживавших в Санкт-Петербурге); готовых предоставить о себе правдивую локационную и контактную информацию.
Участие ПИН в исследовании было конфиденциальным, но не анонимным. Для включения в исследование потенциальные участники должны были предъявить документ, подтверждающий личность (как правило, паспорт), назвать адрес проживания в Санкт-Петербурге и телефон, а также указать, по крайней мере, два контактных лица (их имена, адреса и телефоны в Санкт-Петербурге), с помощью которых можно было бы связаться с участником в случае необходимости.
Не допускали к участию в исследовании: лиц, имевших очевидные психоэмоциональные нарушения или декомпенсированные психические заболевания, которые могли препятствовать получению ИС или являться противопоказанием для участия; лиц, находившихся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, которое, по мнению исследователей, могло препятствовать пониманию и подписанию ИС, делало участие небезопасным, затрудняло интерпретацию полученных данных или иным образом мешало достижению целей исследования.
Результаты II этапа исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков
В период с декабря 2004 по октябрь 2007 г. было рекрутировано 667 ПИН - 334 ОУ и 333 ЧСС. 9,7% (63/648) из них ранее принимали участие в К-1. Среди рекрутированных было 448 (67,2%) мужчин и 219 (32,8%) женщин. Данное соотношение мужчин и женщин сохранялось среди ОУ и ЧСС: 67,7% и 32,3% (226 и 108) против 66,7% и 33,3% (222 и 111) соответственно. Возраст ПИН варьировал от 16 до 53 лет, средний возраст составлял 28,55±5,94 года.
Среди участников исследования количество одиноких респондентов (холостых/незамужних, состоявших в браке, но проживавших отдельно от супруга, разведенных, овдовевших) было лишь незначительно больше, чем количество состоявших в официальном или гражданском браке, и составляло 58,0% (383/660). Детей имели 36,6% респондентов (241/659). Жилищно самостоятельны были 33,2% опрошенных (218/656), а большинство -57,9% (380/656) - проживали совместно с родителями, родственниками или другими людьми.
Большинство участников исследования - 89,3% (590/661) имели неоконченное среднее, среднее, среднее специальное или среднее техническое образование. Высшее образование получили лишь 3,8% респондентов (25/661). На момент включения в проект продолжали обучение 3,1% респондентов (20/640). Постоянную работу на условиях полной занятости имели всего 14,4% респондентов (95/661), на условиях частичной занятости - 24,6% (163/661). Большинство ПИН - 61,0% - на момент опроса были безработными (403/661). 80,9% (530/655) опрошенных имели профессиональную подготовку: в основном, по рабочим специальностям или специальностям, связанным со сферой обслуживания. Обращало на себя внимание стремление многих респондентов подчеркнуть степень своей профессиональной квалификации соответствующими определениями: «широкого профиля», «высшей квалификации», «мастер-универсал», «многопрофильный ремонтник», «умею всё» и т.п.
Уровень личного ежемесячного дохода (ЛЕД) 23,7% (148/623) участников исследования (с учетом всех источников) был ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в г. Санкт-Петербурге в конце 2005 г. составлял 3258,2 руб., в конце 2006 г. - 4045,0 руб. и в конце 2007 г. - 4631,2 руб. [8]. 59,4% респондентов (370/623), имели доход выше прожиточного минимума, но ниже среднего уровня заработной платы, который в г. Санкт-Петербурге в 2005 г. составлял 10133,9 руб., в 2006 г. - 13033,2 руб. и в 2007 г. - 17552,0 руб. [79]. Лишь 16,9% опрошенных (105/623) имели доход более 18000 руб. в месяц. Большинство респондентов получали средства к существованию от членов семьи, сексуального партнера, друзей. На втором месте по значимости стояли нелегальные (в том числе полученные криминальным путем) доходы и лишь на третьем - официальная заработная плата (Приложение А, таблица 14). С целью оценки потребности представителей исследуемой субпопуляции в медицинской поддержке был изучен характер предъявлявшихся ими жалоб на состояние здоровья. При включении в исследование 55,8% (361/647) респондентов предъявляли те или иные жалобы (Приложение А, таблица 15). О заболевании туберкулезом сообщили 4,5% (30/661) респондентов. Острыми гнойными инфекциями кожи и мягких тканей, вызванными инъекциями наркотиков, хотя бы один раз в течение жизни страдали 12,1% (80/661) участников. Инфекционные заболевания сердечно-сосудистой системы, обусловленные инъекциями, наблюдались в течение жизни у 1,8% (12/661) респондентов, пневмонии - у 21,1% (139/660). О своем заболевании вирусным гепатитом В знали 31,6% (188/595) опрошенных, гепатитом С - 67,2% (399/594). Курили 97,7% (647/662) опрошенных ПИН. 63,4% (419/661) респондентов утверждали, что знают свой ВИЧ-статус. При этом считали себя ВИЧ-негативными 69,7% (292/419), ВИЧ-позитивными - 30,3% (127/419). Среди тех, кто не указал своего ВИЧ-статуса, 69,4% (168/242) - ранее не обследовались, 20,3% (49/242) - обследовались, но не знали результата, у 10,3% (25/242) результат обследования был неопределенным. Обращались за медицинской помощью в связи с ВИЧ-инфекцией только 59,9% (76/127) ВИЧ-инфицированных, состояли на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом - 52,8% (67/127). Получали лечение по поводу ВИЧ-инфекции на момент включения в исследование 3,2% (4/127) ПИН. 47,5% (287/605) участников сообщили об И111111, перенесенных в течение жизни. В частности, 18,8% (54/287) указали, что в прошлом болели сифилисом, 36,9% (106/287) - гонореей, 15,0% (43/287) - хламидийной инфекцией, 28,6% (82/287) - трихомониазом, 33,1% (95/287) - генитальным герпесом, 10,8% (31/287) - остроконечными кондиломами. 5,0% (30/596) респондентов сообщили, что в прошлом перенесли какую-то И111111, однако не могли припомнить какую. 48,1% (281/584) респондентов в течение 3 месяцев, предшествовавших включению в исследование, отмечали симптомы, которые могли быть связаны с наличием ИППП и требовали дополнительного обследования (Приложение А, таблица 16). В течение предшествующих 6 месяцев обращались за медицинской помощью 48,3% (309/640) участников исследования. Респонденты, обращавшиеся к врачу, наиболее часто посещали терапевта - 30,4% (181/596), инфекциониста - 16,8% (100/596), стоматолога - 12,4% (74/596), хирурга - 12,3% (73/596), дерматовенеролога - 5,0% (30/596), гинеколога - 22,4% женщин (45/201). Большинство респондентов обычно обращались в государственные учреждения здравоохранения: поликлиники - 70,1% (461/658), стационары - 33,0% (215/652), службу скорой медицинской помощи - 1,7% (11/645). В частные медицинские учреждения обращались лишь 14,7% опрошенных (96/654). Большинство респондентов - 84,3% (549/651) - имели полис обязательного медицинского страхования. Оценивая состояние своего здоровья в целом, 75,3% (494/656) ПИН признали его слабым или средним.
При включении в исследование употребляли алкоголь 85,4% (561/657) респондентов. Среди женщин доля не употреблявших алкоголь была значимо больше, чем среди мужчин: 22,5% (49/218) и 10,7% (47/439) соответственно (р 0,001; ОШ 2,41 [ДИ 1,56-3,74]). Средняя частота употребления алкоголя мужчинами и женщинами за предшествующие 3 месяца показана на рисунке 13. Значимых различий в частоте употребления алкоголя в зависимости от пола обнаружено не было. За один эпизод алкопотребления ПИН, употреблявшие алкоголь, выпивали от 1 до 20 порций (Ме=2, Мо=2). Мужчины употребляли за один эпизод приема в среднем 3,8 порции алкоголя, а женщины - 2,6 (р 0,001).
Сложение баллов, полученных ПИН за ответы на вопросы 1 и 2 раздела В анкеты (Приложение В), позволило произвести быстрый скрининг респондентов на предмет рискованного употребления алкоголя по шкале AUDIT-QF. Баллы по шкале AUDIT-QF, получен ные участниками исследования, варьировали от 0 до 8 (Ме=3, Мо=4). При условии, что в качестве порогового показателя принимали балл 4 у мужчин и 3 у женщин, рискованное ал-копотребление было выявлено у 45,4% (294/647) ПИН - 47,6% (207/435) мужчин и 41,0% (87/212) женщин.
91,6% (611/667) участников исследования были протестированы на наличие AT к ВИЧ. Наличие ВИЧ-инфекции было подтверждено у 42,4% (259/611) ПИН (AT к ВИЧ выявлены методами ИФА и ИБ). 57,1% (349/611) респондентов оказались ВИЧ-негативными. У 3 участников (0,5%) с положительным ИФАИБ показал неопределенный результат.
Положительный результат RPR был зарегистрирован у 1,8% (11/613) обследованных, положительный результат ТРРА - у 11,9% (73/613). Положительный результат RPR всегда сочетался с положительным результатом ТРРА (RPR+/TPPA+). У 10,1% (62/613) респондентов положительной была только ТРРА (RPR-/TPPA+).
Резюме результатов I этапа исследования в группе потребителей инъекционных наркотиков
В ходе I этапа исследования были достигнуты следующие основные результаты. Накоплен опыт организации когортных исследований в субпопуляции ПИН, выработаны оптимальные стратегии набора и удержания участников, определены необходимые компоненты МСПС. Наиболее продуктивной стратегией рекрутирования ПИН для участия в превентивных поведенческих программах оказался набор участников методом «снежного кома» через СС, объединяющие лиц, которые тесно общаются и участвуют в различных видах деятельности, в том числе связанных с наркопотреблением. Было показано, что индивидуальный подход при рекрутировании и сопровождении, а также, ориентированный на интересы участников формат исследовательского центра играют ключевую роль в успешной организации долгосрочных когортных исследований в группе ПИН. Оценена распространенность основных ГКИ и сифилиса и заболеваемость ВИЧ-инфекцией в группе ПИН. Распространенность ВИЧ-инфекции в данной субпопуляции в 2002 г. составляла 30,0%, нелеченного сифилиса - 3,7%. Еще у 7,0% участников обнаруживались серологические признаки перенесенного сифилиса. Серологические маркеры гепатита В присутствовали в сыворотке 85,2% ПИН, маркеры гепатита С - у 96,9%. Кумулятивная заболеваемость ПИН ВИЧ-инфекцией составляла 4,44%, а коэффициент заболеваемости - 4,62 случая за 100 человеко-лет наблюдения. Данные о заболеваемости ВИЧ-инфекцией в субпопуляции ПИН в Российской Федерации были получены впервые. Собрана важная информация, касающаяся принятых в группе ПИН инъекционных практик. Так, в 2002 г. наиболее употребимыми ИН оказались героин (96,1% респондентов), САР (37,7%)) и опиаты кустарного производства (10,0%). Распространенность рискованного использования игл и шприцев в исследуемой субпопуляции составляла 74,9%, инъекционного оборудования - около 90%. Женщинам-ПИН был свойствен более высокий уровень ИР по сравнению с мужчинами (р=0,004). Получены важные сведения относительно особенностей сексуального поведения наркозависимых. В частности, было показано, что 93,9% ПИН подвержены риску полового заражения ВИЧ и другими И111111, то есть находятся в ситуации двойного риска инфицирования. Мужчины-ПИН в целом характеризовались более рискованным сексуальным поведением по сравнению с женщинами (р 0,001). Была отмечена положительная корреляция между уровнем СР и частотой употребления САР (р 0,001), кокаина (р=0,039), транквилизаторов (р=0,001), а также с частотой использования игл и шприцев, ранее применявшихся другими ПИН (р=0,009). 33,8% ПИН были вовлечены в коммерческие сексуальные отношения.
Существует высокий риск распространения эпидемии ВИЧ-инфекции половым путем за пределы «ядерной» группы наркозависимых. Согласно результатам исследования, 91,2% ВИЧ-позитивных ПИН демонстрировали рискованное сексуальное поведение при половых контактах с 1111 и СП. 26,6% ПИН, предоставлявших или получавших сексуальные услуги за вознаграждение, были инфицированы ВИЧ.
Показано, что 1111 ПИН, 49,7% которых сами не употребляют наркотики внутривенно, представляют собой «группу-мост», посредством которой ВИЧ-инфекция может распространяться в общую популяцию, поскольку их приверженность к использованию презервативов очень низка. Всегда пользовались презервативами при вагинальных контактах с 1111 только 15,3% ПИН, при анальных - 18,6%. Даже в ДКП ВИЧ-негативные партнеры не изменяли сексуального поведения, что создавало риск инфицирования ВИЧ половым путем.
Участие ПИН в программе долгосрочного МСПС само по себе является эффективной превентивной стратегией и способствует изменению поведения, связанного с риском заражения ИППП/ГКИ. В процессе МСПС значимо (р 0,001) снизился ИР заражения ПИН ГКИ, в частности, уменьшилась частота употребления ими героина, САР, самодельных опиатов и транквилизаторов, а также частота применения рискованных инъекционных практик. Кроме того, МСПС ПИН позволило значимо (р 0,001) снизить риск их заражения ИППП/ГКИ половым путем: уменьшилось общее количество половых партнеров, в том числе СП и КП, увеличилась доля респондентов, состоявших в стабильных парах, а также проявилась тенденция к выбору более «безопасных» партнеров.
Бесплатная раздача презервативов в ходе МСПС не оказала положительного влияния на частоту их использования ПИН при половых контактах со СП. Это необходимо учитывать при разработке превентивных вмешательств для данной субпопуляции и включать в программу интервенций элементы пропаганды презервативов и обучения их правильному испол ьзов анию.
Случаи СК-ВИЧ в ЦТ были значимо взаимосвязаны с употреблением САР (р=0,011) и коррелировали с частотой их использования. Значимыми показателями СР заражения ВИЧ оказались: количество половых партнеров более трех (р=0,042), половые контакты со СП один раз в неделю и чаще (р=0,022), вагинальные контакты со СП 20 и более раз в месяц (р 0,001), гомосексуальные контакты с мужчинами (р=0,011) и предоставление сексуальных услуг за вознаграждение больше 10 раз за последние полгода (р 0,001).
Большинство участников II этапа исследования также составляли молодые люди в возрасте до 30 лет, однако их доля существенно снизилась: 70,2% против 99,0% на первом этапе. Средний возраст участников II этапа исследования оказался почти на 5 лет выше: 28,55±5,94 года против 23,76±3,51 - у ПИН, рекрутированных на I этапе. Аналогичные изменения возрастной структуры ПИН были отмечены в других исследованиях, проведенных в Санкт-Петербурге в те же годы [295, 343]. Это может свидетельствовать о том, что в группе наркопотребителей более молодого возраста, недавно начавших употреблять ПАВ, наблюдается сдвиг предпочтений в пользу синтетических НИН, а приверженность к инъекционным препаратам сохраняют наркозависимые старшего возраста, которые начали употреблять их несколько лет назад. Как и на I этапе, средний возраст мужчин был значимо больше среднего возраста женщин - 29,10±5,73 года и 27,44±6,23 года соответственно (р=0,001).
Вероятно, «повзрослением» субпопуляции ПИН объясняется факт снижения доли одиноких (58,0% против 76,4% в 2002 г.) и проживающих с родителями или другими родственниками респондентов (66,8% против 77,4%). Несмотря на то, что группа ПИН во втором исследовании была более «взрослой», доля безработных среди участников увеличилась до 61,0% (по сравнению с 55,4% в 2002 г.). Увеличение доли безработных респондентов и наличие у 46% опрошенных нелегальных доходов, по-видимому, указывает на дальнейшую криминализацию этой группы населения в условиях экономического спада. Женщины чаще, чем мужчины, не имели постоянной работы: 69,3% и 56,9% соответственно (р=0,002; ОШ 1,71 [ДИ 1,21-2,41]), имели более низкий уровень ЛЕД (р=0,001).
Как и на I этапе исследования, женщины значимо чаще по сравнению с мужчинами декларировали стабильное семейное положение (официальный или гражданский брак): 54,1% против 36,0%) (р 0,001; ОШ 2,10 [ДИ 1,51-2,92]). Этот факт отражает характерную для России тенденцию, согласно которой в нашей стране, по данным всех переписей населения, число замужних женщин превышает число женатых мужчин. Это отчасти объясняется тем, что в некоторых парах даже при совместном проживании и ведении общего хозяйства мужчина все-таки считает себя «холостым» (поскольку брак не зарегистрирован) и рассматривает свои отношения с подругой просто как сексуальную связь, а она считает эти же отношения «гражданским браком» [75]. В ситуации же, когда семья фактически распалась, и муж в ней больше не живет, некоторые женщины полагают, что они все еще замужем, поскольку брак формально не расторгнут. Однако их супруги рассматривают себя как «свободных» или как женатых «гражданским браком» на других женщинах [75].
По социально-демографическим характеристикам ОУ и ЧСС друг от друга не отличались, за исключением того, что ЧСС чаще, чем ОУ, имели постоянную работу: 46,5% и 31,6% соответственно (р 0,001; ОШ 1,87 [ДИ 1,36-2,57]).
Блок вопросов анкеты, предназначенных для сбора анамнестических данных о состоянии здоровья респондентов (Приложение В, раздел Б), позволил получить представление о тех видах медицинской помощи, в которых в первую очередь нуждаются ПИН, для того, чтобы разработать оптимальную программу медицинского сопровождения. Анализ жалоб ПИН показал, что большая часть имевшихся у них проблем с состоянием здоровья была, так или иначе, взаимосвязана с употреблением ПАВ.
В связи с широкой распространенностью в субпопуляции ПИН инфекционных и токсических гепатитов, И111111, инфекционных процессов различной локализации, связанных с инъекциями наркотиков, нарушений менструального цикла вплоть до аменореи, воспалительных заболеваний полости рта и деструктивных изменений зубов, вызванных употреблением САР и опиатов, наиболее востребованными в данной группе населения оказались услуги терапевтов, инфекционистов, стоматологов, хирургов, дерматовенерологов, гинекологов. 48,1% ПИН требовалось дополнительное обследование в связи с наличием симптомов, которые могли быть обусловлены И111111. Очевидно, что при организации системы медицинского сопровождения ПИН необходимо, кроме наркологической помощи, предусмотреть участие вышеперечисленных специалистов и наличие соответствующей лабораторной базы.
Участники исследования обращались преимущественно в учреждения, где можно получить бесплатную медицинскую помощь. При этом многие ПИН в беседах указывали, что обращаются в государственные медицинские учреждения лишь в случаях крайней необходимости, что обусловлено стигматизацией, дискриминацией и боязнью нарушения конфиденциальности обследования и лечения, следствием чего может явиться преследование со стороны правоохранительных органов. Понятие «стигма» (от греч.: клеймо, отметина) в социальной психологии определяется как социальный атрибут, дискредитирующий человека или группу, считающийся пороком и вызывающий стремление наказать. Стигматизация - это процесс выделения индивида или социальной группы по какому-либо признаку путем приписывания им определенных, чаще всего негативных, характеристик с последующим стереотипным набором социальных реакций на данного индивида (или представителей данной социальной группы) [263]. Иными словами, стигматизация - это навешивание социальных ярлыков, вызванное формальными обстоятельствами (культурными традициями, культурной политикой или собственными психологическими комплексами). Стигматизация тесно связана с дискриминацией - реальными действиями, незаконно ограничивающими права какой-либо социальной группы.
Наиболее значимым с позиции здравоохранения последствием стигматизации и дискриминации является ограничение и самоограничение доступа ПИН к квалифицированной и иногда жизненно необходимой медицинской помощи [2]. ПИН нередко сталкиваются с пренебрежением, недоверием или отказом в лечении даже в тех учреждениях, которые обязаны им помогать [197]. Об этом свидетельствует, например, частое отсутствие антагонистов опиоидов (налоксона) на станциях скорой помощи, нежелание врачей в инфекционных больницах проводить лечение парентеральных гепатитов у наркопотребителей и т.д.