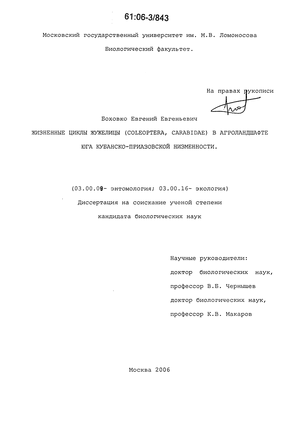Содержание к диссертации
Введение
2 Обзор литературы 7
3. Материалы и методы 16
3.1 Характеристика района исследования и изученных биотопов 16
3.2 Методы исследований 19
4 Результаты 22
4.1 Видовой состав жужелиц агроландшафта юга Прикубанской низменности 22
4.2 Биотопическое распределение жужелиц агроландшафта юга Прикубанской низменности 2 6
4.3 Экологическая структура карабидокомплексов агроландшафта юга Прикубанской низменности 30
4.4 Биология и экология модельных видов агроландшафта юга Прикубанской низменности 39
4.4.1 Динамика уловистости и демографических показателей модельных видов 39
4.4.2 Реконструкция жизненных циклов модельных видов 63
4.5 Особенности демографической структуры и реализация жизненных циклов модельных видов жужелиц в разных биотопах 81
5. Заключение 88
6. Выводы 92
7 Литература
- Характеристика района исследования и изученных биотопов
- Биотопическое распределение жужелиц агроландшафта юга Прикубанской низменности
- Биология и экология модельных видов агроландшафта юга Прикубанской низменности
- Реконструкция жизненных циклов модельных видов
Введение к работе
Население жужелиц агроценозов интенсивно изучается в течение последних десятилетий. Один из важных аспектов этих исследований -особенности и динамика пространственного размещения этих жуков в мозаике агроландшафта. В разных регионах и на примере разных кара-бидокомплексов была показана роль лесополос, полевых обочин, искусственно созданных укрытий в формировании населения жужелиц агроценозов (Тимохова, Чернышев, 2000; Andersen, 1997; Комаров, Че-резова, 1984 и др.)- Наблюдаемая картина распределения жуков в мозаике агроландшафта отражает как пригодность для них отдельных местообитаний, так и другие особенности экологии конкретных видов. Использование жужелиц как модельной группы в различных экологических исследованиях в значительной степени определяется стандартизацией методов сбора, что позволяет получать сравнимые результаты. Однако данные учётов должны интерпретироваться с осторожностью, на что неоднократно указывалось ранее (Вааг, 1979; Соболева-Докучаева, Солдатова, 1980 и др.). Многие аспекты этой проблемы послужили причиной проведения специального совещания европейских карабидологов (г. Ротенберге, Германия, 1983).
Благодаря многочисленным исследованиям сейчас вполне очевидно, что почти все стандартные методы учета жужелиц отражают не только численность популяции, но и уровень напочвенной активности жуков, их склонность к агрегациям, особенности поведения и т.п. Вклад этих искажающих факторов в данные учётов ловушками может меняться в зависимости от погодных условий, свойств почвы и физиологического состояния особей (Chiverton, 1984) .
Разработка методов оценки физиологического (репродуктивного) состояния имаго жужелиц (Wallin, 1985, 1987) позволила дифференцированно подходить к оценке данных, полученных с помощью ловушек. Это, с одной стороны, повысило разрешающие возможности полевых методов, а с другой, привело к быстрому развитию представления о жизненных циклах этих насекомых. Как было показано в работах школы И.Х. Шаровой в течение последних десятилетий, одной из важнейших характеристик жужелиц являются их жизненные циклы (Макаров, Черняховская, 1989, 1989, 1990; Маталин, 1997 а, б, 1998 а, б; Филиппов, 1999, 2000 а, б; Хобракова, 2002, 2003; Хобракова, Шарова, 2004, 2005; Шарова, 1983, 1984; Шарова, Филиппов, 1999, 2003; Шарова, Хобракова, 2005; Makarov, 1994; Matalin, 1998). На примере разных видов выяснено, что различие в уловах жужелиц в разных биотопах может отражать большую или меньшую активность лишь отдельных репродуктивных стадий и, следовательно, давать неполное представление о распределении и численности популяций. Жизненные циклы, как и всякая видовая особенность, оказываются изменчивы и по-разному реализуются в различных условиях (Макаров, Черняховская, 1989, 1990; Makarov, 1994).
В связи с этим, целью нашей работы было изучение реализации жизненных циклов и оценка распределения массовых видов жужелиц в мозаике биотопов агроландшафта. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
Изучить видовой состав и структуру населения жужелиц в агроланд-шафте Прикубанья.
Выяснить сезонную динамику демографических показателей массовых видов жужелиц.
З. Реконструировать жизненные циклы модельных видов в условиях юга
Прикубанья. 4 . Выяснить особенности демографической структуры и реализации жизненных циклов жужелиц в разных биотопах агроландшафта.
Для проведения исследования были выбраны агроландшафты Кубанской низменности, расположенные в зоне благоприятного земледелия и интенсивно эксплуатируемые человеком длительное время. Это привело к исчезновению исходных сообществ и смене растительного покрова на значительных площадях. Причём, кроме рудерально-сегетальной растительности агрофитоценозов, на исследуемой территории сильно искажена структура древесных насаждений за счёт широкого распространения таких видов, как белая акация, гледичия и т.д. Последнее обстоятельство особенно важно, так как заметно сокращает набор стаций переживания и расселения для жужелиц.
Научная новизна. Впервые изучены жизненные циклы шести видов и уточнены для пяти видов жужелиц, формирующих доминантный комплекс карабид в агроценозах Краснодарского края. Характер жизненного цикла - одна из основных характеристик, определяющая успешность сосуществования жужелиц в агроландшафте. Проходящие полный цикл развития в условиях агроценоза виды обладают относительно небольшой численностью. На основании изучения реализации жизненного цикла в разных стациях агроландшафта показано, что высокая численность жужелиц в агроценозах поддерживается за счёт миграций из менее нарушенных биотопов. Выявлен спектр хозяев, на которых развиваются личинки Brachinus elegans.
Практическое значение. Полученные данные о пространственной неравномерности состава и динамике демографической структуры популяций позволяют адекватно оценивать успешность колонизации агро-ландшафта разными видами жужелиц и прогнозировать динамику численности хозяйственно важных видов. Результаты найдут применение при разработке практических рекомендаций по сохранению и оптимизации карабидокомплекса агроценозов. Большое значение имеет методический аспект работы: интерпретация учётов почвенными ловушками возможна только при сопоставлении уловистости и демографического состава. Возникающая в противном случае погрешность не может быть нивелирована ни изменением способов учётов, ни применением статистики.
Апробация работы. Материалы диссертации доложены на Международной научно-практической конференции (Елец, 2005), Втором Всероссийском съезде по защите растений (Санкт-Петербург, 2005), заседаниях кафедры энтомологии МГУ (2004, 2005).
По теме диссертации опубликовано 5 работ.
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 153 страницах машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов и приложения; содержит б таблиц и 32 иллюстрации. В списке литературы 193 названия, из которых 98 - на иностранных языках.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность научным руководителям доктору биологических наук Владимиру Борисовичу Чернышеву и доктору биологических наук Кириллу Владимировичу Макарову за неоценимую помощь в работе, сотруднику кафедры зоологии и экологии МПГУ кандидату биологических наук Андрею Владимировичу Мата-лину за своевременные консультации и конструктивные советы.
Характеристика района исследования и изученных биотопов
Сбор материала проведен в 2003-2004 годах в Краснодарском крае на базе хозяйства АОЗТ «Нива-1» (9 км на северо-запад от станицы Старокорсунская). Территория района исследования расположена на южной границе Прикубанской низменности (Прикубанской равнине), в Западном Предкавказье. Эта низменность граничит с северным берегом Краснодарского водохранилища. Район исследования входит в зону черноземных земель, в настоящее время большей частью распаханных. Высота Кубано-Приазовской низменности - 120-180 м над уровнем моря. Почвы в основном суглинистые черноземы.
Климат района умеренно-континентальный со средними температурами: января от -4С до +5С, июля - от 22С до 24С. Среднее количество осадков 320-400 мм в год (Берг, 1955). Сумма эффективных температур составляет 2800-3600С, продолжительность активной вегетации - 166-190 дней (Кирюшин, 1995).
В течение двух сезонов работы проводили в следующих биотопах: на поле озимой пшеницы, в двух разновозрастных лесополосах, в роще акации белой, на поле многолетней люцерны. Кроме того, в 2003 году были проведены исследования в трех околоводных биотопах (берег оросительного канала, осушаемое болото, заболоченный участок поля) , а в 2004 году - на поле однолетней люцерны (Рис. 1).
Поле озимой пшеницы (рис. 1, №1) площадью 120 га окружено с четырех сторон 5-рядными лесополосами. Поле имеет понижения, в ко торых до середины апреля сохранялась талая и дождевая вода, около северной лесополосы находился заболоченный участок. Во всех зонах поля наблюдалась засоренность пыреем ползучим, осотом полевым, бодяком полевым, амброзией полыннолистной, маком-самосейкой.
Западная лесополоса (рис. 1, №8) шириной 20 метров, возраст деревьев примерно 50 лет. Древесный ярус составили акация белая, тополь пирамидальный, дуб. Кустарниковый ярус - бузина черная, терн, ежевика, подрост белой акации. Травянистый ярус - крапива жгучая, овсюг, мышей. Состав древесной и травянистой растительности восточной лесополосы (рис. 1, №7) сходен с таковым западной, возраст деревьев составляет примерно 30 лет. На обочинах лесополос произрастали: бузина черная, терн, люцерна посевная, донник лекарственный, чина посевная, клевер, клоповник мусорный, тмин обыкновенный, повилика, короставник полевой, чертополох колючий, крапива жгучая, звездчатка, чистотел большой, ярутка полевая, сумочник пастуший, борщевик сибирский, подорожник большой, бодяк полевой, осот полевой, амброзия полыннолистная, подмаренник большой, мятлик, ежа сборная, пырей ползучий, костер полевой, просо куриное.
Поле многолетней люцерны (рис. 1, №2), площадью 30 га, в течение 2003-2004 гг. периодически скашивалось. Посевы люцерны были сильно засорены ежой сборной, амброзией полыннолистнои, сумочником пастушьим, бодяком полевым.
Роща белой акации (рис. 1, №6) площадью 2 га Древесный ярус составили акация белая, возраст 30 лет. Кустарниковый ярус - бузина черная, терн, ежевика, подрост белой акации. Травянистый ярус -крапива жгучая, овсюг, осот полевой. Заболоченный участок (рис. 1, №4) расположен на краю поля, который примыкал к дорожной насыпи, в образовавшемся понижении скапливалась вода.
Биотопическое распределение жужелиц агроландшафта юга Прикубанской низменности
Более 90% от общего числа жужелиц в изученных агроценозах приходится на долю 12 видов, составляющих основу карабидокомплекса. В связи с их высокой численностью при характеристике обилия доминантами мы считали виды, составлявшие более 10%, а субдоминантными - от 5 до 10% улова хотя бы в одном биотопе (Соболева-Докучаева, Солдатова, 1983). При изучении сообществ жужелиц, особенно в мало нарушенных ценозах, в качестве критерия доминирования нередко указывают 5% барьер (Грюнталь, 1983; Душенков, 1984). Однако этот подход не строг. Даже в пределах одного сообщества критерий может меняться в зависимости от способов сбора материала (Грюнталь, 1983).
Комплекс доминантов агроландшафта юга Прикубанской низменности включает значительное число видов, обычных и обильных во многих агроценозах юга европейской равнины - Я. rufipes, P. cupreus, P. melanarius, Я. tardus, A. dorsalis, В. explodens (Душенков, 1983; Карпова, 1988; Попова, 1985; Утянская, 1983). Наряду с ними, в агроценозах Прикубанья доминируют и виды, характерные для Кавказа - С. cumanus, С. exaratus, P. fornicatus (Табл. 3), причём представленность этих эндемичных форм в агроценозах велика. Так, С. exaratus встречается почти во всех биотопах и его доля зачастую превышает долю Я. rufipes - самого обычного и многочисленного вида жужелиц агроландшафтов. Региональная специфика изученных карабидо-комплексов подчёркивается и высокой представленностью здесь рода Brachinus, два вида которого (В. elegans, В. psophia) достигают высокого обилия.
Видовое разнообразие доминантного комплекса в изученных биотопах значительно варьирует. Все биотопы могут быть разделены на две группы - с малым (2-4) и большим (10-12) числом доминирующих видов (по данным за 2003 год). К первой группе относятся заболоченный участок, берег канала и роща белой акации, а ко второй -все остальные биотопы. Число видов доминантного комплекса не коррелирует с их обилием. Так, малое число видов-доминантов зарегист рировано и в сообществах с малой численностью карабидокомплекса (заболоченный участок, берег реки), и в биотопах с высоким обилием жужелиц (роща белой акации).
Массовые виды жужелиц заметно различаются по широте распространения в агроландшафте. Одни из них (С. exaratus, Р. fornicatus, Я. rufipes, Я. tardus) отмечены как доминанты почти во всех биотопах (по данным за оба года исследований) , тогда как остальные проявляли большую избирательность, достигая высокой численности только в некоторых местообитаниях.
Пространственная неоднородность распределения доминантных видов сочетается со значительным варьированием доли отдельных видов. Для большинства карабидокомплексов биотопов агроландшафта характерно явление свехдоминирования, при котором доля отдельного вида может превышать 50% общей численности. В большей степени это явление характерно для полевых участков, и в меньшей - для лесных. Эффект сверхдоминирования регистрируется только в течение одного сезона и обычно отражается на структуре всех карабидокомплексов, включающих данный вид. Вероятно, это связано с неравномерным размножением отдельных видов. Так, Я. tardus в 2003 году имел относительно небольшую численность (его доля составляла менее 20%) и входил в категорию доминантов только на двух участках с развитым древесным ярусом. В следующем, 2004 году, его доля на этих участках увеличилась более чем в три раза, превысив 60% и в значительном количестве он обнаружен ещё в двух биотопах.
Биология и экология модельных видов агроландшафта юга Прикубанской низменности
В сезонной динамике С. exaratus было отмечено три постепенно убывающих пика напочвенной активности. Первый, наибольший, подъём активности наблюдался со второй декады мая и продолжался около трёх декад. Максимальная уловистость в этот период достигала 38 экз./10 л.-с. После непродолжительного спада в первой половине июля отмечался второй пик напочвенной активности, примерно в два раза меньше первого. Эти периоды высокой активности сменились её спадом, в конце июля -начале августа. К концу августа уловистость повысилась и достигла 14 экз./10 л.-с. В течение сентября - октября наблюдалось неравномерное снижение активности, практически прекратившейся к третьей декаде октября. Весенний максимум уловистости в равной мере обусловлен активностью обоих полов, а последующие подъёмы активности определялись либо самками (конец июня - начало июля), либо самцами (осенний период).
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ (рис. б, справа). В течение сезона были зарегистрированы особи всех возрастных групп. Первыми во второй декаде апреля отмечены постгенеративные особи. Их количество постепенно возрастало и достигло максимума в конце мая.
В первой декаде июня и третьей декайеииюйяАотмечены два кратковременных снижения активности, не повлиявшие на общую картину уменьшения уловистости постгенеративных особей. С конца июля постгенеративные самки попадались единично, тогда как количество самцов этой возрастной группы оставалось неизменным.
В конце апреля были отмечены первые имматурные самки, их количество оставалось примерно на одном уровне до второй декады июля. Затем в течение двух декад их количество достигает максимума и начинает снижаться. Имматурные самцы регистрируются с третьей декады мая до конца июня, их активность остается стабильной в течение всего этого периода. Последние имматурные особи зарегистрированы в конце июля.
Динамика уловистости генеративных особей носит более сложный характер. После небольшого подъёма в мае - июне отмечен спад активности в течение пяти декад. С третьей декады июля и до конца октября генеративные особи сохраняют довольно высокие показатели активности, достигая максимума в августе-сентябре. Таким образом, напочвенная активность генеративных и постгенеративных жуков охватывает большую часть сезона, причём в первой половине преобладают постгенеративные, а во второй - генеративные особи. При этом во второй половине сезона напочвенную активность сохраняют только постгенеративные самцы, а самки не регистрируются.
Для ювенильных особей отмечен наименее продолжительный период активности - с середины мая до середины июля при наиболее высоких значениях уловистости 17 экз./л.-с, более чем в два раза превосходящих уловистость генеративных жуков.
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА УЛОВИСТОСТИ (рис. 7, слева). Сезонная динамика численности С. cumanus характеризуется высокими показателями активности в весенний период и низкими - в течение лета и осени. В апреле-мае регистрируются два подъёма активности сопоставимой величины. Первый длится три декады (с середины апреля до середины мая), а второй — две (с середины мая до начала июня). Уловистость в эти периоды достигает максимальной значений за сезон и составляет 7 экз./10 л.-с. Летом периоды повышенной активности регистрируются в первой и третьей декадах июня. Они значительно меньше весенних и уловистость не превышает 1 экз./10 л.-с. Осенью активность практически прекращается - после середины сентября была поймана только одна особь С. cumanus. В течение всего сезона активность обоих полов почти одинакова.
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ (рис. 7, справа). В течение весеннего периода активности в популяции С. cumanus были отмечены только генеративные и постгенеративные особи. Максимум уловистости первых пришелся на начало мая, а вторых - на одну декаду позже. При этом среди генеративных жуков незначительно преобладали самки, а среди постгенеративных — самцы. В целом график динамики активности постгенеративных особей запаздывал по отношению к генеративным на 1-2 декады. Это позволяет считать, что зимуют преимущественно генеративные и имматурные особи. Лето и осень были периодом низкой напочвенной активности С. cumanus. Единичные имматурные жуки регистрировались в июне - августе, один ювенильный самец был пойман в первой декаде августа.
Реконструкция жизненных циклов модельных видов
Реконструкция жизненных циклов основана преимущественно на наших данных по динамике демографической структуры популяций. Эти сведения позволяют установить сезонную периодичность ключевых событий, определяющих тип и характер протекания жизненного цикла: состояние популяции на зимовке, период размножения и появления имаго нового поколения. Личинки большинства модельных видов плохо учитываются стандартными ловушками, поэтому сведения о сроках их развития фрагментарны и имеют вспомогательное значение.
Кроме того, учитывались литературные данные о лабораторном развитии личинок модельных или близких к ним видов (Касандрова, 1973; Bracht-Jorgensen, Toft, 1997; Thiele, Krehan, 1969;). Однако предпочтение отдавалось работам, содержащим не столько данные о длительности развития преимагинальных фаз, сколько о сроках нахождения их в природе (Душенков, Черняховская, 1990; Маталин, 1997; Aleksandrovich, 1988; Basedow, 1994; Briggs, 1965; Desender, Alderweireldt, 1988; Hartke, Drummond, Liebman, 1998; Hatvani, Kadar, 2002; Kabacik-Wasylik, 1970; Lovei, 1985; Lovei, Monostori, Ando, 1985; Saska, Honek, 2004; Tietze, 1973; Wallin, 1987; Zangger, 1994).
Для большинства видов сезонная характеристика развития личинок оценивались также по нашим сборам и материалам, хранящимся в коллекции кафедры зоологии и экологии МПГУ. Эти сведения приведены в Приложении 2. Для нескольких мало изученных видов (С. exaratus, С. cumanus, P. fornicatus) это был единственный источник сведений о сроках развития личинок в природе.
Схемы жизненных циклов представлены в виде кольцевых диаграмм, отражающих периоды активности жуков разных репродуктивных состояний (Рис. 17). За период яйцекладки принято время обнаружения самок со зрелыми яйцами. Сроки развития личинок и куколок, установленные по отрывочным, косвенным или литературным данным, изображены на схемах в виде не закрашенных секторов. Carabus (Megodontua) exaratus Quensel, 1806 Репродуктивный период С. exaratus занимает до трёх месяцев и приходится на конец лета и осень (рис. 18) . Популяция в это время представлена преимущественно генеративными особями, а доля постгенеративных имаго мала и не возрастает, а уменьшается к осени (рис. б) .
Это может означать, что кладка яиц сильно растянута во времени и может происходить и непосредственно перед уходом на зимовку. Осеннее размножение и длительность периода яйцекладки предполагает зимовку на стадиях как личинок разного возраста, так и имаго.
Перезимовавшие имаго представлены исключительно постгенеративными особями. Их активность заметно повышается в первой половине лета, что, вероятно, связано с подготовкой к повторному размножению и накоплением питательных веществ.
По материалам коллекции МПГУ личинки первого возраста встречались в природе со второй декады августа до середины ноября. Личинки второго возраста регистрировались с первой декады сентября и до середины ноября. Личинки третьего возраста отмечались и осенью - с первой декады сентября до середины ноября, и весной - со второй декады апреля до середины мая. Зимовка на личиночной стадии согласуется с данными по динамике откладки яиц этого вида.
Из перезимовавших личинок жуки нового поколения выходят в течение мая - июня, причём максимумы активности ювенильных и имма-турных особей смещены примерно на декаду (рис. 6) . В течение июля наблюдается снижение активности особей всех возрастов и краткий период эстивации проходят имматурные и постгенеративные особи, приступающие к размножению в августе. Судя по значениям уловисто-сти, доли зимовавших жуков и «сеголеток» в период размножения близки.
Таким образом, жизненный цикл С. exaratus является одногодичным с летней эстивацией имаго, летне-осенним размножением, зимующими постгенеративными имаго и личинками. Carabua (ЕисагаЬив) ситапив Fischer-Waldheim, 1823 XII
Период размножения в популяции С. cumanus приходится на весну начало лета (рис. 19) . В это время в популяции регистрируются в основном генеративные и в малом количестве постгенеративные особи (рис. 7).