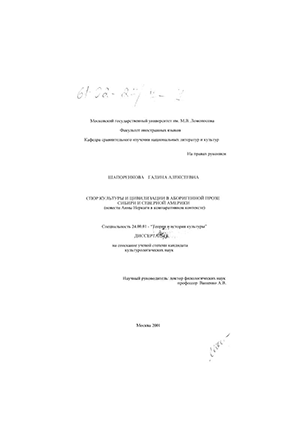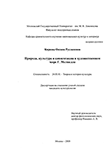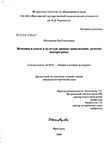Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Открытие "маргинального героя": повесть "Анико из рода Ного" в свете североамериканских аналогов 23
Глава II. Социально-философские грани конфликта (Повесть "Илир"). Проблема этноистории по обе стороны океана 48
Глава III. Исцеление традицией: народная система ценностей в катастрофическом мире (повесть "Белый ягель" в сибирском и североамериканском литературном контексте) 69
Глава IV. Повесть "Молчащий". Смысл Апокалипсиса в аборигенной прозе Сибири и США 94
Глава V. Этнический писатель: конфликтный синтез традиционной культуры и цивилизации 117
Заключение 134
Библиография 139
- Открытие "маргинального героя": повесть "Анико из рода Ного" в свете североамериканских аналогов
- Социально-философские грани конфликта (Повесть "Илир"). Проблема этноистории по обе стороны океана
- Исцеление традицией: народная система ценностей в катастрофическом мире (повесть "Белый ягель" в сибирском и североамериканском литературном контексте)
- Этнический писатель: конфликтный синтез традиционной культуры и цивилизации
Открытие "маргинального героя": повесть "Анико из рода Ного" в свете североамериканских аналогов
Уже первое произведение писательницы обратило на себя особое внимание российской (тогда советской) критики. Повесть "Анико из рода Ного" принадлежит 1970-м годам (полностью она была опубликована в 1976 г.), когда, по мере движения в глубь "застойных" лет рождалось все больше серьезной, проникнутой критическим духом литературы. Коснулось это и малых народностей Сибири. Конечно, любопытно то, что к моменту появления Неркаги как ненецкой писательницы ненецкий мир, столь радикально отделенный километрами и столетиями от большой земли и магистральных путей развития цивилизации, уже получил ряд своих первых летописцев коренного происхождения.
О своем народе первымы создали произведения Н.С. Вылка (19117-1942/44), Тыко Вылка (1894/96 -1960), затем Л.В. Лапцуй (1932-1982) и В.Н. Ледков (1933-). Роль этих авторов в развитии аборигенных литератур Сибири важна тем, что они первыми - собственной судьбой и творческими исканиями - встали на путь соединения традиционности и современности. Все они разные - и по творческой судьбе, и по дарованию. И тем не менее, при всей важности личностного вклада этих первооткрывателей тундровой реальности, широкому читателю трудно - а быть может, и не суждено было - войти с их помощью в мир ненецкого сознания, ощутить насущность исторической преемственности и конфликтность изображаемого, наконец, общечеловеческую важность ненецкого мира. Эти люди так или иначе явились продуктом своей эпохи, взявшейся радикально переустраивать мир; они приняли ценности, провозглашенные революцией, и произведения их оказались слишком подражательны по форме и советизированы по духу; наконец, их привлекала иная проблематика. И тем не менее, произведения эти трудно публиковались. Может быть, самым ярким и самобытным феноменом среди них был Тыко Вылко, который все же известен больше как одаренный художник, нежели как автор. Однако, учитывая тенденции времени и типологическую чужеродность вступающих в синтез компонентов, все литературные попытки такого рода могли быть лишь началом в раскрытии ненецкого мира как общечеловеческой проблемы, близкой каждому: благоприятные стороны жизни оленеводов тундры, входивших в цивилизацию, идеология приоритета последней над традиционностью, и бесконфликтность культурного контакта заслоняли пока что видение писателями своего материала. Да и трудно еще назвать их в полном смысле таким именем: самый тип аборигенного писателя только формировался. Впрочем, этот этап освоения первыми ненецими литераторами своей культуры еще ждет адекватного освещения в критике. Здесь возможны переоценки и находки. Архив Тыко Вылки, например, по свидетельству В. В. Огрызко, даже не до конца изучен ( 35; 25 ). Как бы там ни было, вследствие наметившегося отрыва этих авторов от традиций собственной культуры они не смогли послужить существенным звеном в цепи историко-литературной преемственности между народной традицией и поколением Неркаги. Поэтому и сама Неркаги начинает путь к собственной культуре как бы "с нуля".
Творческая история "Анико" охватывает период с 1975 по 1982 г, когда повесть наращивала свой окончательный объем, и из журнального варианта вырастала в книгу.
Обращает на себя внимание неповторимый тон повести Неркаги. "Анико" легко счесть самой "приглушенной" по проблематике из всех повестей Неркаги, однако такого впечатления при знакомстве с нею просто не может возникнуть: напротив, особенность произведения - его откровенная проблемность, напряженность тона, внутренняя конфликтность, трагичная философичность.
Сюжет повести посвящен судьбе молодой ненки Анико из старинного рода Ного, возвращающейся из университета в тундру при известии о смерти матери. Чрезвычайно показательно, что письмо с трагической вестью было далеко не сразу прочитано ею, а отложено в сторону как дело второстепенной важности. Поэтому путь "домой" начинается с шокового чувства трагического "опоздания" - конечно, речь идет о похоронах матери, но подспудно это сопровождается ощущением историко-культурного "опоздания" героини. Свидание с отцом и с тундрой, давно оставленными и прочно забытыми, вырастает в центральное событие повести и становится поводом к раскрытию героиней (и автором) ключевых проблем, характерных для любого выходца из среды коренных народов Севера.
В самом деле, повесть поражает многопроблемностью и многоконфликтностью, которая отныне станет приметой творчества Неркаги. Сама писательница вольна ныне оценивать свою первою работу придирчиво (в личных беседах она неоднократно высказывала о ней резкие суждения, обусловленные, думается, современными пристрастиями автора, проделавшего за последние годы разительную эволюцию). Позиция критика должна быть, думается, более взвешенной. Суметь сказать так много в небольшом по объему произведении, и сделать этот так глубоко, как это удалось Неркаги, способен далеко не всякий писатель. Практически же к тому моменту этого не удалось никому другому, а по силе художественного обобщения с "Анико" из аборигенных авторов можно сравнивать разве что только Айпина. Поэтому повесть об Анико следует считать этапным произведением в развитии литератур коренных народов Севера России.
Без сомнения, важно и показательно, что "Анико" представляет собой, пусть и хорошо завуалированное, автобиографическое произведение; это отсылка к мучительному жизненному выбору, сделанному некогда самой Неркаги (имя героини - Анико - прозрачно указывает на эту связь). Анико находится в повести на распутье, и когда она, навестив отца и родичей своего народа, в финале покидает стойбище, читателю не дано знать, вернется ли она обратно. Однако значительно важнее, - этой проблеме повесть как раз и посвящена - что в Анико показано мучительное пробуждение глубинного этнического самосознания ненецкой девушки, нашей современницы. Глубинный и самый главный смысл повести состоит в открытии этого чувства, в откровении, рожденном свиданием с традиционным миром, и - как следствие - в обнаружении кардинальнейших проблем, связанных с этим самым главным открытием - с принадлежностью к роду Ного. Что делать с таким открытием -героиня еще не знает; мы вместе с автором покидаем ее на жизненном перекрестье. Однако в сопряжении индивидуальной судьбы с народной уже заложен важный рубеж, обретенный героиней. Анико понимает, что от нее, хочет она того или нет, теперь зависит будущая жизнь - или смерть - некогда славного рода. Из мира радужной безответственности героиня попадает в мир, отношения в котором строятся только на ответственности за родственную или собственную душу.
Примечательность повести состоит во многом в ее жанровом своеобразии - а именно, в присутствии автобиографической канвы. Автобиографический опыт составляет, очевидно, некую закономерность в становлении прозы коренных народов Сибирского Севера, что проявилось с достаточной отчетливостью еще в советский период. Уже тогда синтез личного и этничного - открытие в личном опыте путей становления народа - проявился в творчестве юкагира Улуро Адо и удэгейца Джанси Кимонко, ханта Еремея Айпина и ряда других. А вскоре по пути "Анико" Неркаги двинулась и эвенкийка Галина Кэптукэ, чья повесть , "Имеющая свое имя, Джелтула-река"(1982) убедительно продемонстрировала продолжение той же традиции. Очевидно, существует некая диалектика художественного слияния автобиографического и этнического начал, взаимопроникновение личностного и этноисторического, в процессе становления любого аборигенного писателя.
Для того, чтобы очертить историю народа, ее следует пропустить через свой собственный опыт. Так это происходило и происходит, кстати, среди современных писателей-индейцев в Северной Америке, а возможно, и среди других авторов аборигенного происхождения, какую бы этническую традицию они ни представляли. "Всякое представление о предках или потомках есть лишь представление о самом себе" - такова формула этого феномена, испытанная на себе Н. Скоттом Момадэем, написавшим даже две разноаспектных "автобиографии" такого рода - "Путь к Горе Дождей"(1969) и "Имена" (1977). Некоторые их аспекты, в свете автобиографической канвы "Анико", представляются особенно примечательными.
В первой книге Момадэй повествует о путешествии, совершенном им по территории ряда "степных" штатов США, чтобы проследить путь исторической миграции своих предков, племени кайова. На протяжении этой миграции его племя претерпело коренное преображение: "В конце XVII столетия они начали долгое странствие на юго-восток.... Они обрели лошадей, и их древний бродяжий дух внезапно оторвался от земли. ...Не последним было и обретение чувства судьбы, а отсюда - отваги и гордости.... Отныне не были они рабами нужды да простого выживания - это было благородное и опасное сообщество воинов и конокрадов, охотников и солнцепоклонников. По мифу о Первотворении, кайова вступили в мир через полый древесный ствол. В известном смысле, странствие их стало следствием этого древнего прозрения, ибо они и в самом деле вышли из небытия" (11; 30). Однако потребовалось странствие самого Момадэя, чтобы оказалось возможным духовное единение автора со своим наследием и отражение его в художественной форме. Повествование Момадэя, новаторское по характеру, выдержано в трех планах: мифологическом (народные предания), историческом (событийные вехи), и личностном (воспоминания, лирический комментарий). Любопытно, что по мере развития повествовательного "странствия", все три плана, поначалу обособленные, начинают сливаться в единый поток: синтез личности и культуры состоялся.
Социально-философские грани конфликта (Повесть "Илир"). Проблема этноистории по обе стороны океана
Вторая повесть Неркаги в значительной мере выдержана в духе социального конфликта, однако он составляет лишь внешний план повествования; общее содержание произведения гораздо шире. Предметом изображения писательницы здесь становятся неравенственные отношения в среде ненецкого населения в период становления советской власти. Все остальные аспекты проблематики произведения, можно сказать, "стянуты" к этому основному. Таким образом, один важный конфликтный уровень произведения является отчетливо социальным.
Более пристальное прочтение повести, однако, выявляет и второй, нравстввенно-философский уровень конфликта: отчего возникает неравенство, каковы его пределы и каково происхождение? Какова истинная природа человека? Как, благодаря чему можно сохранить в себе человечность - даже в самых безысходных условиях?
В структуре повести противостоят два семейства: богатое семейство ненца Мерчи, его сына Маймы, и обездоленное, лишенное кормильца семейство малолетнего подростка Илира, который вскоре остается полным сиротой; в сюжете повести выведено и немало других социально зависимых пастухов-ненцев. Неравенственный антагонизм завязывается в тугой узел. В основании его заложена пролитая кровь; мы узнаем, что Майма предательски погубил отца Илира и стал любовником его матери, насильно овладев ею. Этот персонаж является живым воплощением собственности, воинствующего эгоизма, произвола сильного, он тоже не до конца объясним только социальными причинами. Создавая этот образ, Неркаги достигает большой степени символического обобщения: речь идет не просто о классовом антагонизме, но о типе личности, пораженной извечно-безудержной алчностью. Просто в "Илире" эпохой проявления этого качества становится пора глубинных потрясений, когда пороки и добродетели проявляют себя в крайностях.
В повести "Илир" сильнее всего выделен оленеводческий аспект ненецкой культуры. Богатство ненца заключено в его оленях, что неоднократно подчеркнуто в произведении: "Без стада человек никто! Червяк, просто червяк" (15; 123). Вопрос заключается, однако, в том, чтобы отделить два понятия: необходимой достоточностии от богатства. Суровый быт тундры диктует собственные, отмереные опытом веков, законы. Сама Неркаги, например, поначалу была твердо убеждена, что в современных условиях ненцам следует ограничивать личные стада. Впоследствии, однако, оказалось, что после интерната "она просто раньше не знала уклада своего народа", исходя в своих суждениях о нем из европейских оценок: "Но вот когда она сама стала кочевать, то очень скоро на собственной шкуре испытала, что 70 голов - это только для того, чтобы семья с голоду не сдохла. Если власть заинтересована, чтобы каждая живущая в тундре ненецкая семья имела средний достаток, ей надо разрешить содержать от двухсот до трехсот оленей. Больше - уже нельзя. Как гласит давнее поверье, нужно иметь ровно столько оленей, сколько собака сможет собрать и пригнать к чуму." (56; 21). В противном случае, как видно из повести, необходимо нанимать пастухов-батраков.
Некоторые поздние высказывания Неркаги об "Илире" особенно важны для нас - они проливают свет на замысел повести. Она, в частности, пишет: "Я не хотела никакой политики. После нудного труда, каким явилась для меня первая повесть, всегда хочется чего-то легкого. И я буквально на одном дыхании сочинила повесть "Илир" про мальчика-уродца, который своей судьбой доказал, что земля и человек - едины. Но я уже была настолько советским человеком, что писать просто так не могла. Мне потребовался фон. Поэтому судьбу своего героя я наложила на события гражданской войны. Хотя, еще раз подчеркну, меня тогда менее всего интересовали проблемы классовой борьбы в тундре." (56; 19). Хотя свет увидел первоначальный, более социально ангажированный вариант повести, в нем все же сохраняются следы замысла, "приложимого", по словам автора, "не только к 20-м годам, но и ко всем временам" (56; 19). Что же, произведение получилось таким, как оно "написалось", и задача критика - оценить его по возможности объективно. Как нам представляется, противоречия между социальным и философским аспектами проблематики повести не существует. Советская власть - не случайно она названа "Красной нартой" - то есть, парадной, праздничной упряжкой, - предстает, как символ кардинальных исторических перемен, символ смены эпох, а фактически - противоречивого процесса приобщения традиционной культуры к цивилизации. В этом смысле она не ограничивает, а выводит повесть на более широкий, символичный уровень.
Этот "вневременной" уровень проблематики - нравственно-философский, обращенный на исследование должного и недолжного бытия, связан с попытками понять столкновение извечных сил в человеческой природе - добра и зла, любви и сострадания - и эгоизма с основанным на нем насилии; стяжательства и алчности - душевной щедростью, готовностью к самопожертвованию.
Все разрушительное, что несет в себе дух эгоизма, воплощено автором в образе Маймы. Владея тысячами оленей, Майма считает себя не только хозяином тундры, но, как прежде его отец Мерча, возомнил себя единоличным хозяином жизни. Поэтому все последующие свои несчастья он воспринимает не как наказание за грехи, а как случайные неудачи, либо видит в них козни злонамеренной "Красной нарты" - советской власти. Фатальная гибельность позиции Маймы проявляется довольно быстро, и если она, по мере развития повести, все более проясняется читательскому суду, то самому Майме это остается неведомо. Так, на первых страницах повести умирает мать Илира, наложница Маймы, вместе с новорожденным младенцем, о котором тот не удосужился позаботиться, хотя даже в рамках собственнической психологии должен был бы помочь сыну как продолжателю рода. Свою неуемную злобу Майма переносит и на вторую жену, так и не принесшую ему сына Повесть постепенно превращается в серию наказаний Маймы за жестокость, проявленную к другим и к жизни вообще. Ожесточаясь, Майма отрекается от прошлого (идолы) и будущего (Красная нарта) - он останавливается во времени, отделяясь от жизни. Чувство собственничества так сильно в Майме, что заслоняет от него все остальное. Посреди любых невзгод он способен все забывать, лицезрея собственное богатство - оленей. И самая гибель приходит к Майме от оленей: Илир направляет бегущее стадо на своего хозяина. Предмет неуемной алчности Маймы, олени на деле являются воплощением жизни - в смысле естественной дикой природы и в смысле поддержания жизни ненца. Таким образом, сама жизнь сметает Майму прочь.
На противоположном полюсе социально-нравственного конфликта находится сирота Илир, лишенный практически вссего, необходимого для выживания.
Образ Илира - это объемный характер в его личностном становлении. Поэтому на психологическом уровне тема повзросления Илира - это тема инициации юноши в мир, тема испытания характера на прочность и человечность. Дополнительная сложность судьбы Илира заключается в том, что его конкретно-историческая инициация приходится не просто на очередную смену поколений и обстоятельств, пусть и осложненных имущественным неравенством и насилием; его вступление в мир совпадает с наступлением новой власти в России, и смена двух эпох вносит катастрофический элемент в судьбы обитателей тундры.
Однако и весь мир XX века предстает в повести как сфера действия весьма жестоких законов, исполнителями которых являются сами люди. Вообще, мысль о том, что человек сильно отошел от естественных законов природы, не будучи выражена в явном виде, все же отчетливо присутствует в повести. По мере исторического разития человечества нарастает его нравственная недостаточность, и Природа как бы отступает от него. Практически каждый характер "Илира" по-своему иллюстрирует эту мысль об отчуждении человека от Природы. Мерча сам избирает себе кумира, не задумываясь о последствиях; Майма подменяет своими желаниями всякую природу; Хон возвращается к первобытной гармонии только через смерть, прозрев истину о том, что человек и Природа чрезвычайно далеки друг от друга. И лир, сталкиваясь с последствиями этого отчуждения, находит подтверждение своим мыслям в сказке-притче о голубых великанах.
Жестокие законы, воцарившиеся в мире, созданы человеком; их доходчиво открывает бедняку Илиру старуха Варнэ: "Небо не шкура, им не укроешься, сынок. Оно тоже жестоко, как люди... Человек - это камень среди камней" (15; 136). И далее: "Человек - это остро отточенный нож. Если не хочешь пораниться, будь ножом, отточенным с двух сторон" (15; 137). В сущности, здесь на Природу перенесены социальные отношения, характерные для мира людей; посредством народной мудрости формируется самобытная картина этноистории.
Наиболее детально проработана в повести проблематика, сталкивающая в сюжете образы Маймы и Илира.
Линия Мерчи/Маймы - несомненно, одна из главнейших в произведении. Мерча, затем его сын Майма стремятся к приумножению своего богатства (а значит, власти), причем не только в своей жизни, но и впрок - поэтому так страстно жаждут они самосохранения в детях, к которым их богатство должно перейти. Ради этого Мерча спасает сына Майму от кары за убийство старика Сэротэтто, беря вину на себя; ради этого берет себе молодую жену Майма, требуя от нее наследника. Однако эти замыслы самою жизнью обречены на провал - из-за жестокости и эгоизма самого Маймы. Ведь не дети, а богатство стали главной целью его жизни.
Исцеление традицией: народная система ценностей в катастрофическом мире (повесть "Белый ягель" в сибирском и североамериканском литературном контексте)
Между "Илиром" и третьей повестью Неркаги прошло немало лет - они сопровождались имущественными и семейными переменами, были связаны с мировоззренческими изменениями в жизни писательницы, и прежде всего, очевидно, с напряженными поисками собственного пути между традиционным образом жизни в тундре и жизнью "внутри" цивилизации. Ее давний наставник К. Лагунов, предоставивший в свое время Неркаги путевку в большую литературу, в письме к автору убеждал: "Твой "Белый Ягель" написан почти пятнадцать лет назад. Полтора десятилетия возила ты рукопись по тундре... Живя в нормальных, цивилизованных, условиях, за эти годы ты написала бы минимум пять таких повестей, а может, и романов. Подумай, какой урон нанесла ты духовности своего народа, всероссийской культуре за эти пятнадцать лет кочевой жизни" (15; 5). Нельзя не согласиться с этим суждением, однако Неркаги так и не сделала выбора в пользу цивилизации; все эти годы она в основном жила в фактории Лаборовая в Байдарацкой тундре, редко появляясь даже в Салехарде, где у нее есть квартира. Годы роботы над "Белым ягелем" были кризисными - об этом имеются красноречивые свидетельства самой Неркаги, проливающие свет и на природу кризиса: "Я тогда еще не понимала, что, по сути, за меня повели борьбу сразу два мира: один мир олицетворял Лагунов, а другой - мои тундровые соплеменники." (35; 510).
Другими словами, можно видеть, что с течением времени в судьбе Анны Неркаги спор между традиционной культурой и цивилизацией постепенно подобрался уже к святая святых - области художественного творчества. Как разрешить поставленную самой жизнью проблему? Кто здесь прав - критик или автор? Совершенно очевидно, что спор идет, конечно, не просто о личных качествах характера Неркаги (хотя и это вопрос в общем-то непростой). Речь идет о типе писателя, выбравшего традиционный образ жизни и мучительно ищущего устойчивого положения, гармоничной грани между культурой и цивилизацией. В такой ситуации можно понять и критика, и автора - но понимание не способствует разрешению серьезнейшей социо-Культурной проблемы, стоящей не только перед Неркаги, но и перед множеством ее коллег - сибирских писателей коренного происхождения - Галиной Кэптукэ, Еремеем Айпиным, Юрием Вэллой и рядом других. Убеждая Неркаги, Лагунов продолжает: "Мировая история не знает писателя-кочевника. Эти два понятия несовместимы. Они взаимоисключают друг друга. У тебя впереди еще достаточно лет, чтобы реализовать данный тебе Богом дар... Кончай кочевать. Садись за письменный стол. Пиши. Пиши..." (15; 6). Новая повесть Неркаги красноречиво, на нескольких уровнях, отражает эту кризисную жизненную дилемму.
Хотя "Белый ягель" по объему меньше предшествующих повестей Неркаги, это произведение философичнее, глубже смыслом, насыщеннее мыслью, чем все написанное ранее. Уместно напомнить, что Неркаги постоянно перерабатывала и отшлифовывала текст в течение ряда лет - уже это, в сравнении с "Илиром", должно подать нам знак о том, что новое произведение чревато конфликтной думой и отмечено программностью. Историко-культурное перепутье словно заставило здесь автора собрать воедино систему народных ценностей как бастион в деле выживания традиционной культуры в ее конфликте со "временем" - то есть, с требованиями цивилизации, под которой уже необязательно понимать только русскую действительность, но и шире - тенденцию мирового развития (этот последний аспект, правда, еще не очень резко означен в повести).
Отправной точкой всех конфликтов в "Белом ягеле" становится время выбора - а оно способно прийти к человеку в любой момент; вместе в с тем, как уже было сказано, это и конкретная историческая эпоха (современность), как никогда, взывающая к самоопределению культурному, к выбору позиции перед ликом традиций, веков, поколений. Тема выбора присутствует в сюжетике повести на нескольких уровнях.
Во-первых, это тема выбора любимой женщины главным героем, молодым ненцем Алешкой. Она погружает нас не только в размышления о конфлике традиционных ценностей и цивилизации, но выводит па тему отношений матери и сына, и вообще на глобально-мифологический уровень сочетания и противостояния мужского и женского начал.
Во-вторых, это весьма болезненная тема выбора между моралью (долгом) отцов и детейЮ то есть, проблема преемственности поколений (Пэтко и позабывшая о нем дочь, Хасава и его эгоистичные дети).
И, конечно же, это тема выбора верного жизненного пути - на основе народной нравственности, которая смыкается у Неркаги с общечеловеческой. Надо сказать, что в такой постановке вопроса обычно и заключается точка зрения всякого значительного аборигенного писателя: в его творчестве происходит проблемное сопряжение народного наследия с общечеловеческим, испытание одного начала другим, для того, чтобы сделать видимой одну простую истину. Как говорит об этом американский писатель Томас Санчес, "В путях уходящих - пути грядущих". Иначе говоря, в освоении уроков наследия традиционных культур - залог выживания цивилизаций.
Конечно, главная тема в сюжете повести - это коллизия, связанная с Алешкой. Сюжет "Белого ягеля" начинается со свадьбы. Мировая фольклорная и литературная традиции показывают нам, что тема сватовства -по своей природе фольклорная, даже героико-эпическая. Она призвана выявить всеобщую масштабность происходящего союза, обеспечивающего грядущее благополучие роду через единение его наилучших представителей.
В случае с Алешкой, однако, все происходит "неправильно" - и это связывается, конечно, с "неправильностью" современной эпохи, в которую живут герои. Перед нами - очень глубокая и многогранная сквозная метафора. О "недужном" состоянии современного мира говорится довольно прозрачно: "Обманчивая тишина замерла... за пологом. Тишина обнимала мир. Мир, не знающий, что он безнадежно болен" (15; 70).
Общего торжества на свадьбе не получается, поскольку у участников отсутствует чувство гармонии с окружающим (и с собой); причина заключается прежде всего в том, что такого чувства нет между женихом и невестой. Однако на примере общинных социумов особенно заметно: когда страдает один человек - страдает весь род. В данном случае причина конкретна- она заключается в том, что Алешка тайно продолжает любить Илне, дочь ненца Пэтко, безвозвратно покинувшую стойбище ради благ цивилизации. О ней остаются одни болезненные воспоминания - она так и не появится, за исключением одной ретроспективной сцены, на страницах повести. Таким образом, тема свадебного союза принимает в сюжете еще один символический аспект - болезненного выбора между цивилизацией и культурой. В "Анико" этот выбор рождается "маргинальным сознанием" героини. В "Белом ягеле" конфликт между личностным сознанием Алешки, влюбленного в Илне, и требованием традиции, основанном на опыте жизни, занимает одно из центральных мест в повести. "Маргинальность" героя здесь, можно сказать, принимает нестандартный вид. Алешку трудно обвинить в нерешительности: его нравственные муки (конкретная любовь к Илне или традиции племени, требующие женитьбы на другой девушке) происходят не от раздвоенности, а от цельности героя - он верен своей былой любви так же, как глубоко верен себе и сородичам во всех случаях жизни.
Одно из важнейших художественых завоеваний Неркаги в "Белом ягеле" -сопряжение и психологический анализ мужского и женского мира. Мужской мир воплощен в Алешке- мы становимся соучастниками его внутренних страданий, драматических размышлений юноши, формулируемых им вопросов, на которые вряд ли легко найти ответ и за пределами повести. Параллелями к этому характеру выступают еще три, каждый привнося собственную тему: Пэтко, Вану и Хасава.
Женский мир воплощен главным образом в матери Алешки - читатель проникает в мир ее надежд и скорбей, тревог и радостей. Образ матери, можно сказать, композиционно и идейно "держит" всю повесть. Он исполнен большой художественной силы, играющей в хаотичном мире стабилизирующую роль. В "Анико" образ матери важен, но все же перифериен; мать Анико звали Некочи, ей автор присвоил конкретное имя. Здесь та же тема усилена многократно; и поскольку материнство - основная движущая функция образа, конкретное имя матери Алешки остается за строкой произведения. Мать воплощает извечные законы бытия - великое дело сотворения и сохран ения жизни. Поэтому она способна по-родственному доверительно говорить с огнем, символом-охранителем дома, общаться с Мяд-пухучей, Хранительницей Чума. Она неоднократно в повести отождествляется с землей, словно соотносясь с высшим божеством ненецкого пантеона - Яминей, которая выполняет роль Мировой Матери. Образ матери Алешки вырастает до мифологических, всеобщих пропорций. Она выступает во множестве функций - матери, свекрови, жены-подруги (в воспоминаниях о былом замужестве), мудрой наставницы. Повесть содержит немало программных строк, связанных с матерью.
Этнический писатель: конфликтный синтез традиционной культуры и цивилизации
Анализ творчества ненецкой писательницы Анны Неркаги заставляет нас обратиться к самому феномену этнического писателя, позволяя увидеть в нем современный конфликтный синтез, к которому привели сложные многовековые отношения между традиционной культурой и цивилизацией.
Сам по себе конфликт этот исторически обозначился уже давно. Применительно к западноевропейскому историко-литературному контексту можно указать, по крайней мере, на несколько таких межкультурных конфликтных противостояний. Все они, надо сказать, имеют многовековую историю и нашли в XX веке свое отражение в художественной литературе.
Одним из самых жестоких оказался процесс завоевания европейцами африканских традиционных культур и древних африканских цивилизаций, выразившийся, в своем крайнем виде, в институте работорговли. Железная цепь, сковавшая представителей разных африканских племен, территорий, языков, в ходе многовековых лишений привела не только к плачевным последствиям - гибели многих миллионов людей, к дисперсии африканского населения (Европа, Северная и Латинская Америка), к утрате этнокультурной самобытности; но и к неожиданному культурному "реверсу": благодаря афро-американскому этническому элементу стран Латинской Америки, карибского региона и США, началось культурное "завоевание" Европы и всего мира средствами афро-американской музыкальной традиции, танца и художестввенной литературы. Во второй половине XX века литературоведы и культурологи уже безоговорочно выделили в особую категорию афро-американскую компоненту современной культуры и литературы США, а литературная традиция "черных" не только выделилась в обеих Америках, но и с триумфом "вернулась" на африканскую почву, породив плеяду самобытных африканских писателей, в том числе и нобелевских лауреатов: Воле Шойинку, Чинуа Ачебе, Амоса Тутуолу, Айи Квеи Арму и других. Создавая свои произведения на языке "завоевателей" (английском или французском, реже португальском, когда речь идет о Латинской Америке - например, у Жоржи Амаду и Яана Кэрью), эти художники слова обнаруживают сильнейшее тяготение к собственным устным фольклорным корням, они выступают последовательными адвокатами народных традиций, отстаивая наследие традиционных культур, тоько делают это не языком теории, а художественного образа. И можно только удивляться тому, как в лоне современнейших техногенных цивилизаций (например, США) продолжают рождаться произведения, по ценностному спектру и культурной самобытности отражающие свою глубокую этническую традиционность.
Другой пример сходного историко-культурного конфликта представляет собой вторжение европейцев в тихоокеанский регион, породивший там многочисленные бикультурные синтезы, также нашедшие свое выражение в литературе: например, Новая Зеландия (литература маори) или гвинейская литература (в частности, Винсент Эри и др.) Правда, в мировой литературе этот пример остается по значения своему более маргинальным в сравнении с другими, из-за того,что литература там еще не набрала необходимого художественного потенциала. Однако это свидетельствует не столько об отсутствии традиций художественного слова, а скорее о наличии обстоятельств, способствующих сохранению традиционных (консерватывных) устоев, замедляющих становление литературы.
Третий пример касается завоевания европейцами североамериканского континента, о чем уже неоднократно упоминалось прежде - можно сослаться на значительную историческую литературу по этому вопросу . Важно только отметить, что и здесь, как во всех предыдущих случаях, жесточайшие вооруженные конфликты XVII-XIX веков привели в веке XX - м к становлению литературы "коренных американцев" в США и Канаде, отличающейся ясно различимым набором идейно-художественных характеристик .Здесь, как и во всех предыдущих случаях, писатели создают свои произведения на английском языке, используя, впрочем, отдельные элементы индейских языков и традиционного культурного наследия.
Наконец, последний пример касается русского освоения Сибири, завершившегося включением традиционных этнических культур Севера (их насчитывается 26) в систему российской государственности. Этот путь значительно отличается от предыдущих своею мягкостью и постепенностью, хотя и он не свободен от противоречий; с течением времени в нем также проявили себя элементы конфликта культуры и цивилизации. На протяжении XX века этот межкультурный контакт также увенчался созданием особого типа литератур - литератур коренных народов Сибири.
Вследствие того, что процесс образования литератур коренных народов стал развиваться сравнительно недавно, возник специфический комплекс проблем, связанных с языковым фактором. К нему относится билингвизм (там, где он существует); там же, где родной язык как таковой у этнического автора отсутствует, нередко в его произведениях ощущается присутствие традиционной среды носителей языка. В этом смысле можно говорить о присутствии "языкового" фактора в памяти писателя; порой это проявляется в наличии традиционных моделей устной речи, сказывается в образности, ритмике и т. д. Дополнительную сложность для туземного писателя - и для исследователя - представляют попытки приспособления традиционно устной речи под письменную (продукт цивилизации), создание искусственных письменных систем с целью обучения молодого поколения, и т. д.
Все эти обстоятельства, связанные с языковым фактором, возникают, конечно же, не случайно. Переход от устного слова (обладавшего главной ролью в культуре) к письменному (в условиях цивилизации превратившемуся ее в подсобное средство) означает смену мировоззрений, хотя эта трансформация происходит в рамках одного и того же языка. В современном мире сосущестуют, таким образом, социумы, живущие устным словом, и социумы, функционирующие посредством письменного слова. Это означает, что они пребывают в разных мирах, проживая не только на одной планете, но очень часто и в непосредственном соседстве, и, как правило, рационально не отдают себе отчет в своей принадлежности к разным мирам.
Если конфликт традиционных культур и цивилизаций исторически уже заявил о себе, то осознание его на уровне техногенных цивилизаций (Европейской, Американской и, быть может, в какой-то мере Русской, особенно в последнее время) представляет собой исключительно тенденцию XX столетия. Очевидно, что возникновение этнических литератур в названных выше регионах отражает все тот же конфликтный синтез, к которому пришли на новой стадии своего сосуществования, традиционные культуры и цивилизации. О своеобразии такого рода литератур можно сказать словами критика, посвященными литературе североамериканских индейцев: "Литература коренных американцев являет собой пример литературы, внутри которой за последние годы пришли к синтезу архаичные пласты народных культур (например, наследие родо-племенных традиций) со всем многоаспектовым уровнем представлений современного индустриального общества. Творческий индивидуум (писатель, живописец, музыкант) наших дней, не являясь, конечно, ни сказителем, ни знахаерм, ни шаманом или вождем племени, на деле поставлен в такую историческую ситуацию, при которой он не может не воспроизводить основы и принципы, не использовать творческие импульсы своей традиционной культуры, включающей многие черты народного мировосприятия, этических и эстетических норм и т.д. При этом возможна масса неповторимых вариантов, эволюционных стадий, вытекающих из своеобразия каждого конкретного случая. Очевидно, что синтез "архаического" и "современного" начал будет по-своему преломляться в литературах стран Латинской Америки, в странах Африки, в литературах Океании. Но при всех различиях, думается, можно говорить о некоторых общих чертах подобных литератур, которые проявляются в едином типологическом историко-культурном синтезе" (42; 350-351). С этой точки зрения, феномен "этнического писателя", относимый ко всем перечисленным случаям, заслуживает детальной научной разработки. В рамках данного исследования, по вполне понятным причинам, мы в силах осмыслить лишь важнейшие его параметры и только применительно к творчеству Анны Неркаги.