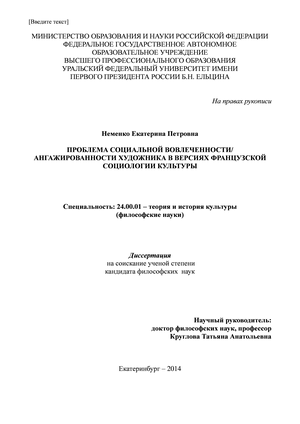Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Проблема ангажированности искусства в культуре модерна 23
1. Дилемма трансцендентного/социального в теоретической рефлексии. От кантианского субъекта к теории практик 23
2. Дебаты о политической ангажированности интеллектуалов: история концепта 38
Глава II. Социальная вовлеченность/ангажированность субъектов культуры во французской критической социологии 48
1. Теория полей: принципы структурирования и динамика французского литературного поля в период между мировыми войнами .48
2. Соотношение процессов профессионализации и политизации в поле культуры 57
3. Концепт авторской ответственности и теория полей 67
Глава III. Проблема политической ангажированности художника в контексте прагматического поворота 90
1. Эволюция методологии исследования ангажированности искусства: от теории полей к прагматике культуры .90
2. Новая проблематика политизации искусства: границы критики и демонтаж структурных оппозиций 103
3.Практики ангажированности художников: автономия искусства и демократический компромисс 112
Заключение .130
Библиографический список
- Дилемма трансцендентного/социального в теоретической рефлексии. От кантианского субъекта к теории практик
- Дебаты о политической ангажированности интеллектуалов: история концепта
- Соотношение процессов профессионализации и политизации в поле культуры
- Новая проблематика политизации искусства: границы критики и демонтаж структурных оппозиций
Дилемма трансцендентного/социального в теоретической рефлексии. От кантианского субъекта к теории практик
Проблема политической и социальной вовлеченности художника — относительно недавнее историческое явление, которое возникает в модерной парадигме искусства, начиная с эпохи Просвещения, когда происходят кардинальные изменения в структуре европейских обществ. Одним из центральных сдвигов с конца XVIII в. была трансформация институтов церкви и монархии в светское государство и возникшая в результате новая система разделения труда, резко усложнившая структуру общества. Бывшая практически безграничной, пронизывающей все общество власть религиозных институтов в новых условиях секуляризуется и распределяется в неравной степени между возникающими на рынке труда свободными профессиями. Точнее, за бывшие религиозные компетенции и область трансцендентного разворачивается острая борьба между несколькими профессиональными группами, среди которых — творческие и интеллектуальные профессии. Складывается новая конфигурация отношений искусства и общества. Впервые в истории искусство перестает быть частью религиозного и государственного институтов и отныне у него появляются, по крайней мере, два пути [63,c.17]. Первый путь - стать автономным социальным институтом, занять особую нишу на рынке труда наряду с другими профессиями, а значит, сформировать собственную профессиональную этику, которая бы обосновывала роль художника в новом обществе и несводимость творческих профессий к другим сферам деятельности. Установление автономии художественного мира означает введение и артикуляцию границы между утилитарным и прекрасным, между экономикой и искусством. Обе эти сферы, как мы знаем их сегодня, возникают в проекте модерна одновременно и благодаря наличию этой границы. Автономное искусство определяет себя через противопоставление утилитаризму и корысти буржуазии, сменившей аристократию Старого режима [138,140].
Второй путь у искусства внутри новой конфигурации социальных отношений - прислониться к более мощному социальному институту, и теряя в автономии, выиграть в статусе полезной профессии. Таким институтом оказывается политика в силу нескольких причин. Политика, как и искусство, противопоставляет себя экономике как бескорыстная деятельность, находящаяся на службе общих интересов. Политические дебаты составляют сердцевину формирующегося публичного пространства, разделяя граждан по политическим позициям и партиям. Поле политики, согласно Пьеру Бурдье, является местом репрезентации текущих властных отношений во всех остальных социальных пространствах и непрерывной символической борьбы за изменение расстановки сил [33,c.82]. Интеллектуалы вовлекаются в политическое поле как агенты поля символического производства, которым является искусство.
Искусство, вовлеченное в политическую борьбу, то есть образно символическими средствами воплощающее программу тех или иных политических сил, или поддерживающее в публичном пространстве те или иные политические программы, мы будем называть политически ангажированным искусством. Таким образом, политическая ангажированность понимается нами в рамках данного исследования как часть более общего исторического явления социальной вовлеченности художника. Можно выделить несколько аспектов ангажированности искусства: репрезентация политической идеологии в художественных произведениях; политические позиции самих художников, членство в политических партиях; третий аспект связывает первые два: организация поля искусства по подобию с полем политики, то есть сокращение автономии мира искусства.
Предмет диссертационного исследования — осмысление практик социальной и политической ангажированности художников в современной французской социологии культуры — нуждается в прояснении общего теоретического контекста, внутри которого данная проблематика начала развиваться. С одной стороны, с конца XIX века европейская социология как дисциплина формирует собственное проблемное поле, внутри которого искусство и трансцендентное являются важными ставками межтеоретической борьбы. С другой стороны, во французских социальных науках сформировалась собственная национальная традиция исследования интеллектуалов и интеллектуальной культуры, традиция, которая группируется скорее вокруг своего предмета, нежели метода или какой-то отдельной теории. В точке изучения интеллектуалов сходятся теоретические проблематизации многих исследовательских школ и проектов. Рассмотрим, как изменялся теоретический контекст исследования трансцендентного в истории социологической дисциплины.
Искусство и трансцендентное долгое время не были специальными объектами социологической теории, что связано как с исторической конкуренцией социальных наук и творческих профессий на рынке интеллектуального труда, так и с внутренними особенностями становления социологической дисциплины. Будучи центрированной вокруг проблематики действия и его смысла, ранняя европейская социологическая теория, зачастую переплетаясь с более развитой философией искусства, обращается к исследованию художественной деятельности с противоположных эпистемологических позиций. В немецкой социологии, как считается, закладываются основы социологии искусства в работе Макса Вебера «Рациональные и социологические основания музыки» [35]. Вебера интересует художественная деятельность для разработки категории особого типа действия, а именно, рационального действия, отсылающего не к цели, но к ценности. Понятие ценности рождается в ответ на необходимость осмыслить интенсивно идущие в Европе в XIX – нач. XX вв. процессы дифференциации, появление новых институтов и усложнение социальной структуры. Действие в соответствии с ценностью предполагает ответственного субъекта, который, делая выбор между требованиями разных институтов и нормативных комплексов, принимает самостоятельное решение. То есть ценность представляет собой механизм смыслообразования действия, в отличии от предъявления готового образца. Вебер формулирует понятие действия как осмысленного акта, за которым стоит автономный ответственный субъект: действием называется всякое деяние, недеяние и претерпевание, если действующий связывает с ним определенный смысл [40, c.60]. Смысл вырабатывается путем согласования различных институциональных и групповых требований посредством обращения субъекта к миру ценностей. Ценности — трансцендентальные структуры, где уровень априорности является уровнем общих, универсальных мнений. Этот уровень не дан в опыте, он, согласно Канту, вынесен за пределы актуального действия в сакральное, воображаемое, идеальное пространство и время [70].
Французская школа социологии, заложенная Эмилем Дюркгеймом, подходит к решению проблемы действия с другой эпистемологической позиции. Она также выносит смысл действия за пределы действия, но не в трансцендентальный мир ценностей, а в коллективное сознание. Среди трансцендентальных структур искусство, как и феномены морали, является «социальной реальностью во второй степени», то есть «репрезентацией, которую общество имеет о себе и своих институтах» [66].
Дебаты о политической ангажированности интеллектуалов: история концепта
Долгое время в силу причин, которые связаны с историческими условиями появления интеллектуалов, но также и с социальным и политическим использованием этой категории, эти отношения между художником и политикой резюмируются в понятии «ангажированность» (вовлеченность) – понятии, остающимся весьма туманным и имеющим этические коннотации. Термин «интеллектуал» возникает во времена дела Дрейфуса, то есть в период «стабилизации Республики и демократии», но со временем его использования он банализируется вплоть до потери смысла. Тексты, посвященные интеллектуалам, разрываются между «героической историей» и «литературой шельмования» (крайние примеры – «В защиту интеллектуалов» Ж.П. Сартра с одной стороны, и «Опиум интеллектуалов» Р. Арона, с другой). Такое использование термина «интеллектуал» сделало его этической репрезентацией отношений между интеллектуальным миром и политикой. Это долгое время препятствовало исследованию социологических условий привилегированных отношений между художниками и политиками [128, p.5].
Рассмотрим историю дебатов об интеллектуалах и ангажированности во французском обществе первой половины ХХ в. Пока феномен интеллектуала оформлялся, шла усиленная саморефлексия этой социопрфессиональной группы над своим местом и задачами во французском обществе. Условный отсчет истории интеллектуалов начинают со знаменитого «дела Дрейфуса» 1898 года, когда и был впервые использован термин «интеллектуал» в отношении авторов «Манифеста интеллектуалов» (Manifeste des intellectuals) [45,124]. «Манифест» представлял собой собрание протестов против несправедливого обвинения в измене Франции офицера Генштаба, еврея по происхождению, Альфреда Дрейфуса. Во время рассмотрения дела Дрейфуса 1500 журналистов, ученых, писателей подписали в период с 14 января по 4 февраля 1898 года в газете «Aurore» протесты против необоснованного осуждения Дрейфуса. Это были времена жестокой борьбы между защитниками Дрейфуса («дрейфусарами», преимущественно левого, социалистического политического направления) и его обвинителями («антидрейфусарами», которые по политическим взглядам были в основном представителями правонационалистических политических движений и партий). «Дело Дрейфуса» оказалось пусковым механизмом идеологических и теоретических дискуссий, длившихся во Франции в течение всего ХХ века. В этих дискуссиях тема социальной роли и статуса интеллектуалов заняла центральное место. «Дискурс об интеллектуалах» с самого начала принял моральное измерение: начиная с манифеста «Я обвиняю» Эмиля Золя интеллектуалы стали активно прибегать к этически нагруженным жанрам памфлета и манифеста, чтобы высказаться в публичном пространстве. До конца 30-х годов дискуссия об интеллектуалах развивалась в двух основных направлениях. Сторонники первого направления опирались на памфлет Жюльена Бенда «Предательство интеллектуалов» (1926), в котором был задан главный вопрос, ставший вызовом всему интеллектуальному сообществу
Франции: должны ли интеллектуалы заниматься вечными ценностями и вечными философскими вопросами или, оставив сферу вечного, реагировать на угрожающие события, предчувствие которых охватило Европу в конце 20-х и начале 30-х годов. Мнения разделились. Сам Бенда утверждает, что задача интеллектуала в области политики заключается в том, чтобы напоминать об идеалах справедливости и нравственности, а всей своей деятельностью показывать, что сфера его жизни – не мелькающий мир политической повседневности: он представляет «вечное» и лишь оценивает деятельность политиков с позиций моральных установок, не углубляясь при этом в стихию политического [14].
Противоположную точку зрения на призвание интеллектуала и его отношения с политикой представляет книга Поля Низана «Сторожевые псы» (1932) [170] . По мнению Низана, неангажированная философия, равно как и неангажированное искусство, - это миф. Интеллектуалы лишь прикрываются идеалами неангажированности и «чистого искусства», но на самом деле, так или иначе, служат политикам и политическим целям. Каждое слово интеллектуала может быть подхвачено политическими силами и использовано в совершенно конкретных политических целях. Поэтому, говорит Низан, интеллектуал должен осознавать, что его позиция не может оставаться вне временного контекста, а, следовательно, лучше занять политическую позицию сознательно, чем быть марионеткой в руках политических сил. Как показало время, позиция П. Низана оказалась более продуктивной, поскольку позволила выработаться концепции «ангажированного» интеллектуала, а эпоха 30-х - 60-х годов прошлого века вошла в историю как эпоха «ангажированности».
К концу второй мировой войны стало ясно, что важнейшим свойством интеллектуала, отличающего его от любого другого деятеля культуры, является его вовлеченность, причастность к современности, к политической жизни страны, другими словами, ангажированность [111,c.7]. Часто ангажированность (engagement) переводят как «завербованность», но в этом переводе упущен активный момент вовлеченности, то есть активного сознательного участия в событиях. Противоположный «ангажированности» смысл – оставаться в стороне, быть непричастным. Термин был введен в активное использование главным идеологом ангажированной литературы Жан Полем Сартром. Предполагалось, что ответственный интеллектуал должен занять сознательную политическую позицию и публично выразить свои политические взгляды, поскольку каждое его не проясненное слово может быть использовано врагом. Вера во власть слов и влияние интеллектуалов была наиболее сильна после Сопротивления, что проявилось во время судебных процессов над писателями в 1944-1945 гг.
Подведем промежуточный итог нашим рассуждениям. Тексты по истории интеллектуалов возникают как рефлексия самих интеллектуалов о проблеме отношений художественного сообщества и политики. Во французской интеллектуальной традиции эти отношения были резюмированы в термине «ангажированность», который долгое время имел выраженные этические коннотации и был введен в использование самими интеллектуалами.
Политический выбор в пользу той или иной политической программы или режима был также моральным выбором интеллектуала. Термин «ангажированность» фиксирует напряжение между автономными ценностями профессионального этоса интеллектуалов и чувством морального долга дать оценку трагическим событиям первой половины ХХ в., не связанным напрямую с искусством. Дискуссии об ангажированности связаны с актуализацией проблемы подлинности художественного творчества в «эру масс» [96]: вопрос заключается в том, изменит ли художник ценностям Истины и Красоты, которые лежат в основании автономного искусства, если займет ту или иную политическую позицию. Однако становится ясно, что необходимость реагировать на текущие события и занимать моральную позицию по политическим и социальным вопросам является частью «кодекса чести» интеллектуала, что связано с таким элементом его профессионального этоса, как авторская ответственность.
Соотношение процессов профессионализации и политизации в поле культуры
Личная убежденность может быть смягчающим обстоятельством в той мере, в какой она связана со свободой слова и свободой философской дискуссии или с внутренними (автономными) правилами литературы, и в том случае, если она рациональна по отношению к ценностям, согласно классификации М. Вебера: свободный развивать собственную систему мысли и делать ее публичной, автор действует согласно личному убеждению и подчиняет свои действия правилам своего искусства, не обязательно имея намерение причинить вред или не оценив должным образом последствий своих действий. Искренность является смягчающим обстоятельством. В этом случае предполагается, что обвиняемый допустил ошибку, его действие не было преднамеренным. Этой «этике убежденности» обвинение противопоставляет «этику ответственности», предъявляя обвиняемому сервильность, конформизм и недостаток независимости [173,p.891].
Также обвинение изо всех сил старается показать, что акт публикации был обусловлен не только ценностями, но и менее чистыми интересами. Любовь к славе и страсть к обогащению являются отягчающими обстоятельствами, так как в этом случае писатель действовал в своих личных интересах и знал о последствиях своих действий. Метафора, которая часто используется, чтобы описать этот тип поведения, - «проституция», она проводит аналогию между торговлей собственным телом и торговлей пером, отсылая к персонализации ответственности автора и к его идентификации со своим произведением. Поиск славы может заставить амбициозного писателя пойти на нарушение закона с единственной целью, чтобы о нем говорили, получив таким образом доступ к известности [173,p.892].
Помимо дебатов об интерпретации текстов, стратегия защиты заключалась в отрицании намерения причинить вред. Это отрицание могло происходить разными способами, которые Сапиро классифицирует согласно типам рациональности М. Вебера. Основным способом является доказательство иррациональности действия. С начала XIX в. писатель колеблется между двумя фигурами: фигурой мыслителя, или интеллектуала, высшим воплощением субъективной ответственности, и фигурой художника, иногда ассоциируемый с ребенком или сумасшедшим, гением, переживающим в какой-то форме ненормальность. Социальная конструкция фигуры художника проявляется в данном случае как способ освободиться от ответственности. Защита делает акцент на сверхчувствительности, нервной хрупкости и психической неустойчивости художников. Душевные расстройства рассматривались как смягчающее обстоятельство.
Более распространенный аргумент заключался в том, чтобы переложить ответственность на вышестоящюю инстанцию, например, на правительство Петена в годы Оккупации. Данный тип действия отсылает к веберовскому рациональному действию в соответствии с законностью. Либо защита перекладывает вину на более авторитетных писателей, оказавших большое моральное влияние (такой фигурой был, например, правый интеллектуал, поддержавший фашистов, Пьер Дрие Ларошель). В данном случае индивидуальным действием руководит принцип харизматического влияния[173,p.894].
Во многих литературных процессах авторитет писателей прошлого выносится на первый план, чтобы оправдать то или иное действие или высказывание. В данном случае защита апеллирует к автономным ценностям писательской профессии, таким как красота, истина, объективность, искренность.
Как показывает Сапиро, ценности красоты, истины, объективности, искренности были универсализированы в ходе политических битв, в которые вовлекаются писатели и художники в конце XIX в., чтобы вновь подтвердить свою символическую власть в момент профессионализации политического поля. С XVIII в. говорить публично правду, принимая все риски, считалось знаком смелости писателя, который берет на себя обязательства перед публикой. Инициированная Вольтером, стратегия опрокидывания отношений силы с правосудием была применена Эмилем Золя в ходе дела Дрейфуса в «Я обвиняю». Власть, от имени которой говорит Золя, - это его моральное сознание и авторская ответственность. Письмо ангажирует, что предполагает этику ответственности. Эта концепция ответственности писателя, воплощением которой был Золя, будет теоретизирована Ж. П. Сартром после второй мировой войны.
В послевоенные годы ответственность приобретает конкретный юридический смысл во время процессов чистки, когда литературные произведения рассматривались как акты национального предательства и становились основанием смертного приговора для целого ряда писателей. Эти процессы вызвали споры об ответственности писателей и разделили литературный мир на два лагеря: сторонники индульгенции, отстаивающие «право на ошибку», и «бескомпромиссные», которые полагали, что интеллектуалы несут наивысшую ответственность, по сравнению с другими профессиями. Расположившись во втором лагере, Сартр переопределит понятие ответственности, соотнеся его с благородством философа и универсальным законом, который превосходит пределы национальной концепции уголовной ответственности. Писатель у Сартра является лучшим воплощением экзистенциальной свободы, развивая до предела идею субъективной ответственности интеллектуала. В отличии от ремесленника, чей труд является результатом традиционных имперсональных норм, писатель сам производит правила своего производства, меры и критерии. Творческий порыв художника проектирует его субъективность в его произведении. Идея Сартра заключалась в том, чтобы ограничить свободу писателя, разгрузив понятие ответственности от понятия творческой свободы[111].
Новая проблематика политизации искусства: границы критики и демонтаж структурных оппозиций
Когда политическое и художественное измерения авангарда перестают смешиваться, понятие авангарда приобретает статус постоянного применения в искусстве вплоть до широкого распространения в международном художественном пространстве на манер модной идеи. В политике оно использовалось значительно менее систематически и не оформилось в устойчивый концепт.
Антибуржуазная позиция многих писателей и художников в первой половине XIX в. говорит больше об их концепции искусства и о парадоксах, с которыми они сталкиваются в ситуации рынка, чем о чисто политической конфронтации. Подлинная ремифологизация творческого акта связана со стремлением художников противостоять возрастающему давлению рынка. Кроме того, художественная критика буржуазии обычно не использует прямо политические аргументы: буржуазный мир воплощает утилитаризм, лицемерный морализм, расчетливый рационализм и материализм. Ему противопоставляют черты творческой личности: антирационализм, силу воображения, свободное самовыражение вне общественных конвенций. Буржуа воплощает противоположность художника, что и позволяет искусству брать на себя силу социальной трансформации [см.:22].
Для того чтобы авангардистская ценность воплотилась в художественной области и вела к идентификации эстетической инновации с социальным и политическим прогрессом, она должна конвертировать критический отказ в позитивный разрыв, разместив новаторство на темпоральной оси кумулятивных разрывов с прошлым и изобретя культ будущего. Смешивая движение эстетической инновации с прогрессом, авангардизм способствовал распространению телеологической концепции возрастающей автономизации искусства: он пытался внедрить детерминистскую рамку в будущую историю искусства и переоценить его прошлое с точки зрения ценности произведений для движения искусства в сторону осознания его исторической необходимости.
Менгер задается вопросом: возможно, нужно исследовать саму модель эволюции искусства ко все возрастающей автономии? Художники-модернисты ХХ в. построили сценарий эволюции искусства, предназначенный мотивировать их новаторство, объясняющий, что художественному творчеству было суждено трансформироваться во все более сложную систему формальных исследований, и что этот процесс начался с XIX в., что изобретение перспективы имеет в себе принцип прогрессивной декомпозиции вплоть до ухода от фигурации в живописи, и что аналогичные изменения происходили с нарративной техникой в литературе и кино. К этим ретроспективным реконструкциям прибегают, когда нужно валоризовать творчество того или иного художника, описав генеалогию его инноваций. Авангард ХХ в. широко разрабатывал этот подход для того, чтобы заново описать историю искусств и выровнять стили и движения в соответствии с принципами эволюционистской телеологии и для того, чтобы классифицировать художников в соответствии с их вкладом в эти движения.
Итак, телеологическая концепция новаторства как систематического преодоления прошлого, направленного на определенную цель, породила ряд соответствий по причине гомологии позиций: художник-новатор в своей сфере ведет против консерватизма и существующего строя ту же революционную борьбу, что и подчиненные классы против буржуазного порядка. Вопрос, таким образом, заключается в том, какова внехудожественная эффективность этого эстетического радикализма: может ли художник предложить что-то большее, чем косвенную поддержку социальному движению? Может ли он осуществлять некую мессианскую роль, когда он подчиняет свое искусство императиву эстетической оригинальности?
Дебаты об оригинальности художественного творчества имеют также более широкий социальный и политический характер, так как речь идет о том, может ли художник, который стремится к оригинальности, создать социальную модель: необходимо отделить индивидуализм от одного из его воплощений, буржуа. Ценности оригинальности, аутентичности, личной искренности принадлежат к тому, что Чарльз Тэйлор назвал «субъективным поворотом» модерной культуры Европы [цит.по: 167,p.614]. В этой концепции индивиды одарены некой формой внутреннего мира, индивидуальность каждого базируется на особенных свойствах личности, которую необходимо защищать от влияния других. Каждый может, благодаря рефлексивности сознательного отношения с собой и внутреннего диалога, пытаться проникнуть в интимные глубины своей личности. Аутентичность добавляет к рефлексивному контролю отношений с самим собой осознание оригинальности всякого способа индивидуального существования, которое является источником различия и разнообразия: реализация себя в идеале не должна сопровождаться ни социальным конформизмом, ни неравенством, которое препятствует осознанию справедливой ценности каждого и расцвету его личности. Референция к искусству и к художнику как к модели определения себя становится цент ральной. «Открытие себя происходит через творчество, через создание чего-то нового и оригинального. Я создаю новый художественный язык, - новую манеру писать, новую поэтическую форму или новую романную технику — и благодаря этому и только этому я становлюсь самим собой» [167,p.535].
Но как перейти от экспрессивного освобождения индивидуального поведения к коллективной жизни? Может ли ценность оригинальности сформировать социальную норму реализации себя? Связь между аутентичностью, оригинальностью и свободой лежит в основании концепции, которая прямо противоположна моральному обязательству нормативных конвенций и утилитарному расчетливому порядку, введенному рационализмом современной жизни — с индустриализацией, техническим прогрессом, дисциплинарной организацией социальных связей. Как основать социальную общность вокруг дифференцирующего принципа индивидуальной аутентичности?
Во-первых, следует отделить художественную модерность от принципа авангарда, ценность оригинальности от исторической телеологии. Концепция самореализации предполагает, что только внешние препятствия могут помешать личности реализовать свою оригинальность. Отсюда происходят аристократическая и релятивистская версии этой модернистской позиции, в соответствии с которой способность к самореализации доступна только некоторым личностям, находящимся вне социальных норм и готовым свидетельствовать, трагично или болезненно, о величии аутентичного индивида в мире, закостеневшем в конформизме; эта способность воплощает новый квазиантропологический дар, который легитимирует различие в поведении индивидов, безотносительно к модели предполагаемой референции, нормирующей индивидуальные практики и репрезентации. Со своей стороны принцип авангарда выдвигает установку на критическое преодоление прошлого и принцип превосходства будущего.
Модерность же, понятая как чувство настоящего, аннулирует все отношения с прошлым, понятым как простая последовательность отдельных современностей. Воображение становится способностью, которая делает нас чувствительными к настоящему, оно предполагает забывание прошлого и расположенность к настоящему. Модерность не соотносится ни с прошлым, ни с будущим, но только с вечностью.