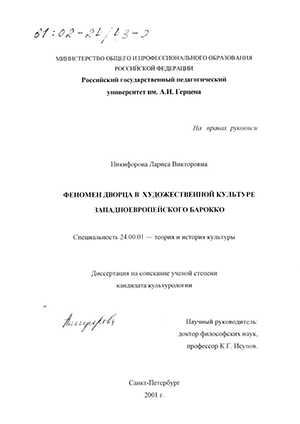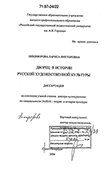Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Эпоха Барокко как этап художественной культуры риторического типа 29
1. Риторические основания западноевропейской художественной культуры эпохи Барокко 29
2. Особенности риторической ситуации эпохи Барокко 51
Глава II. Дворец как явление высокого стиля 69
1. Дворец как совокупность общих мест высокого стиля в художественной культуре эпохи Барокко 69
2. «Дворцы и хижины» как смысловая модель Универсума 88
3. «Души моей чертоги». Дворец в барочной метафоре 103
Глава III. Дворцовый интерьер как осуществление высокого стиля 115
1. Inventio и dispositio дворцового интерьера 116
2. Elocutio. Образцы и чертежи в проектировании дворцового интерьера 138
Заключение 164
Библиография 167
Список иллюстраций 191
Иллюстрации 194
- Риторические основания западноевропейской художественной культуры эпохи Барокко
- Дворец как совокупность общих мест высокого стиля в художественной культуре эпохи Барокко
- «Души моей чертоги». Дворец в барочной метафоре
- Inventio и dispositio дворцового интерьера
Риторические основания западноевропейской художественной культуры эпохи Барокко
Основная цель настоящего раздела — предложить концепцию художественной культуры риторического типа как особого и вполне оригинального этапа в истории европейской художественной культуры; продемонстрировать фундаментальную значимость риторических принципов и правил создания текста в системе художественной культуры эпохи барокко.
Понятия риторической культуры и риторической художественной культуры достаточно часто встречаются в литературе, понятие художественной культуры риторического типа реже, в основном они употребляются как синонимы. Однако есть смысл разграничить эти понятия, определив за последним из них особую область значений.
Существует несколько определений риторики, на основе которых строятся концепции риторической культуры, но они не исключают, а скорее дополняют друг друга, отражая различные точки зрения на свой объект. В наиболее узком значении под риторикой понимается дисциплина, изучающая ораторское искусство, оформившаяся в систему в поздней античности, в трудах Аристотеля, Исократа, Цицерона, Горация, Квинтиллиана, продолженная и доработанная в эпоху Средневековья Святым Августином, Алкуином, Василием Великим, Иоанном Златоустом, Григорием Назианзином, Григорием Нисским, в эпоху Возрождения Раймондом Луллием, Цезарем Скаллигером, Лодовико Кастельветро, Якопо Понтана, Франсиско Суаресом, Филипом Меланхтоном, Герхардом Фоссом, Генри Пичемом, Джорджем Путтенхеймом, в эпоху Барокко — сочинениями Фамиано Страда, Франсуа Помея, Валтасара Грасиана, Никола Коссена, Рене Барри, Бернара Лами, в эпоху Просвещения трудами Сезара Шено Дюмарсе, Джорджа Кемпбелла, Генри Хоума, Ханса Блэра, Иоганна Маттензона и многих других авторов .
Несмотря на внушительный, но далеко не полный перечень имен классическая риторическая традиция представляет собой цельное явление. Этой цельности не противоречат разные типы классической риторики, отличие греческой и римской риторик, азийской и аттической школ красноречия, возможность выявления в риторике национальных тенденций. Цельность и непрерывность традиции обусловлена, прежде всего, устойчивой структурой жанра руководств по риторике, способов систематизации и изложения материала.
Концепция риторической культуры, восходящая к трудам Эрнста Курциуса и базирующаяся на понимании риторики как теории и практики красноречия, заключается в признании важной роли классической риторики в художественной культуре на протяжении длительного времени. Под риторической культурой в этом случае понимается тот слой культуры, который кристаллизуется вокруг классической риторики. Это собственно теория и практика красноречия — трактаты и учебные руководства по риторике, их преемственность, устойчивость и гибкость классической риторической схемы, образцы текстов; степень востребованности риторики в обществе — роль риторики в становлении национальных европейских литератур, ее влияние на различные виды и жанры словесных и несловесных искусств.
Концепция риторической культуры, базирующаяся на классической риторике, продемонстрировала пути передачи античной традиции в европейской культуре, преемственность сменявших друг друга историко-культурных типов.
С.С. Аверинцев относил к риторической культуре «античность и средневековье, а с оговорками - Ренессанс, барокко и классицизм»". Э. Курциус и А.В. Михайлов полагали рубеж XVIII - XIX столетия финалом классической риторической культуры . Ю.М. Лотман писал о действенности риторической культуры в «мифопоэтическом периоде, средневековье, барокко, романтизме, символизме и авангарде» . Исследуя «антириторические» тексты, в которых культивируется простое «неукрашенное слово», Ю.М.Лотман сделал вывод о присутствии в них метатропов - «риторических фигур, подвергшихся вторичному упрощению» . Следовательно, риторическая культура дает о себе знать и в антириторические периоды — их можно рассматривать как своеобразные этапы риторической культуры.
Сложение концепции риторической культуры, кратко изложенной выше, имеет отношение к широкомасштабному процессу «реабилитации» риторики в качестве теории и практики, начавшемуся в 1950-е годы. В эти годы началось активное возвращение к практической риторике. Эта дисциплина вернулась в учебные программы Франции, США, а затем и других стран Европы и Америки. В последнее десятилетие риторика вернулась в отечественную систему образования. Интерес к практической риторике во второй половине XX века исследователи объясняют стремительным развитием массовой информации и появлением новых видов и форм коммуникации. Значительную роль сыграли становление различных форм демократии и общая демократизация политической организации общества, «демонополизация трибуны» .
Влиятельность классической риторической традиции в процессе возвращения риторики как учебной дисциплины весьма ощутима. Она присутствует не только в истории вопроса, но влияет на систематизацию материала, сказывается на структуре пособий. В то же время развился и укрепился целый комплекс сопредельных с риторикой дисциплин, обслуживающих речевую практику — речевая коммуникация, теория действия, теория референции, речевая конфликтология, когнитивная психология .
В 1950-е годы на основании переосмысления классической риторической традиции, в первую очередь теории фигур, возникла новая теория риторики, названная новой риторикой или неориторикой (термин X. Перельмана, 1957). Неориторика сложилась в русле идей французского структурализма и стала пересечением многих наук — стилистики, лингвистики текста, структурной поэтики, семиотики, теории массовых коммуникаций, теории воздействия, теории рекламы . Представители неориторики расширили значение понятия «риторика» и предложили целый спектр ее определений . Риторику рассматривают как теорию аргументации (X. Перельман), теорию убеждения (Р. Барт, У. Эко), теорию убеждающей коммуникации (X. Перельман, Дж. Кинневи), как науку об условиях и формах эффективной коммуникации (С. Гиндин), а также как теорию общих мест (Р. Барт, У. Эко), как теорию порождения художественного высказывания (У. Эко), механизм смыслопорождения (Ю.М. Лотман), как семиотику дискурса (Ж. Женнет). Тем самым понятие риторической культуры включило в себя все разновидности коммуникации (поэтический язык, коммерческая реклама, политическая пропаганда, кинематограф, драматический спектакль и т.д.), этапы осуществления коммуникации (порождение, организация и восприятие текста, стратегии взаимоотношений автора и аудитории), возможности и пределы взаимопонимания (общие категории смысла). Концепция риторической культуры, базирующаяся на расширенном определении риторики, тяготеет к семиотическому ПОЛЮ культуры, стремится к выходу в невербальные языковые системы, демонстрируя транслингвистическую направленность.
Для представителей неориторики и тех, кто разделяет их позиции, классическая риторическая традиция превратилась в часть своеобразной метариторической системы культуры. Сами «Риторики» античности, Средневековья, Возрождения и Нового времени были определены как «донаучная» теория текста (Р. Барт) и стали инструментом изучения художественной культуры. Этот методологический поворот в исследованиях культуры позволил, по словам Хосе Ортега-и-Гассета, «удлинить «руку» интеллекта, ступить на «целинную зону» ментального поля, формально подпадающего под юрисдикцию нашей мысли, но фактически неосвоенного, невозделанного» .
Сложение новой теории риторики, интерес к классической риторической традиции и к риторической культуре в целом, реабилитация практической риторики — все это явления тесно взаимосвязанные. Вкупе с ними художественная культура постмодернизма, связанная с переосмыслением классических традиций, по-своему использующая «готовое слово» и «общее место» еще раз продемонстрировала невозможность «исхода из риторики». «Все лишь смещение акцентов внутри риторического круга» .
Различные концепции риторической культуры, базирующиеся и на узком, и на расширенном понимании риторики, способствуют пониманию риторики как культурной универсалии . В том или другом качестве, в той или иной степени востребованности риторика и риторическая культура обнаруживают свое присутствие и свою значимость на всем протяжении человеческой культуры.
При этом существует исторический этап, на котором риторическая культура в ее классическом варианте явилась не одной среди других его составляющих, но стала фундаментом всей художественной культуры: художественной логикой, основой художественного сознания и теоретической рефлексии. В лоне риторики были аргументированы творческие возможности художника и его право на авторство. Этот особый тип художественной культуры начал складываться в Западной Европе в эпоху Возрождения, принял классически определенный вид в эпоху Барокко, продолжал существовать в эпоху Просвещения, когда риторика стала постепенно утрачивать свой авторитет. На протяжении этого периода художественная культура кристаллизовалась вокруг
Дворец как совокупность общих мест высокого стиля в художественной культуре эпохи Барокко
В этом разделе речь исследуется дворец как жанр с точки зрения теории искусства, а также определяются характерные признаки образа дворца, какими они запечатлены в художественной литературе.
Теория архитектуры эпохи Барокко не так эффектна как многочисленные рассуждения о поэзии, похвалы живописи, споры о преимуществе поэзии над живописью или живописи над скульптурой. Книги об архитектуре XVII века — это в большинстве своем своды практических советов и образцов. Наиболее значительные теоретические труды по архитектуре вышли из-под пера членов Французской академии архитектуры в последней трети столетия. Однако принцип универсальности теории искусства эпохи Барокко позволяет обращаться к теориям других искусств, к заключенным в них архитектурным метафорам и архитектурным образам.
Рассуждения по поводу архитектуры в XVII веке продолжали тему оправдания ремесла и аргументацию оснований для причисления его к разряду свободных искусств, начатую в эпоху Возрождения. Леон Баттиста Альберти поставил математику в основании искусств. Определение размеров (dimensio) и границ (finitio) он называл целями скульптуры («О статуе», 1430)1. «Глубинными корнями природы», из которых возникла живопись, он считал точку, линию, окружность, пропорции, сечения («О живописи», 1430) . Искусство строить, по Альберти, «сосредоточено только в членении» . Искусства предстают способом «выполнить рукою то, что охватывается умом» , «оформить материю очертанием» («Десять книг о зодчестве», 1450) . Джорджо Вазари. называя рисунок отцом живописи, ваяния и зодчества, сравнивал его с понятием и суждением: благодаря рисунку искусства «извлекают общее понятие из многих вещей, отводят каждому его собственную меру» («Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», 1550; 1568) .
Теоретики архитектуры эпохи Барокко во многом следовали своим предшественникам. Генри Уоттон, автор трактата «Элементы архитектуры» (1624) писал: «Слава архитектора заключается в том, чтобы рисунком и мыслью создать форму, которая была бы благороднее, ... побеждала бы Предмет (Материю)» . Франсуа Блондель в трактате «Принципы архитектуры» (1673) называл основанием архитектуры математику, «ей архитектура обязана всем, что в ней есть прекрасного» . Но тема «оправдания» архитектуры в XVII веке ознаменована и целым рядом существенных дополнений.
Во-первых, в определении архитектуры Витрувия (польза, прочность и красота), которое в целом не подвергалось сомнению, произошла значительная перестановка акцентов. Теоретики Возрождения отдавали должное в равной степени всем трем составным частям архитектуры, причем последовательность изложения материала в сочинениях соответствовала их последовательности в определении: «польза» и «прочность» предшествовали «красоте», а количество и полнота сведений были равноценны. В эпоху Барокко на первое место выступила «красота», а в разделе о «красоте» стали преобладать рассуждения об «украшении».
Нет оснований полагать, что было опровергнуто или переоценено известное утверждение Альберти о том, что красота абсолютна, первична и не материальна, а «украшение есть как бы некий вторичный свет красоты, или так сказать ее дополнение» . «Понятие красоты, — писал Альберти, — исчерпывается тремя вещами: числом, ограничением и размещением» . Тезис Альберти был принят как аксиома: Франсуа Блондель в «Курсе архитектуры» (1698) определял красоту здания как упорядоченность материи, почти цитируя Альберти. Но рассуждения о красоте архитектуры переместились главным образом в область «украшения». Архитектурная декорация, которая с точки зрения риторического целого соответствует разделу о выражении, стала наиболее разработанной частью «слова об архитектуре», оставленного нам эпохой барокко.
Декорации посвящена основная масса изданий XVII века, известных как книги об архитектуре. Чрезвычайно популярный трактат Виньолы «Правило пяти ордеров архитектуры» (1562), многократно переизданный в XVII веке практически на всех европейских языках, трактовал ордер как украшение любой поверхности, лишенное какого-либо конструктивного значения. Украшению фасадов и интерьеров посвящены увражи с изображениями порталов и каминов, орнаментов и ваз, изданные в огромном количестве по всей Европе. Сборники «украшений», сопоставимые с иконологическими и эмблематическими сборниками, со списками слов для озвучивания в музыке, были своего рода энциклопедиями «готовых слов» архитектурной декорации. Балтасар Грасиан в трактате об остроумии сравнивал колонны и архитравы с сюжетами и острыми мыслями . Эммануэле Тезауро в «Подзорной трубе Аристотеля» называл «метафорами из камня» не постройку целиком, а «капители, изобилующие листьями, фригийские узоры, триглифы, фризы в колоннадах дорического ордера, большие маски, кариатиды» — то есть архитектурную декорацию . Сходным образом Ш. Перро устами Аббата уподоблял архитектурные украшения риторическим фигурам и замечал, что речь, лишенную риторических украшений, нельзя было бы рассматривать как произведение красноречия (Диалог второй, 1688) . Все это переводит разговор о красоте архитектуры в поле «decoratio» и дает возможность обоснования архитектуры через словесные искусства. И это второе существенное дополнение темы «оправдания» ремесла - не только число и гармония, но и слово признано его основанием.
Еще Леон Батиста Альберти в своем трактате об архитектуре четко разделил «дело ума» и «дело рук», наметив основания будущего разделения труда в строительстве. Тем не менее, представление о том, что архитектор — это работник умственного труда, не было общепринятым в эпоху Барокко. Так, Пьер Пюже в 1667 году, ведя переговоры с консулами Тулона об архитектурных работах, специально оговаривал: «Я хочу работать своими руками только над моделями или рисунками», «чтобы меня рассматривали не как рабочего, а как главного руководителя» .
В эпоху Барокко идея отстранения искусства от ремесла продолжала обсуждаться. Никола Пуссен говорил, что «прекрасное не имеет ничего общего с материей, которая никогда к прекрасному не приблизится, если не будет одухотворена соответствующей подготовкой», а именно, «порядком, мерой и исполнением или формой» . Ф.Блондель писал в том же духе: «Красота здания хорошо упорядоченного дает чувствовать ее независимо от материала и затраченного на нее труда» («Курс архитектуры», 1698) . «Архитектура не радовала бы нас, — писал Б. Грасиан, — если б заботилась лишь о прочности и не придавала зданию приятный вид» . Председатель и Аббат из диалога Шарля Перро о древних и новых единодушны в том, что нельзя «назвать прекрасным здание без колонн, без пилястров, без архитравов, без фризов, без карнизов и безо всякой отделки» (Диалог второй, 1688) .
Та же идея была актуальна и в эпоху Просвещения. Так, Джошуа Рейнольде в одной из речей в Королевской академии говорил: «В архитектуре, как и в живописи, имеется низкая отрасль искусства, в которой, по-видимому, воображение не участвует вовсе. Архитектура получила наименование изящного и свободного искусства совсем не за свою полезность или удовлетворение наших потребностей, а исходя из более высоких принципов» (1786)\ В трактате «Принципы гражданской архитектуры» (1781) итальянский теоретик архитектуры Франческо Милиция поставил первым раздел «О красоте», вторым «Об удобстве», третьим «О прочности построек» . «Польза» и «прочность» архитектуры в эпоху Барокко расценивались как ремесло, нуждающееся не в рефлексии, а в практических рекомендациях. Трактат Г. У отгона «Элементы архитектуры» состоял из двух частей «О пользе» и «Об украшении», тем самым «прочность» вообще оказалась за скобками теории. Умение строить заняло иерархически более низкое место, нежели умение украшать. Получается, что лишь украшенная постройка представляет искусство, в котором, как известно со времен Аристотеля, царит воображение.
«Украшенные» постройки, украшают в свою очередь город и государство. Дворцы, построенные «в соответствии с принципами древних служат к вящему великолепию и украшению отечества», — писал Рубенс в предисловии к альбому гравюр «Генуэзские дворцы» (1622) . «Великолепные постройки, — говорил Джошуа Рейнольде сто с лишним лет спустя, — вызывают представление о людях, которые в них должны обитать, их нравах и обычаях» (1786)2.
«Души моей чертоги». Дворец в барочной метафоре
«Ты, души моей хоромы!» (Du Wohnhaus meines Geists) обращался к возлюбленной Пауль Флеминг («Ее уста», конец 1620-х). «Дворец души» («palacio del anima») — так озаглавлен пассаж в девятом кризисе второй части романа «Критикой» Балтасара Грасиана (1651-1657) . Если эта поэтическая формула не существовала прежде, она непременно родилась бы в XVII столетии, в эпоху барочных метафор, замысловатых эмблем и великолепных дворцов.
Искусство «связывать между собой отдаленные понятия и находить подобия между вещами неподобными», «переносить на лету наш рассудок от одного явления к другому, сосредотачивая в одном слове более чем один предмет» , Эммануэле Тезауро называл «Метафорой, наивеликолепнейшей из фигур». Барочные Метафоры — это эмблематические метафоры, в этом их специфическое отличие от других исторических разновидностей метафоры. Они рождены путем сопоставления «готовых слов», каждое из которых есть цельный, «кристаллический» образ. Автор эпохи барокко не волен был вторгнуться в «готовое слово», оно «заготовлено наперед самой культурой» , но волен столкнуть слова, и создать искус толкования.
Задача настоящего раздела заключается в попытке интерпретации метафоры «души моей чертог». Ключом к интерпретации послужит «готовый образ» дворца, создающий вокруг себя поле притяжения высокого стиля.
Дворец, с которым сравнивается душа, как и вообще дворец, может быть наделен противоположными значениями. Душа, уподобленная дворцу, приобретает превосходную степень величия или низости, красоты или безобразия. Двойственность, заключенная в образе дворца, разворачивается в метафоре «души моей чертог» в полную силу.
Прекрасны, как великолепные дворцы, души влюбленных. «Вы можете легко мне царство подарить, // Но я у вас в душе хотела бы царить, // Чтоб ваши помыслы, желания и страсти // Моими подданными стали», — говорит Изабелла, героиня пьесы Пьера Корнеля «Иллюзия» (1636). У Эндрю Марвелла душа, в которой царит влюбленная, предстает как череда залов и галерей, как дворец, наполненный портретами возлюбленной дамы: «Мне в душу, Хлоя, загляни, // Ее убранство оцени; // Ты убедишься: ряд за рядом // По залам всем и анфиладам// Висят шпалеры и холсты - // Десятки лиц и всюду ты! // Вот все, что я в душе лелею; // Всмотрись же в эту галерею» («Галерея», 1640-е)1. У Пауля Флеминга сама возлюбленная уподобляется дворцу: «Ты, души моей хоромы!» (Du Wohnhaus meines Geists), а ее уста — золотым воротам, открывающим путь к райскому блаженству.
Души, в которых царит Порок, ужасны и опасны, подобно дворцам, способным вмиг разрушиться под ударами бушующей стихии. «Есть люди с одним лишь фасадом, как дома недостроенные за недостатком средств: по входу дворец, по жилью лачуга (tienen la entrada de palacio, у de choza la habitacion)» . Так звучит один из тезисов «Карманного оракула» Б. Грасиана (1647). В комедии Лопе де Вега «Собака на сене» (1618) Теодоро, отвергнутый Дианой, пытается вернуться к прежней возлюбленной. Марсела произносит гневную отповедь: «Не дай мне Бог повергнуть в прах // Твое блистательное зданье»1. Советуя скрывать до поры свои намерения, Грасиан называет страсти «окнами духа» . В оригинале это звучит как los portillos del animo, что буквально переводится и как «дверца», «узкий проход», и как «пролом, трещина». Тем самым, акцентируется образ внезапного разрушения - человек, оказавшийся во власти страстей, ставший игрушкой в руках судьбы, уподоблен дворцу, разрушенному бушующей стихией.
Упрек возлюбленной даме, отвергнувшей любовь поэта, обычно содержит назидание о будущем возмездии за гордыню. Таковы, например, «Стансы к маркизе» Пьера Корнеля (1640-е): «Среди грядущих поколений, // Где я признанье обрету, // Лишь из моих стихотворений // Узнают Вашу красоту»3. Назидательная сентенция нередко олицетворяется образом руины. В сонете Майкла Дрейтона мотив увядания телесной красоты образно решается через ее уподобление руине. «Где мрамор был под стрелками бровей, // Уродливым морщинам станет тесно, // И вместо пышных льющихся кудрей // Я не увижу чахлый мох древесный» . Перед нами уже знакомый по поэтическим и живописным произведениям образ величественной прежде постройки, ставшей добычей неумолимого времени. Поэт грозит гордячке не просто внезапным разрушением, которое вполне благородно и возвышенно, как в речи Марселы к Теодоро, а медленным превращением в руину, обращением в Природу, сырую материю, что само по себе снижает образ. Великолепный «Дворец души» («palacio del anima») из романа «Критикой» Валтасара Грасиана3, сооруженный для Добродетели, «Порок захватил насильно, вселился самовластно».
Что же еще, кроме превосходной степени добродетельности или порочности, обретает душа, показанная как дворец? Имеет смысл обратиться к другим метафорам и развернутым аллегориям, и определить, с чем еще может сопрягаться дворец. Пожалуй, самая известная и самая распространенная в XVII столетии метафора — дворец мироздания. Балтасар Грасиан в романе «Критикой» рисует величественную картину божественного сотворения мира как возведения величественной и совершенной постройки. «Превосходно задуманный бесконечной Мудростью, искусно воздвигнутый Всемогуществом и украшенный Божественной Благостью» .
Сравнение мироздания с величественной постройкой связано с богословской традицией. В библейских книгах Ветхого и Нового завета идея тварного мира, предуготованного к принятию Божьей благодати, идея общины верных или одинокого праведника иносказательно передается через образ храмового сооружения или просто здания. Бог в образном плане отождествляется с опорой такой символической постройки или с ее создателем3.
На страницах романа Б. Грасиана процесс творения мира как строительства дома для человека имеет, в основном, признаки, свойственные «хижине». Это последовательно описанный процесс, приобретающий тем самым некую длительность, — создатель «дома» заботится об устойчивости и надежности постройки, об удобстве жизни в ней. Бог населил разные покои этого здания живыми существами, человеку же, как существу «наделенному разумом» уготовано властвовать в мире и поддерживать его в изначальном порядке». Эта совершенная постройка - «не что иное, как дом (casa), сложенный и слаженный для человека самим Богом» . Слово «дворец» (palacio) возникает в тот момент, когда речь идет о грандиозности «сооружения» и его необычайной красоте. «Верховный мастер» украсил свой чертог не только Благостью, но и «множеством стройных гирлянд» .
Образ дворца мироздания находим у Джорджа Герберта: «Столь чудно ты мой Бог // Дворец (palace) воздвиг! Так сам в нем обитай, // Чтоб он тебя прославить мог!» («Человек», 1633) .
Мир земной, лишенный божественной опоры, олицетворяется в романе Балтасара Грасиана образом дворца в ипостаси руины. Андренио и Критикой оказались вблизи постройки, показавшейся им дворцом, с великолепным входом, с прекрасно убранными и невероятно просторными комнатами. Когда же Критикой обогнул дом, «он глазам своим не поверил - великолепие фасада сменилось убожеством, красота безобразием, удовольствие ужасом, у фасада исчез «фас», остался только «ад» (no fachada, sino echada), казалось, дом вот-вот рухнет. На гиблой почве сей уже не видно было садов, одни тернии и сорняки» . В соответствии с правилами эпидейктического красноречия автор сводит высшие степени противоположных эпитетов, пользуется созвучием слов, противоположных по смыслу, убеждая во внезапности и разрушительности свершившейся метаморфозы.
Образ дворца, великолепного со стороны фасада и истлевшего с обратной стороны, олицетворяет в романе весь суетный человеческий мир в его ценностно-обратимой судьбе. Семь колонн его фасада числом своим соперничали с семью опорами, семью добродетелями Церкви, за каждой из колонн фасада располагались входы в комнаты и анфилады, олицетворявшие человеческие пороки и пагубные страсти. Постройка, издали показавшаяся дворцом, вблизи оказалась торжищем, «постоялым двором мира».
«Дворец, где чары ткет бездушная Цирцея; // Тюрьма, где у рабов златая цепь на шее; // Умалишенных дом, в котором, что ни шаг, // То иль смеющийся, иль плачущий дурак...// Базар, где продают лишь ветер или дым» (Фридрих Рудольф фон Каниц, «Двор», 1630-е) . Поэт перебирает еще немало такого рода характеристик.
Суетный человеческий мир помещен Джорджем Гербертом в пустоту между опорами грандиозного дворца мироздания. «Воскресный ряд колонн, IIк между ними - будней пустота. // На них чертог небесный утвержден, // Все дни другие полнит суета» («Воскресный день», 1633) . Один и тот же дворец раскладывается на противоположные значения, как бы совмещая в себе позитивный и негативный отпечаток.
Inventio и dispositio дворцового интерьера
Задача этого параграфа - показать, что дворцовый интерьер следует читать, определить основные сюжетные линии интерьерного текста, разворачивающегося по вертикали и горизонтали (диспозицию) и на основании этого уточнить общий замысел дворцового интерьера и дворцово-паркового комплекса эпохи барокко (его инвенцию).
На одной из гравюр Абрахама Босса (1630-е; ил. 19) представлена характерная сцена: кавалер указывает тростью на стенную панель, поясняя двум внимательным слушателям сюжет, на ней изображенный . Мотив толкования росписей или шпалер во дворце постоянно возникает в литературе XVII столетия. Селадон из романа О. де Юрфе «Астрея» (1607 — 1627) пробудился в чертогах нимф и обозревал висящие на стене полотна, сюжеты которых как бы объяснили ему, что с ним произошло. Нимфы, не поспевая за Психеей, когда она осматривала дворец в первый день своего пребывания в нем, обратили ее внимание на одно лишь произведение -«серию золотистых гобеленов», «не столько вследствие их замечательного выполнения, сколько по причине того, что на них было изображено» . А изображены на них были сюжеты побед Амура над стихиями, богами и царями. В другой поэме Жана де Лафонтена «Сон в Во» (1658 — 1661) сюжет строится вокруг состязания муз, происходящем в залах дворца Фуке, перемежается разъяснениями плафонных росписей". Диалог второй «Спора о древних и новых» Шарля Перро (1688) содержит практически все приметы жанра экфрасиса.
Н.В. Брагинская, которая исследовала структуру экфрасиса на материале античной литературы, указала на такой важный признак: «все внимание сосредоточено не на художественном объекте, а на предмете изображения и на его вербализации, пересказываемом смысле, поэтому картина или рельеф учит, наставляет, открывает жизненную, религиозную, философскую тайну, толкует миф» .
Восприятие изображений на стенах как своеобразного учебного пособия находит подтверждение в разных по жанру литературных произведениях от социально-политических утопий Кампанеллы, Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона до французских литературных сказок конца XVII века. В «Городе Солнца» Кампанеллы (1623) «по повелению Мудрости во всем городе стены расписаны превосходнейшею живописью, в удивительно стройной последовательности отображающей все науки». Изображения на стенах пояснялись «краткими» надписями в прозе и стихах. На внешнем изгибе стены первого круга помещены изображения «всей земли в целом», «карты всевозможных областей, при коих помещены описания в прозе обычаев, нравов, происхождения и сил их обитателей; также и алфавиты». На внешней стене второго круга изображены моря, реки, озера, а также «с соответствующими стихами град, снег, гроза и все воздушные явления». Дети в сопровождении наставников «без труда и как бы играючи знакомятся со всеми науками наглядным путем до достижения десятилетнего возраста» .
Во дворец, построенный для принцессы из сказки Мари Катрин д Онуа «Лесная лань» (1697), феи поместили множество ковров, на которых были вытканы разные истории, «чтобы принцесса могла без труда изучить различные события жизни героев и других людей» . В финале сказки Леритье де Виллодон «Ловкая принцесса» (1698) феи наказали двух ленивых сестер-принцесс. Феи привели их в одну из галерей своего замка, где изобразили на стенах в красках «историю бесконечного числа женщин, которые прославились добродетелями и трудовой жизнью» , после чего сбросили ленивиц в пропасть .
В романе немецкого писателя Христиана Вейзе «Три величайших в свете дурака» (1673) тема наглядного обучения получила наиболее усложненную разработку. Молодому человеку необходимо было достроить и отделать доставшийся по наследству замок, следуя точным предписаниям завещания. При этом «названный план был так аккуратно составлен, что не была забыта ни одна балка, ни где она должна быть укреплена, ни как отделана или окрашена, остругана или отесана» . Все это наследник тщательно исполнил. Самым сложным оказалось задание по росписи зала: на трех панно против двери должны быть изображены три величайших в свете дурака. Наследнику пришлось отправиться в путешествие, чтобы «в силу условий сначала искуситься во всем свете и таким образом от созерцания стольких дураков стать тем рассудительнее» , а уж после приступить к исполнению росписи интерьера.
Традиция наставления и поучения светского интерьера находящемуся в нем человеку напрямую унаследована эпохой Еарокко от Ренессанса. В культуре раннего Возрождения особое звучание приобрела тема «града земного», идеального города, выражением которого стала идея палаццо, далеко не во всех аспектах осуществленная в реальных постройках3. В наиболее законченном виде тема идеального устройства дома воплотилась в интерьерах ренессансных кабинетов, они предназначены для пребывания совершенного человека в идеальном доме - граде - мире .
Марсилино Фичино в труде «О жизни, которую следует рассматривать с неба» (ок. 1490) писал, что планетарные образы запечатлены в памяти человека так, как они изображены на потолке комнаты. Изображения на потолке, выстроенные по законам логико-синтагматических соответствий, служат для их обладателя организационным принципом всех явлений, с которыми он сталкивается за пределами дома. Таким образом, изображения на стенах кабинетов не только «служили обрамлением ученых занятий и философских размышлений»1, но и сводом методологических принципов, по которым эти занятия и размышления надлежало осуществлять. Это имеет прямое отношение к искусству мнемотехники, к риторическому разделу тегаопа.
В дворцовом интерьере эпохи Барокко вообще очень много сюжетных изображений. «Большие, расположенные на первом плане фигуры, заполняющие всю плоскость,...сочный яркий колорит с преобладанием крупных цветовых пятен» (Бирюкова Н.Ю.) . «Множество фигурных и резных рельефных украшений», «массивная резьба»" отличают мебель, «подчеркнутая объемность отдельных форм» обнаруживается во всех произведениях декоративно-прикладного искусства XVII века. Крупные фигуры и ясные композиции, написанные на стенах и сводах, вытканные на шпалерах, сочные цвета рассчитаны на то, что зритель увидит и воспримет их сразу.
Предметы убранства интерьера реже оказывались объектами литературных диалогов, чем картины и росписи, но помещенные на них изобразительные композиции вполне располагают к толкованию. Сюжетные вставки, выполненные в рельефе или инкрустации, украшали створки кабинетов и шкафов. На створках и выдвижных ящиках кабинета из коллекции Эрмитажа (1670-е), выполненного по рисунку А. Ленотра, помещены сцены «Истории Иосифа». В средневековой традиции Иосиф, невинный и целомудренный страдалец, был прообразом Христа, история его жизни предвосхищала земную жизнь Иисуса. В морально-нравственном ключе аллегорий XVII столетия сюжеты истории Иосифа интерпретировались как аллегории добродетелей - смирения, целомудрия, отцелюбия, а дар прорицателя был заслуженной наградой за добродетель. На дверцах нидерландского свадебного шкафа (1630-1650-х годов) из Амстердамского Рейксмузеума помещены шесть рельефов на сюжеты из жизни Сусанны - аллегории целомудрия, супружеской верности .
Печь из черного фаянса, работы Андреана Лейбольда (Германия, 1662), украшена рельефами на сюжеты подвигов Геракла . Этот герой античной мифологии, очень популярный в XVII столетии, олицетворял, прежде всего, борьбу Порока и Добродетели. Тема, восходящая к аллегории Продика (V в. до н.э.), неоднократно возникала в живописи, графике, музыке эпохи : арокко. Огонь в печи, на стенках которой изображена история Геракла, придавал дополнительный смысл теме борьбы Добродетели и Порока.