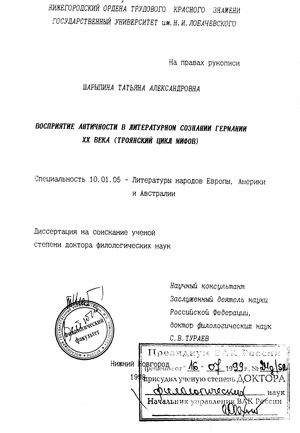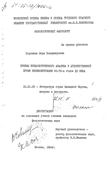Содержание к диссертации
СТР.
Введение 3
Глава первая Становление концепции античности в философско-эстетической мысли Германии второй половины XVIII-
XIX века 28
Глава вторая Сюжеты Троянского цикла мифов в художественных иска
ниях немецких писателей 900-40-х гг. XX в 107
Постницшеанская культурная традиция и "античные" трагедии Гуго фон Гофмансталя 108
"Античные" драмы Гуго фон Гофмансталя и эстетические искания Рихарда Штрауса 141
Экспрессионистское мифотворчество и эпический театр Б. Брехта 181
Восприятие античности в драматургии Г.Гауптмана 900-40-х гг. XX века 231
Глава третья Восприятие античности в творчестве немецких писате
лей 50-90-х гг. XX века 285
Проблема мифа в теоретических изысканиях Т.Манна и философско-эстетические концепции эпохи ... 288
Проблема восприятия античного наследия в эстетических исканиях Г.Э.Носсака 317
Рецепция античности в творчестве немецких писателей 70-80-х гг. (Ю. Брезан, К. Вольф, Ф.Фюман).. 340
Сюжет об Ифигении в идейно-художественной концепции произведений И.Лангнер ("Ифигения возвращается") и Ф.Брауна ("Ифигения на свободе") ... 420
Заключение 439
Примечания 455
Библиография 475
Приложение 517
Введение к работе
Одной из определяющих тенденций в культурной жизни нашего времени является активное восприятие нравственных ценностей классического, в том числе античного наследия. В последнее время ученые все чаще напоминают об "экологии культуры", имея в виду не только сохранность ее памятников, но и самой ее памяти, осознания неповторимой ценности ее достояния, не снимаемой последующими этапами художественного развития. Интеллектуальная насыщенность литературного произведения - характерная черта в искусстве XX века - приобретает особую значимость в немецкой литературе текущего столетия. Трагизм исторического пути Германии в двадцатом веке, так или иначе проецируясь на всю историю человеческой цивилизации, послужил своеобразным катализатором для развития философских тенденций в немецком искусстве XX века. Не только конкретный жизненный материал, но и весь арсенал философских и этико-эстетичес-ких концепций, выработанных человечеством, используется для моделирования авторской концепции мира и места человека в нем.
В немецкой культуре XX века потребность в идеале, "высокой норме", характерная для кризисных эпох, проявляет себя в уникальных диалогах и полилогах культур: язычества и христианства, античности и Средневековья, античности и Возрождения, романтизма и Средневековья, античности, романтизма и современности. Поиск стабилизирующих тенденций (не только в сфере эстетической, художественной , но и национального самосознания в целом) характерен для всех ведущих писателей Германии на протяжении XX столетия - Г.Га-уптмана, Т.Манна, Г.Манна, Л.Фейхтвангера, В.Газенклевера, Г.Кай-
зера, Г.Э.Носсака, К.Вольф,Ю.Брезана Ф.Фюмана, Ф.Брауна и многих других. Переживая одновременно и ощущение трагического кризиса, и предчувствие возрождения, они не просто апеллируют к эстетической "памяти" эпох, но испытывают потребность в общечеловеческих пророчествах и художественно-философских откровениях.
Актуализация традиций античного наследия, прежде всего образов древнегреческой мифологии, в искусстве Германии XX века, обусловлена именно этой потребностью в новых возможностях и способах изображения конфликтных отношений человека и мира. Интерес к традициям античности, древнегреческой мифологии в текущем столетии поистине всеобъемлющ и проявляется во всех сферах искусства и культуры. Так, миф исследуют философы, историки, лингвисты, этнографы, искусствоведы, композиторы. Не ослабевает этот интерес и в литературе, генетически тесно связанной с мифологией (миф стоит у истоков словесного искусства) и обращающейся к античности как к мощному творческому источнику на всем протяжении своего развития. Это закономерный процесс. Он предопределяется глубокой и зачастую неосознанной внедренностью античных реалий, и прежде всего мифа, в область философских, культурологических, социальных проблем. Активизация сюжетов и образов античности в современном художественном процессе вызвана желанием найти устойчивую связь времен, опереться на незыблемые нравственные ценности. Античное наследие существует в веках именно благодаря содержащемуся в нем огромному художественно-эстетическому и идейному богатству, оказавшему сильнейшее влияние на культурное развитие всех европейских народов. Кроме того, в античном искусстве представлены такие проблемы и конфликты, которые нередко имеют значение далеко выходящее за пределы одной лишь античности. Каждая эпоха находит в различных
реалиях античности то, что отвечает ее общественным потребностям. Так, нравственный потенциал содержания древнегреческих трагедий, основанных на мифах, не иссяк по сей день, ибо в них представлены общечеловеческие духовно-нравственные ценности высших образцов, а запас социального опыта, духовной энергии, нравственных обобщений оказался столь велик, что, как справедливо заключает В.А.Бачинин, "родовая эпоха не сумела израсходовать его полностью и передала как эстафету последующим формациям, обеспечив мифам вторую, третью, четвертую и т.д. жизнь в постоянно меняющихся исторических условиях"[2.24]. Процесс этот стимулирован самой спецификой мифомышления и мифологического образа. Большинство отечественных и зарубежных мифологов (А.Ф.Лосев, 0.М.Фрейденберг, А. В.Гулыга, Б.Малиновский, К.Хюбнер и др.) приходят к выводу, что все реалии мифа имеют в XX веке не познавательный, а поведенческий характер. Как форма знания миф утрачивает свою актуальность, как побуждение к действию он не исчерпал свои возможности. Современные ученые считают, что история человеческой культуры характеризуется постоянным изменением соотношения мифологического и рационально-эмпирических компонентов в сознании индивидуумов, в общественном сознании народов: "Миф есть особый тип общественного сознания, в котором сублимированы определенные черты мировосприятия, жизни, практики коллектива, который тяготеет к автономной образно-повествовательной форме и который присутствует в исторической практике народов, окрашивая и модифицируя ее"[2.76; 390]. Ошибочно думать, что мифологические функции сознания отмирают в процессе исторического развития человечества. Мифологизация как одна из особенностей психической организации человека актуальна и теперь. Человек непрерывно "мифологизирует". Хотя, в отличие от "мифоло-
гического периода" древней истории, в XX веке исчезает мифологическое отношение к окружающей природе. Сферой этого процесса является теперь не природная стихия, но социальная, эмоциональная жизнь человека. Рудименты мифомышления проявляются и в бытовом поведении. Мифомышление, трансформировавшись, живет и в историческом сознании, в чувстве сопричастности ушедшим поколениям.
Актуализация в современной культуре мифа как такового и античного мифа, в частности, вызвана, по справедливому замечанию ученых (С. Аверинцева, Ф.Кесседи, Д.Н.Низамиддинова, К.Хюбнера (1), и тем, что на пороге нового тысячелетия человек ощутил насущную потребность среди "эсхатологических предчувствий" найти устойчивую связь времен. Причины глобального интереса деятелей культуры и искусства XX века к образам и сюжетам древнегреческой мифологии обусловлены самой спецификой мифомышления и мифологического образа, всегда обращенного к человеку, его внутренней сути в противовес дегуманизирующему началу. Миф, особенно в кризисные эпохи, как опыт поколений всегда представляет память веков и сохраняет ее как гарант мировой стабильности и закономерности.
Активное обращение к мифу в литературе XX века вызвано и поисками новых возможностей изображения человека и мира(2). Однако освоение античного наследия - это не только традиционное усвоение идейного богатства лучших образцов. Как справедливо замечает Г.Кох, "освоение наследия - всегда новый, заново осуществленный каждым поколением процесс, о чем мы иногда забываем на практике" [2. 107; 41].
Одна из ведущих тенденций искусства XX века в освоении античности - преломление сюжетов, образов и идей древнегреческой
мифологии и литературы в художественной структуре произведений иной эпохи. Анализ процесса создания, восприятия и воздействия подобных произведений на современного читателя подтверждает мысль о многозначности, заложенной в произведениях прошлого, прежде всего - античности, раскрывающейся в различных культурно-исторических условиях,- проблема, актуальная как для отечественного, так и для зарубежного литературоведения.
Анализ принципов рецепции античного наследия в литературном сознании той или иной эпохи, в частности в литературном сознании Германии XX века, включает прежде всего две проблемы: рецепция автором изучаемого произведения многовекового опыта человечества, заложенного в произведениях античности, и восприятие вновь созданного художественного произведения читателем, культурной средой эпохи.
В связи с этим следует отметить, что в истории мировой культуры и литературы античность проявляет себя как бы в двух измерениях. С одной стороны, это вполне определенная, ограниченная конкретными хронологическими рамками эпоха в развитии человеческой цивилизации, в рамках которой существует законченная система сформировавшихся духовных ценностей и нравственных императивов, воплощенных в адекватных соответствующим общественным потребностям художественных формах и философских системах. С этой точки зрения, наследие античности становится определенным каноном, классической нормой, предметом подражания. С другой стороны, в определенные периоды истории человеческой культуры античность начинает восприниматься не как система застывших правил и категорий, а как вневременная духовная реальность. Подобные "пики" интереса к античности приходятся, как известно, на кризисные моменты
в общественном сознании, в момент утраты привычных идеалов и в период поисков новых нравственных ориентиров. Подобная ситуация сложилась на рубеже XVIII-XIX веков, когда вновь открытая и возрожденная И. И. Винкельманом античность вошла в литературное сознание не только Германии, но и всей просвещенной Европы как гармонический идеал художественного, нравственного и общественного развития человечества. Образ лучезарной идеальной Эллады как бы заслонил собой весь древний мир, вобрав в себя и представление о Древнем Риме с его неоднозначной историей, и представление о странах Древнего Востока, став символом золотого века человечества и оптимистического мировосприятия(3).
Новый "пик" активной рецепции в эстетическом сознании Германии и всей интеллектуальной Европы приходится на рубеж XIX-XX веков. Стимулирован он как теориями Ф.Кройцера, Дж.Герреса, И. И.Ба-хофена, так и археологическими находками и догадками Г.Шлимана, в 70-х годах XIX века проводившего раскопки на мысе Гиссарлык и открывшего развалины дворцов в Микенах и Тиринфе, исследованиями А.Эванса, проводившего раскопки на Крите и доказавшего существование изумительной по своему богатству культуры, существовавшей в Ш-П тысячелетиях до н.э. Свою философскую, этико-эстетическую и психологическую базу новый взгляд на античность получает в трудах Фридриха Ницше, книга которого "Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм"(1873) появляется по сути одновременно с продуктивными гипотезами и открытиями Г.Шлимана.
Воспроизведение античных сюжетов и образов встречается нередко не только в произведениях известных, но и малоизвестных писателей. Найти отдельные античные реминисценции в структуре повествования и понять причины обращения художника к данному сюжету
или образу - достаточно сложно. Одним из наиболее важных моментов в понимании образной системы произведений нового и новейшего времени, основанных на классических сюжетах, является соотнесение ее с исходной ситуацией, мотивами, образами. Переосмыслению в новейшей литературе подвергаются не только сюжеты и образы античной литературы и мифологии, но сама нравственно-этическая основа привычных и хорошо знакомых со студенческой скамьи классических героев.
Восприятие поступков большинства мифических героев и героев античных трагедий при современном прочтении претерпевают значительные изменения. Эта особенность выявляется при анализе сюжетов и образов одного из наиболее известных в греческой мифологии циклов - Троянского цикла - в структуре произведений зарубежной литературы новейшего времени, в частности немецкой. Переосмыслению и трансформации подвергаются образы Агамемнона, Кассандры, Клитемнестры, Елены, Ифигении, Электры, Одиссея, Ахилла и Менелая.
Так, для автора древнейшего эпического произведения Ахилл -воплощение героической доблести. Необузданность его гнева не нуждается ни в объяснении, ни в оправдании. Для современного сознания, о чем свидетельствует ряд произведений (К.Вольф, Ю.Врезана, Ф.Дюрренматта ), жестокость, необузданность гнева Ахилла не оправданы, но убедительно мотивированы. Вариативность мифа предполагает многостороннее толкование образа. Однако, говоря о современной мифологизации или демифологизации, мы подчас забываем, что в древности уже были заложены многие из современных трактовок. Так, образ Ахилла уже в средневековой поэме "Разрушение Трои" Гвидо де Колумны имеет иную, по сравнению с гомеровской, трактовку. Ахилл оказывается нечестивым воином, поражающим врага со спины. Именно
с этой "апофеозной героической Греции" (В.Белинский) связана в наибольшей степени тенденция демифологизации, дегероизации традиционных образов и сюжетов античной мифологии.
Как справедливо констатирует М.Грабарь-ПассекС2.60], уже в античной литературе впервые оформилось большое число мифологических сюжетов, впоследствии подвергнувшихся многократной обработке, порой в виде имитаций, близких к своим прототипам, порой в форме своеобразной и самобытной. При этом от тех, кто знаком только с наиболее распространенными традиционными версиями того или иного сюжета, может ускользнуть то обстоятельство, что многие сюжеты и образы мифологического происхождения претерпели ряд существенных изменений уже в пределах самой античности. Изменились перипетии судеб отдельных мифических героев, оценка их характера и поступков, трактовка содержания крупных циклов мифов. На трансформацию мифологического сюжета в системе произведения новейшего времени нередко оказывают влияние различные побочные версии, соответствующие интересам и взглядам той эпохи, когда этот сюжет заново возникает в художественной практике. Подобный процесс на материале средневековой литературы анализируется в монографии М. Грабарь-Пассек, где намечаются сами принципы подобной актуализации античного сюжета.
К середине VI века до н.э. расцвет мифологического эпоса закончился. Сложившиеся к V веку унифицированные мифологические циклы давали огромный материал для переплавки в драматическое действие. Почти каждый, даже мелкий эпизод эпического повествования, в котором участвовало хотя бы три-четыре лица, мог служить сюжетом драмы. Весь этот огромный материал был многосторонне использован драматургами. Объединенный и синтезированный в эпичес-
ких поэмах, в в драматических произведениях, он, по верному замечанию М. Грабарь-Пассек, проделал как бы обратную эволюцию. Нет почти ни одного лица, вокруг которого имелся бы сложившийся миф и которое не стало бы героем драмы[2.60].
Аристотель первый с теоретической точки зрения обратился к проблеме использования мифа в литературе, прежде всего в драматургии. Требуя, чтобы в трагедии "судьба изменялась не из несчастья в счастье, а наоборот - счастья в несчастье не вследствие порочности, а вследствие большой ошибки", - он прибавляет, что: "прежде поэты отделывали один за другим первые попавшиеся мифы, ныне же лучшие трагедии слагаются в кругу немногих родов, например, вокруг Алкмеона, Эдипа, Ореста, Мелеагра, Фиеста и всех других, которым пришлось или перенести, или совершить что-либо ужасное" [1.1; 79-80].
Аристотель касается и способа использования мифа в художественной практике. "Хранимые преданием мифы нельзя разрушать,- говорит он,- я разумею, например, смерть Клитемнестры от руки Ореста и Эрифилы от Алкмеона, но поэту должно и самому быть изобретательным и пользоваться преданием как следует"[1.1;84].
На первый взгляд, в этом совете заключено противоречие: с одной стороны, миф должен быть сохранен, с другой - допускается собственное "изобретение". Подобное рассуждение о характере использования мифа в трагедии по сути не идет вразрез с высказываниями Аристотеля о предмете искусства: "Задача поэта - говорить не о происшедшем, а о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости"(4).
Не изменяя развязки известного мифологического сюжета, древнегреческие драматурги свободно обращались с завязкой и развитием
действия и создавали цельные и своеобразные характеры, исходя из одной и той же мифологической фабулы. Не раз одну и ту же тему с одними и теми же главными действующими лицами разрабатывало несколько поэтов, и, конечно, разрабатывали они ее по-разному, так что каждый из них был именно тем, чем он по мнению Аристотеля, должен был быть, - изобретателем. В качестве примера достаточно вспомнить "Орестею" Эсхила, "Электру" Софокла, "Электру" и "Ореста" Еврипида.
Первоначально под античными и мифологическими сюжетами понимали те, что уже в Древней Греции и Средневековье были оформлены в литературные произведения и произведения других видов искусства. Но художественная практика писателей XX века, и литература Германии тому яркий пример, вносит в решение этого вопроса корректировку. Наряду с использованием традиционных версий классических сюжетов и образов мы встречаем ряд творческих интерпретаций в духе различных философских школ и направлений. Достаточно вспомнить пьесы"Мухи" Ж.П.Сартра, "Троянской войны не будет", "Электра", "Амфитрион-38" 1. Жироду, "Эвридика" и "Антигона" Ж.Ануя "Антигона"и "Кориолан" Б.Брехта, тетралогию об Атридах Га-уптмана, "античные" пьесы Г.Кайзера, П.Хакса, Х.Мюллера, произведения К.Вольф и Ф. Фюмана. Список может быть значительно дополнен.
Восприятие античности в творческих исканиях немецких писателей XX века - проблема, без рассмотрения которой невозможен подлинно научный, всесторонний анализ эволюции литературного процесса Германии текущего столетия. Тем не менее названная тема еще не стала предметом целостного монографического исследования, хотя отдельные ее аспекты, слагаемые и теоретические основания в той или иной степени отражены и разрабатываются в трудах как отечест-
венных, так и зарубежных исследователей.
Так, фундаментальной базой для изучения поставленной проблемы являются труды отечественных литературоведов, философов, мифологов: А. Ф.Лосева, М.П.Алексеева, М.М.Бахтина, Ю. Б. Виппера, В.М.Жирмунского, В.В.Иванова, Н.И.Конрада, А.А.Потебни, СИ. Рад-цига, 0. М. Фрейденберг, С. С. Аверинцева, А. В. Гулыги, А. Я. Гуревича, Е.М.Мелетинского, А. А. Тахо-Годи, И. В. Шталь, а также работы немецких теоретиков Р. Ваймана, Г. Г. Гадамера, Г. Коха, К. -Ю. Скродцки, К. Хюбнера, Э.Френцель, Д. Шленштедта, М. Шмелинга и др.
В нашем исследовании мы опираемся но основные положения концепции античного мироощущения и античной эстетики А.Ф.Лосева, изложенной им в ряде фундаментальных трудов(5). В связи с общими задачами исследования представляется целесообразным опираться в рассуждениях о мифе и мифологии на определение, предлагаемое А.А. Тахо-Годи, которое позволяет полнее и глубже уяснить природу мифологического образа. Исследователь исходит из самой семантики понятия "миф" и справедливо замечает, что "миф" по-гречески означает не просто слово о богах и героях. Миф, по мысли А.А.Тахо-Годи, выражает обобщенно-смысловую наполненность слова в его целостности. И, следовательно, то, что "обычно называют мифологией, есть упорядоченное единство существовавших первоначально в дифференцированном виде "слов", обобщающих для древнего человека представление о том мире, в котором он живет, и о силах, которые этим миром управляют[2.177; 10-11]. Миф - это словообобщение человеком чувственного восприятия мира, тот фундаментальный опыт человечества, что способен актуализироваться в любую историческую эпоху.
По своей сути определение мифа А. А. Тахо-Годи развивает и до-
полняет соответствующие суждения о мифе А.Ф.Лосева. Ученый считал, что для рождения мифа исключительно важна обобщающая деятельность сознания. Мифологический образ представляет собой общую идею в чувственно-конкретном облике, а потому "миф есть непосредственное вещественное совпадение общей идеи и чувственного образа" С2.142;I,193. А.Ф.Лосев настаивает на нераздельности в мифе идеального и вещественного, вследствие чего и является в мифе специфическая для него стихия чудесного.
Еще А.А.Потебня, подходя к определению природы мифа с лингвистической точки зрения, учитывал саму семантику слова. Ученый исходил из того, что мифологическое и символическое понимание слова есть парадигма для всякого словесного искусства[2.162]. В центре теории А.А.Потебни находится понятие "внутренней образной формы слова", которая противостоит и его внешней звуковой форме, и его абстрактному значению. Внутренняя форма слова является чувственным знаком его семантики. Нерасчлененность образа и значения определяет, согласно теории А.А.Потебни, специфику мифа. Ученый справедливо считал, что "язык есть главное и первообразное орудие мифологии"[2.162; 433], что миф, как совокупность образа (сказуемое), представления и значения (психологическое подлежащее) , нельзя мыслить вне слова, а потому он принадлежит словесности и поэзии.
Говоря о неразрывной связи языка и мышления, А.А.Потебня пишет о том, что в дописьменный период единственным свидетелем движения мысли человека было слово, а "те же душевные процессы, которые производят слово, но известной ступени вместе со словом создают и мифы"[2.162;4423. Потебня не ограничивает процесс мифотворчества определенным временем в истории человеческой культу-
ры, ибо создание нового мифа состоит в создании нового слова" [2.162;439]. Он сравнивал слово с некоей рамкой, определяющей круг наблюдений говорящего и одновременно окрашивающей наблюдаемое [2. 162; 416]. Анализируя содержание мифов различных народов, А.А.Потебня приходит к выводу о том, "что под влиянием известного языка известные мифы вовсе не могли бы образоваться"[2.162;419]. Продуктивной является мысль исследователя о том, что всякое понимание слова есть, в известной степени, и создание его нового значения. На этом во многом и основана непрерывность мифотворчества.
Развивая учение А.А.Потебни, И.В.Шталь, анализируя внутреннюю суть мифа и пути его интерпретации, приходит к концептуальному выводу о том, что "присутствие в мифе поэтического вымысла позволяет говорить о специфических художественных законах строения мифологического, а затем мифо-эпического образа в пределах различных жанровых форм мифа и эпоса"[2.215; 21 3.Исследователь также поднимает важную проблему соотнесения мифологического и эпического образов, констатируя, что "мифический образ равен значению, образ эпический - значения шире и практически многозначен" [2. 215; 22].
Основополагающей для анализа рецепции античности в литературном сознании той или иной эпохи является и мысль И.В.Шталь о том, что "античная религия, как и античная культура в целом, имеет свою особую специфическую периодизацию, связанную с историческим, экономическим и духовным развитием общества. Период архаики (VIII-VI вв. до н.э.) так же резко отличен от классики (V - первая половина IV вв. до н.э.), как классика от раннего (вторая половина IV - первая половина II в. до н.э.) и позднего (вторая половина II в. - I в. до н.э.) эллинизма[2.213; 5-20].
Исходя из идеи "разноликости" античности, А. В.Михайлов справедливо замечает, что эпоха Гете и Гегеля постигала античность как бы в "исторически перевернутом" порядке: александрийская поэзия, классика и лишь затем архаика. Это привело к определенному противоречию. Открывавшиеся пласты древнегреческой архаики ставили под сомнение абсолютизацию винкельмановского идеала "благородной простоты и спокойного величия", "поэтому вместо того, чтобы изображать красоту, какая представлялась ему в идеале, Гете должен был создавать поэтические символы упорядочивания, благоустраивания самой реальности, и красота античного могла блеснуть среди всего этого хаоса лишь только как луч"[3.82]. Неукротимые стихийные порывы античности, увлекавшие современников Гете, в том числе Ф. Гельдерлина, оказались чужды великому веймарцу. Для эпохи Гете и Гегеля Греция как классическая идеальность вбирает в себя и культуру Древнего Рима с его исторической спецификой, становясь символом античности как таковой.
С точки зрения С.С.Аверинцева, винкельмановская Эллада -идеал культурно-исторической эпохи Германии с 1764 (первые публикации Винкельмана) по 1832 год (смерть Гегеля и смерть Гете). Ученый справедливо отмечает, что под воздействием накопления научных фактов, философского иррационализма и эстетического декаданса в западноевропейской культуре XX века происходит переакцентировка в понимании восприятия античности. Аполлоновской упорядоченности начинают противопоставляться "тайны дионисийского неистовства" (Ницше) или "материнская" мистика могильной земли и рождающего лона (линия Бахофена)[2.5].
Среди зарубежных исследований, так или иначе касающихся проблем рецепции античности, следует в первую очередь назвать
фундаментальные труды К.-Ю. СкродцкиСЗ. 199]. М. Шмелинга [2.243]и Э.ФренцельС2.229]. В монографии К.-Ю. Скродцки, посвященной рассмотрению функций античного мифа в структуре постнатуралистической драмы, утверждается мысль о том. что использование современными драматургами античных источников в качестве сюжетной основы не только дает возможность обогатить драму в содержательном отношении, но и оказывает непосредственное влияние на драматическую форму. Как пишет исследователь, создается новая форма - мифодра-ма. Анализируя произведения Г.Гауптмана. Г.Кайзера. Х.Х.Янна, Р.Паннвица. Ф.Ведекинда, Х.Мюллера, ученый высказывает мысль о том, что миф в пьесах этих писателей выполняет "трансцендентальную функцию". Являясь как бы "переводчиками" древних сюжетов на язык современности, драматурги не следуют за ними буквально, а вскрывают закономерности современного сознания и конфликты действительности.
Значительное место в исследовании отводится анализу, с этой точки зрения, тетралогии об Атридах Г. Гауптмана, которую критик называет поэтическим завещанием драматурга. В центре внимания исследователя прежде всего выявление черт древнегреческой архаики и рудиментов архаического мифомышления в структуре трагедий, сюжетах и принципах создания образов.
В своем обстоятельном труде М. Шмелинг ставит задачу изучения влияния мифологического сюжета о Минотавре и Лабиринте как культурно-исторической и художественной концепции на поэтику западноевропейского романа (от Э.Золя до Ф.Кафки и А.Роб-Грийе) . Эволюция мотива "лабиринта" в названных произведениях, с точки зрения автора, определяется сменой мировоззренческих ориентиров.
Определенное значение для изучения рецепции античности в ли-
тературном сознании Германии XX века имеет и труд Э.Френцель, в котором излагается концепция мирового литературного процесса как исторической последовательности развития и смены мотивов.
Вопросы освоения классического наследия, взаимодействия традиций и новаторства, в частности влияния традиций античности на творчество тех или иных немецких писателей XVIII-XIX и XX вв. -предмет исследования ведущих отечественных и зарубежных германистов. К этой проблеме обращаются и обращались А.А.Аникст, В.Ф.Асмус, Н.Я.Берковский,В.В.Ванслов, И. Е. Верцман, А. В. Карельский,А.В.Михайлов А.А.Федоров, С.В.Тураев.А.А.Гугнин,И.В.Карташова, И. Н.Лагути-наН. С., Лейтес, И. В. Млечина, Н. С. Павлова. Д. Л. Чавчанидзе, 0. Конради, Д. Шленштедт и многие другие.
В работах В.Ф.Асмуса и А.А.Аникста, посвященных как общетеоретическим вопросам немецкой литературы XVIII века, так и касающихся рассмотрения различных аспектов творчества И.В.Гете и Ф.Шиллера, содержится ряд важных для рассмотрения эволюции восприятия античности в Германии положений(6). В частности, справедливым является вывод В.Ф.Асмуса о том, что сказанное Винкельманом о скульптуре было многозначно, "винкельмановская характеристика греческой пластики была обобщена и превратилась в характеристику античного способа видения не только красоты, но и всего доступного чувственному созерцанию мира"[2.15; ].
Основополагающим для изучения эстетических воззрений деятелей немецкого Просвещения XVIII века и специфики теории и практики Веймарского классицизма являются труды С.В.Тураева(7). Говоря о том, что "идея гуманизма, озарявшая искусство XVIII века, легко находила свое обоснование и поддержку в художественных образах, созданных древними греками [3.131;87], ученый замечает, что наследие древних становилось действенным орудием в эстетической по-
лемике. Так, статья Гете "Винкельман и его век", являвшаяся итоговой по отношению к целому периоду творчества писателя, имеет и явно полемическую цель в этико-эстетической дискуссии с романтиками. Интересной является мысль ученого о том, что хотя "образ Древней Греции был эстетическим выражением просветительского идеала", но рамки винкельмановской концепции во многом были узки для художественной практики Гете и Шиллера. Так, в стихотворениях на античные сюжеты Шиллер выводит такие антиномии и трагические конфликты, изображение которых не согласуются с концепцией винкельмановской гармонии [3.131; 923.
Труды В. В. Ванслова, И. Верцмана, Н. Я. Берковского и А. В. Карельского (8) посвящены, в основном, рассмотрению эстетической проблематики и анализу творчества деятелей немецкого романтизма. Однако многие положения их исследований, касающиеся роли античного и мифологического наследия в художественной практике романтиков важны для создания общей картины эволюции рецепции античности в эстетическом сознании Германии. В частности, монография А. В. Карельского "Драма немецкого романтизма" в целом ряде положений имеет прямые выходы в изучение интеллектуальной литературы XX века. Так, А. В.Карельский отмечает, что, "явившись сюжетной и смысловой основой древнегреческой трагедии, миф в пьесах нынешнего столетия продолжает играть существенную содержательную и структурообразующую роль"[2.103; ].Драматурги вкладывают в античные мифы актуальное содержание, но сохраняется единство установки: "На примере "заданного", вне автора существующего сюжета, демонстрируется определенная система взглядов, мораль. Автор стоит над сюжетом, манипулируя им в своих целях"[2.103;109].
Вопросы осмысления рецепции классического наследия - предмет
рассмотрения в работах И.Бернштейн. А. А. Гугнина, Н.С.Лейтес, И.В.Млечиной, Н.С.Павловой,Н.Г.Чернышевой, посвященных проблемам поэтики немецкой литературы XX века. Античные образы и сюжеты рассматриваются названными исследователями в произведениях К.Вольф, Ф.Фюмана, Ю.Брезана, А.Зегерс, Т.Манна, Г.Гессе и др. наряду с аллюзиями и реминисценциями из Шекспира, Гете, немецких романтиков, немецкого и славянского фольклора, мифологическими мотивами и образами других народов.
Концептуальным для изучения рецепции античности в литературном сознании Германии XX века являются работы А.А.Федорова (26), посвященные характеристике художественного мира романов Т.Манна, его эстетических взглядов, в частности, полемики Т.Манна с З.Фрейдом, критического осмысления трудов Вагнера, Юнга, Ницше [3.1 39]. В работах последних лет жизни ученый намечает пути исследования проблем мифотворчества в литературе XX века, затрагивая вопросы мифологизации на примере творческой практики экспрессионистов, Т.Манна, французского экзистенциализма.
Проблемы рецепции классического наследия - предмет рассмотрения в докторских диссертациях последних лет Д.Л.Чавчанид-зе[3.148], В.А.Пронина [3.109], Г.А.Фролова[3.145], В.А.Фортунатовой [3.143]. Однако если в трудах Д.Л.Чавчанидзе и В.А.Пронина эта' проблема решается на материале специфического духовно-эстетического опыта немецкого романтизма XIX века, в центре внимания Г.А.Фролова и В.А.Фортунатовой - осмысление процесса интеграции идейно-эстетического опыта романтизма с современным. Прослеживается функционирование традиции в немецкой литературе 60-80-х гг., В.А.Фортунатова обращается также к рецепции образов древнегер-манского эпоса о Нибелунгах, античных мотивов, сюжетов и образов
Гете и Шиллера в поэтике произведений современных немецких авторов.
С методологической точки зрения представляют особый интерес посвященные проблемам взаимодействия традиций и новаторства в зарубежной литературе XIX-XX вв. труды Л.Г.Андреева,В.Н.Богословского, А.Ф.Головенченко, И.В.Киреевой,А.С.Мулярчика, А.Н.Николюки-на.Тема диссертации, как было указано выше, "Восприятие античности в литературном сознании Германии XX века (Троянский цикл мифов)". Термин "литературное сознание", определяющий направление диссертационного исследования, предложен нам профессором А.С.Мулярчиком. Среди работ, посвященных теоретическим аспектам изучения указанной проблемы, следует назвать работы С. А. Кибальника, исследующего античное влияние в антологической лирике А.С.Пушкина, С.М.Телегина, рассматривающего диалектику влияния мифа и ми-фосознания на творчество Достоевского и Лескова[2.180],[2.181], а также Т.Г.Мальчуковой, анализирующей функции античного наследия в творчестве А.С.Пушкина, в современном литературном процессе.
Актуальность избранной темы в общетеоретическом плане определяется тем, что проблема традиций и новаторства является магистральной в современном отечественном и зарубежном литературоведении. Активное восприятие нравственных ценностей классического, в том числе античного наследия, - ведущая тенденция в культурной жизни современности. Использование древнегреческих сюжетов и образов мифологического происхождения, а также авторское мифологизирование - одно из основных направлений современного литературного процесса, а анализ рецепции античности - одно из нап-
равлений как профессионального литературоведения, так и творческих исканий ведущих мастеров художественного слова Германии XX века.
Это закономерно, поскольку в немецкой классической литературе и эстетике сложились определенные традиции в изучении и освоении античного искусства. Начало этому положено как в эстетических исканиях, так и в художественной практике Винкельмана и Лессинга, Гете и Шиллера, Шеллинга,А.и Ф. Шлегелей и В.Ф.Гегеля, Клейста, Вагнера, Ницше, Шпенглера. В современной немецкой литературе и литературоведении рецепция античности - предмет исследования в трудах Р. Ваймана, М.Шмелинга, К.-Ю.Скродцки, Э.Френцель и объект творческих исканий ведущих мастеров художественного слова Германии XX века Г.Гауптмана, Г.Кайзера, В.Газенклевера, Л.Фейхтвангера, Г.Э.Носсака, Ф.Фюмана, В.Хильдесхаймера, К.Вольф, П.Хакса, Х.Мюллера, Ф.Брауна и др.
В плане сравнительно-типологического анализа названная тема позволяет обратиться к аналогичным интерпретациям античных сюжетов и древнегреческих мифологических образов в австрийской, американской и французской литературах (Г. Гофмансталь, Ф.Верфель, Ф.Браун, Ю.О'Нил, Ж.-П.Сартр. Ж.Ануй. Ж.Жироду). Это позволяет говорить о закономерностях интерпретации античных сюжетов и образов, зависящих прежде всего от постоянно обновляющегося социально-культурного опыта человечества.
Научная новизна настоящей работы заключается в том, что она является первым в отечественном литературоведении монографическим исследованием, посвященным рассмотрению эволюции рецепции античного наследия в художественных исканиях немецких писателей XX века. В диссертации прослеживается взаимосвязь ре-
цепции античности в литературном сознании Германии XX века с философскими идеями Ф.Ницше, О.Шпенглера. З.Фрейда, К.Юнга, теоретиками немецкого и французского экзистенциализма (М.Хайдеггером, К.Ясперсом, Ж.-П.Сартром, А.Камю). Научная новизна представленной работы состоит в том, что широко используются малоизученные и до сих пор не переведенные на русский язык произведения Г.Гауптмана ("Лук Одиссея", тетралогия об Атридах), В. Газенклевера("Антигона"), Ф.Фюмана ("Тени". "Кирка и Одиссей"), а также вводятся в научный оборот не переведенные на русский язык и не подвергавшиеся ранее исследованию в отечественном литературоведении материалы творчества Ф.Верфеля ("Троянки"), И.Лангнер ("Клитемнестра", "Ифиге-ния возвращается"), Ф.Брауна ("Тантал"), Г.Гофмансталя ("Ариадна на Наксосе", "Египетская Елена"), Ф.Брауна ("Ифигения на свободе").
Цели и задачи исследования:
Выявление специфики рецепции античного наследия в эстетических исканиях немецких писателей XX века.
Исследование эволюции восприятия античного наследия в контексте меняющейся культурно-исторической обстановки.
Определение роли античного наследия как своеобразного этико-эс-тетического критерия в исканиях немецких писателей XX века.
Рассмотрение ассимиляции античных образов и сюжетов в контексте произведений новой эпохи.
Анализ процесса интеграции идейно-эстетического опыта античного наследия с современным.
Объект исследования В связи с тем, что объем фактического материала чрезвычайно велик, в качестве предмета исследования избирается интерпретация
сюжетов Троянского цикла мифов как наиболее драматичного, подвижного и созвучного определенным этапам исторического развития Германии. Троянская война ассоциировалась в сознании немецких литераторов XX века с современной катастрофой Германии. В связи с поставленными целями и задачами исследования рассматриваются также интерпретации мифов о родовом проклятии Атридов в немецкой литературе указанного периода.
Исследование сконцентрировано не на хронологической систематизации фактов использования мифологических образов и сюжетов, а на выявлении наиболее значимых закономерностей, эволюции рецепции античного наследия в художественных исканиях немецких писателей XX века.
Принципы исследования:
В работе использован историко-литературный метод анализа с элементами сравнительно-типологического, а также метод целостного анализа художественного произведения.
Практическая значимость
Принципы и подходы, найденные в работе, могут быть успешно применены в дальнейшем изучении литературного процесса Германии XX века.
Основные положения диссертации могут быть использованы при чтении и разработке общих курсов по истории зарубежной литературы, истории немецкой литературы XX века .истории мировой культуры, курсов по германо-зарубежным литературным связям , а также спецкурсов и спецсеминаров по проблемам поэтики и эстетики .рецепции античного наследия в литературном процессе XX века.
Апробация общей концепции работы, а также отдельных ее аспектов состоялась в виде докладов на заседании Комиссии по
- 25 -изучению творчества Гете и его эпохи АН РФ (1993;1995 гг.), в докладах и сообщениях на конференциях литературоведов Поволжья (1986, 1988), Всесоюзном научно-методическом совещании по актуальным проблемам преподавания дисциплин классической филологии и зарубежной литературы (Харьков,1987), на II Межрегиональном научном семинаре "Художественное мышление Э. Т. А. Гофмана"(Калининград, 1990), на Международных научных конференциях"Нормы человеческого общения"(Горький,1990, Н.Новгород, 1997), Пуришевских чтениях (Москва, МПГУ, 1996, 1997), на Международной научной конференции "Проблемы романтизма в русской и зарубежной литературе" (Тверь,1996) на заседании круглого стола "Античный мир и пути его изучения"(ИМЛИ РАН, 1997),основные положения и концепция исследования обсуждались на кафедре зарубежной литературы Нижегородского госуниверситета, кафедре зарубежной литературы Московского педагогического университета. Содержание диссертации отражается в статьях и тезисах, опубликованных в соответствующих изданиях Нижегородского , Чувашского,Харьковского и Белорусского госуниверситетов . Концепция работы получила свое отражение в монографии "Проблемы мифологизации в зарубежной литературе XIX-XX вв. "(Н.Новгород, 1995).
Структураработы определяется поставленными в ней задачами и целями исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, примечаний и приложения, содержащего перевод III действия радиопьесы Ф.Фюмана "Тени". Общий объем - 454 стр.основного текста; примечания , библиография и приложение - 76 стр. Список литературы включает 571 название, из них на русском 464 и 109 на немецком языке.
Во Введении дается обоснование темы, раскрывается ее актуальность и научная новизна, освещается история вопроса.
В первой главе диссертации рассматривается становление концепции античности в философско-эстетической мысли Германии второй половины XVIII-XIX в.в. В круг вопросов,составляющих предмет исследования, входит анализ влияния традиций Винкельмана на теорию Веймарского классицизма Гете и Шиллера,рецепцию античности в"Философии искусства"Шеллинга;определение места античности в теоретических изысканиях Вагнера 40-50-х гг.XIX в. и в философско-эстетических воззрениях Ницше;освещается проблема взаимодействия дионисийского и аполло-новского начала, специфика концепции мифа и античной мифологии в этико-эстетическом учении Ницше. Прослеживается эволюция в восприятии античного наследия в Германии на рубеже веков.
Вторая глава диссертации "Сюжеты Троянского цикла мифов в художественных исканиях немецких писателей 900-40-х гг. XX века" состоит из четырех разделов. В первом из них рассматриваются "античные" трагедии Гуго фон Гофмансталя в контексте постницшеанской культурной традиции.
Во втором разделе "Античные" драмы Гуго фон Гофмансталя и эстетические искания Рихарда Штрауса" анализируется эволюция рецепции античности в период их совместной деятельности от ницшеанской традиции в одноактной опере "Электра" к мистико-философской концепции преображения в музыкальной драме "Египетская Елена".
Предмет исследования в третьем разделе II главы - экспрессионистское мифотворчество (Ф.Верфель, Ф.Браун, Г.Кайзер, В.Газенк-левер) и рецепция античности в эпическом театре Б. Брехта.
Заключает вторую главу диссертации раздел, посвященный рассмотрению восприятия античности в драматургии Гауптмана. В нем
исследуется концепция античного искусства в эстетических воззрениях драматурга на рубеже веков, а также путь Гауптмана от драмы "Лук Одиссея" к тетралогии об Атридах как свидетельство творческой эволюции от Гете и Винкельмана к Ницше и Гофмансталю.
Третья глава диссертации посвящена изучению восприятия античности в творчестве немецких писателей 50-90-х гг. XX века. Она также состоит из четырех разделов.
Первый посвящен анализу теории мифа и проблеме рецепции античного наследия в теоретических изысканиях Т.Манна. В частности рассматривается полемика писателя с З.Фрейдом и О.Шпенглером, отношение Т.Манна к взглядам К.Г.Юнга и К.Кереньи на природу мифического.
Второй раздел третьей главы диссертации посвящен проблеме восприятия античного наследия в исканиях немецкого экзистенциализма (Г. Э. Носсак).
В третьем разделе третьей главы исследуется рецепция античности в творчестве Ф.Фюмана, Ю.Брезана, К.Вольф 70-80-х гг.
Четвертый раздел посвящен рассмотрению интерпретаций сюжета об Ифигении в в произведениях И.Лангнер "Ифигения возвращается" и Фолькера Брауна "Ифигения на свободе".
В Заключении излагаются конечные выводы исследования.
Ссылка на литературу, список которой приведен в конце диссертации дается сразу после приведенной цитаты или упоминаемой монографии и заключается в квадратные скобки. Первая цифра, помещенная в скобках, означает номер источника, а цифра после точки с запятой - страницу указанной в библиографии работы. В круглых скобках дается указание на материал, содержащийся в разделе "Примечания".
Г Л А В А I
СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ АНТИЧНОСТИ В ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ГЕРМАНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII-XIX ВЕКОВ
Среди многочисленных повествований о богах и героях в древнегреческой мифологии дважды встречается сюжет о состязании Апол-лона-кифареда в искусстве игры с сатирами Паном и Марсием-флей-тистом. И если в первом случае спор кончается мирным посрамлением Пана, то финал второго сюжета носит кровавый характер: победив, Аполлон сдирает с Марсия кожу и вешает ее в назидание потомкам в одной из пещер Фригии. Спор в этом мифе идет не просто между богом-олимпийцем и божком низшего порядка круга Кибелы - сатиром. В этом сюжете, как в зародыше, содержится идея противостояния двух форм искусства - гармонически упорядоченного, аполлоновского и экстатически-исступленного, дионисийского. Антагонизм действующих лиц названного мифологического сюжета в какой-то степени предвосхищает будущее противостояние эстетических концепций античного искусства нового и новейшего времени.
Не претендуя на исчерпывающий анализ концепций античности на протяжении XIX века, мы постараемся в этой главе наметить определяющие тенденции в решении поставленной проблемы.
Однако разговор о рецепции античности в философско-эстети-ческой мысли Германии названного периода следует начать с концепции Винкельмана. Каждая эпоха видит в античности свое, созвучное своему времени, своим задачам.
Первый, кто наиболее близко подошел к истинному восприятию духа наследия античности и кто создал первую концепцию античной культуры, затронувшую и раскрывшую во многом определяющие стороны античного классического мироощущения, был Иоганн Иоахим Винкель-ман (1717-1768). Его концепция является своеобразной точкой отсчета для художников и искусствоведов нового и новейшего времени. Только после опубликования трудов Винкельмана стали возможны теоретические изыскания и творческие находки в области освоения античного наследия в художественных исканиях Лессинга, Гете, Шиллера. Его "Мысли о подражании греческим образцам"(1755) и знаменитая "История искусства древности"(1764) раскрывают новую, углубленную историческую перспективу искусства древности и мироощущения древних народов.
"Заслуга Винкельмана в области литературы, основы изучения которой были заложены им еще в Дрездене и завершены в Риме,- писал один из современников, - состоит в том, что исследование античного искусства, которое в Германии было отделено от филологии, он объединил с последней. Он уловил дух античных поэтов в произведениях античных художников, язык Гомера - в творениях древних скульпторов и таким образом извлек на свет блестящее зерно знаний, которое лежало под спудом несколько веков[2.203;46].
Ведущей мыслью в концепции античности у Винкельмана является утверждение о благородной простоте и спокойном величии античного мироощущения, что в эстетических учениях его предшественников заслонялось чисто утилитарными задачами эпохи. Эта идея Винкельмана надолго стала определяющей в эстетических концепциях и художественной практике европейских ученых и художников, обращавшихся к истокам античного искусства, в частности, к мифологии. Так, в
- зо -
работе "Мысли о подражании греческим образцам"(1755) Винкельман утверждает: "Общим и прекраснейшим признаком греческих произведений служит благородная простота и спокойное величие как положения, так и выражения. Подобно глубине моря, всегда спокойной, как бы ни бушевала его поверхность, выражение греческих фигур, несмотря на все страсти, обнаруживает великую уравновешенную душу. Эта душа отражается на лице Лаокоона, и не на одном лице, несмотря на сильнейшую муку. <...> Боль тела и величие души уравновешены и распределены с одинаковой силой на всем строении фигуры. Ла-окоон страдает, но страдает подобно Филоктету Софокла; его страдание проникает нам в душу; и мы хотели бы уметь переносить страдания, как этот великий человек"[2.38].
Величие античного искусства Винкельман, таким образом, видит в идеализации человека-стоика, невозмутимо одерживающего внутреннюю нравственную победу над препятствиями и страданиями, порожденными внешними обстоятельствами. Идеал красоты в греческом искусстве связан с идеей о созерцательном покое, воплощенном в греческих богах и героях. Винкельман опирается в этом утверждении на мысль Аристотеля: "То, что лучше всего, не нуждается в действии, ибо оно само есть цель"[2.160;162]. Определяя выражение и действие как моменты прекрасного, немецкий ученый, однако, замечает, что действие разрушает красоту. По мнению Винкельмана, греческие мастера скорее отклонились бы от истины, чем от красоты. Эти положения Винкельмана явились впоследствии определяющими для эстетики Веймарского классицизма в творчестве Гете и Шиллера. В связи с этим следует упомянуть еще о двух основополагающих тезисах названной концепции.
Говоря о сущности искусства и подчеркивая его воспитательную
функцию в древнегреческом обществе, Винкельман определяет два возможных пути в подражании природе. Художник может сосредоточить свое внимание на единичном образце, в таком случае возникает идеальная копия предмета, как в голландской живописи. Но есть более совершенный путь творчества - обобщение автором множества сходных явлений, создание продуктивного в воспитательном смысле идеала "обобщающей красоты". "Возможность частых наблюдений человеческого тела побуждали греческих художников к тому, что они в дальнейшем начали составлять определенные понятия о красоте как отдельных частей, так и общих пропорций тел, которые должны были стать выше природы"[2.38;94]. Художники античности не ставили, по мнению ученого, целью безусловную верность природе, но "стремились выразить идеальную красоту, озаренную разумом." Это путь к постижению идеала красоты греков, делающих произведения искусства произведениями мудрости. "Кисть, которой работает художник, следует пропитать разумом",- так считает ученый[2.38;88]. Этот тезис Вин-кельмана находит плодотворное развитие в эстетической мысли Германии. Не только Гете и Шиллер, но и Лессинг, выступая в "Лаокоо-не" в целом против винкельмановской концепции античного искусства, тем не менее полагал закономерное одним из основополагающих моментов красоты и подчеркивал обобщающий характер изображенного в произведении искусства. Так, в пластическом искусстве красота создается художником за счет поглощения случайных черт предмета основными. С этой точки зрения, красота становится синонимом обобщения, прекрасное - закономерно, безобразное, уродливое -случайно. Скульптор лепит тело человека, а не этого человека. Задача художника, по мнению Лессинга, - ориентироваться на закономерное, а не случайное, исключительное, так как тот, кто изобра-
жает исключения, изображает вещи не вполне естественные"[1.43].
Видя в греческом искусстве идеал "прекрасной человечности", Винкельман заострял внимание на том, что непревзойденная в веках эстетическая и гуманистическая значимость древнегреческого искусства имела вполне определенную общественную основу. Эстетическая категория прекрасного в искусстве связывалась ученым с понятием свободы. Античная демократия, сочетание эстетических, этических начал с чувством высокой гражданственности явилось, по Винкельману, основой для возникновения искусства древних греков.
Вслед за Винкельманом Фридрих Шиллер (1759-1805) также связывает понятие красоты с категорией свободы. Красота для него "есть не что иное, как свобода в явлении"[1.67;119], "путь к свободе ведет через красоту"[1.67; 290]. Опираясь на рассуждения Вин-кельмана, носившие несколько описательный характер, Шиллер с философской точки зрения определяет общественную основу прекрасного в жизни и в искусстве древних греков, а также ведет разговор о высоком воспитательном назначении искусства. Так, уже в статье "Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение"(1784) писатель утверждает пафос высокой гражданственности в качестве основы подлинного искусства: "<...> Театр есть общий канал, по которому от мыслящей, лучшей части народа струится свет истины, мягкими лучами распространяясь по всему государству <...> Что так скрепляло воедино Элладу? Что так неудержимо привлекло народ к ее театру? Не что иное, как посвященное отечеству содержание пьес, греческий дух, громадный, всеохватывающий интерес к государству, к лучшему человечеству, в них дышавший"[1.67; 20]. Идеализируя античность, Шиллер в "Письмах об эстетическом воспитании человека" (1793-1794) утверждает идею гармонии как личной, так и обществен-
ной в качестве основополагающего принципа эллинского мироощущения. Красота человека и прекрасное в искусстве Древней Греции имеет для Шиллера то же основание. Развивая идею Винкельмана о "благородной простоте и спокойном величии" античного эстетического идеала, писатель заостряет свое внимание на контрасте между современной ему формой жизни человечества и древнегреческой, усматривая в последней бесспорное преимущество. Шиллер сравнивает жизнь греческого государства с существованием полипов, "в которых каждый индивид наслаждался независимой жизнью, а когда наступала необходимость, мог сливаться в целое"[1.67; 302]. Гармоническому существованию греческого общества писатель противопоставляет искусственное объединение людей в современном ему государстве, сходное с работой искусного часового механизма, в котором "из соединения бесконечного множества безжизненных частей возникает в целом механическая жизнь"[1.67; 3013. Как и для Винкельмана, для Шиллера образ эллина - недостижимый идеал; "Греки не только посрамляют нас простотой, которая чужда нашему веку: они в то же время являются нашими соперниками, часто даже нашими образцами, именно в тех качествах, в которых мы находим утешение, глядя на противоестественность наших нравов. Обладая одновременно полнотой формы и полнотой содержания, одновременно мыслители и художники, одновременно нежные и энергичные, - вот они перед нами в чудной человечности объединяют юность воображения и зрелость разума" [1.67; 300]. А.Ф.Лосев справедливо констатирует, что концепция античности у Шиллера основывается на философском отношении двух логических принципов - "взаимно-равновесном тождестве" между "природой" (или "предметом") и "идеей" (или разумом). Идеальная гармония названных принципов рождает, по Шиллеру, феномен антич-
ного мироощущения, а, следовательно, и искусства.и "Наивная" античность, -- анализируя работы писателя, замечает А.Ф.Лосев, -есть природа, данная как идея, и притом без всякого усилия со своей стороны. Она есть, кроме того, еще и идея, данная как природа, и притом - также без всякого усилия со стороны идеи"[2.125; 20].
Наличие подобного тождества, по Шиллеру, определило гармонию духовных сил грека, гармонию чувства и разума. Именно поэтому эллины могли в общественной жизни обмениваться своими занятиями, без ущерба для общей пользы. Ибо древний грек не калечил материю и человеческую природу механическим разъединением, но бережно "расчленял человеческую природу и, возвеличив, распределял по сонму прекрасных богов, но разум не разрывал человеческой природы на части, а лишь только различным образом перемешивал их, так что в каждом боге присутствовало все человечество"[1.67;300].
Абсолютизируя античность, Шиллер, однако, вынужденно констатирует историческую обреченность подобного мироощущения. Представляя наивысшую, с точки зрения писателя, ступень в духовном развитии человечества, греки не могли удерживаться на ней вечно, "ибо рассудок, с накопившимся запасом знаний, неизбежно должен был отделиться от восприятия и непосредственного созерцания и стремиться к ясности понимания"[1.67;304].
Утверждая высокую гражданственность подлинных произведений искусства, Шиллер, в соответствии с общей традицией немецкой эстетики, сближает категории этического и эстетического. Так, идеал красоты того или иного народа вполне отчетливо проявляется даже в момент досуга, во время удовлетворения естественного чувства побуждения к игре. Идеальные образы олимпийских богов
могли найти свое воплощение в мифологии только греческих племен, наслаждавшихся на Олимпийских играх бескровными состязаниями в силе и ловкости, в "благородном соревновании талантов" гармонически развитого народа, в то время как грубость общественных нравов римлян воплощается в азарте публики на кровопролитных боях гладиаторов. С этой точки зрения, сонм олимпийцев представляет собой идеал гармонического тождества этических норм и эстетических идеалов, не достижимый в реальной жизни: "Они ( греки - Т.Ш.) лишь помещали на Олимпе то, что следовало выполнить на Земле. Руководствуясь истиной этого положения, греки заставляли исчезнуть с чела блаженных богов серьезность и заботу, которые покрывают морщинами ланиты смертных, равно и пустое наслаждение, которое делает лицо, лишенное содержания: они освободили вечно довольных богов от оков каких-либо целей, обязанностей, забот, и в праздности и безразличии усматривали завидную божественную долю, которая представляется только более человеческим названием самой свободной и возвышенной жизни"[1.67; 336].
Это высказывание Шиллера является чрезвычайно емким по своей сути и касается не только основ мифологического мировосприятия, но и содержит определяющие, с его точки зрения, принципы прекрасного. В соответствии с традициями Винкельмана идеал красоты для Шиллера связан с идеей гармонии, благородной простоты, принципом созерцательного покоя и духовной свободы. Развивая эти положения в работе "О наивной и сентиментальной поэзии"(1795-1796), писатель еще и еще раз указывает на значение гармонии и свободного волеизъявления для формирования этико-эстетических идеалов древних греков: "Весь строй их общественной жизни покоился на ощущениях, а не на ухищрениях искусственности; даже их религиозная система
была подсказана наивным чувством, была порождением жизнерадостного воображения, а не мудрствующего разума, как церковная религия новейших народов"[1.67;428].
Так, образ Юноны Лудовизи, по мысли Шиллера, воплощает в себе канон древнегреческой красоты, поскольку весь ее облик "покоится и живет сам в себе, как будто пребывая вне пространства, не отдаваясь и не сопротивляясь, без силы, способной бороться с силой, без пробела, в который могло бы вторгнуться временное"[1.67; 336]. Однако Шиллер констатирует, что подобное равновесие всегда недостижимо в реальной действительности, ибо "красота в идее вечна, едина, неделима, <...> красота в опыте вечно двойственна" [1.67; 337]. Лишь эстетическому чувству человека в момент создания или созерцания прекрасного произведения искусства дано восстановить утерянную гармонию личности и запечатлеть красоту в явлении. Целью искусства, по мысли Гете и Шиллера, в таком случае будет являться возрождение гармонической красоты, по идеалу древних, способной пробудить чувство духовной свободы у современников.
Особая роль теоретиками Веймарского классицизма отводилась театру. "Насколько несомненно, что непосредственный образ действует сильнее мертвой буквы и холодного повествования, настолько же несомненно, что воздействие театра глубже и устойчивее морали и законов," - писал Шиллер в статье "Театр, рассматриваемый как нравственное учреждение"(1784)[1.67;17].
Десятилетие спустя, в "Письмах об эстетическом воспитании человека" Шиллер вновь рассуждает о нравственной силе эстетического идеала человека. Так, в XXIV Письме писатель сравнивает эстетически неразвитого человека, не познавшего красоты и гармонии, с образами титанов из драмы "Ифигения в Тавриде"(1787), речь о
которых идет в монологе главной героини. "Напрасно природа чередует перед его чувствами свое богатое многообразие, он видит в ее пышном изобилии лишь свою добычу, в ее силе и величии лишь своего врага. Он или бросается на предметы и страстно стремится обладать ими, или же вещи действуют разрушительно на него, и он их с отвращением отталкивает от себя. В обоих случаях его отношение к чувственному миру выражается непосредственным соприкосновением, и он, постоянно мучимый напором этого мира, вечно угнетенный властною потребностью, ни в чем ином не находит успокоения, как только в изнеможении, и видит пределы лишь в истощении желаний" [1.67; 364]. В качестве своеобразной иллюстрации Шиллер приводит характеристику стихийной необузданности титанов, вложенную автором в уста Ифигении (I действие, явление II). Лишь красота способна, по мысли Шиллера, "привести" чувственного человека к форме и мышлению.
Развивая тезис Винкельмана о "созерцательном покое" истинно прекрасного, Шиллер, однако, подчеркивает особую нравственную действенную силу красоты. Поскольку красота одновременно и форма, которую человек созерцает, и жизнь, материя, вызывающая определенные чувства, то красота "одновременно и наше состояние, и наше действие <...> И именно потому, что она одновременно и то и другое, красота и является победоносным доказательством того, что пассивность нисколько не исключает деятельности, материя - формы и ограничение - бесконечности, что, таким образом, моральная свобода человека нисколько не уничтожается необходимою физической зависимостью"[1.67;3713. Этот тезис нашел свое законченное художественное воплощение в драме Гете "Ифигения в Тавриде" прежде всего в концепции образа главной героини.
Рецепция античного искусства и мифологии в эпоху немецкого классицизма заслуживает особого внимания в силу особой продуктивности высказанных в эту эпоху идей для дальнейшего развития эстетической мысли Германии. Плодотворными для будущего оказались не только эстетические концепции таких признанных гениев, как Гете и Шиллер. Так, в работе Карла Филипа Морица (1756-1793), писателя и друга Гете, "Учение о богах" (1791), опубликованной по настоянию последнего и содержащей многие мысли самого великого художника, утверждается не потерявшая свою актуальность и по сию пору мысль о том, что бытие мифа есть его становление. Движущей пружиной мифа является фантазия, и поэтому Мориц выступает против попыток "превратить историю античных богов в пустые аллегории", "нежная ткань фантазии" разрушается от вульгарных истолкований. Мориц утверждает мысль об обобщающей функции мифа в греческом мировосприятии (1). Концепция мифологизации Гете и Морица находит свое воплощение, на наш взгляд, в драме "Ифигения в Тавриде" (1787), явившейся одновременно гениальным воплощением и художественным развитием винкельмановской концепции античности.
Эстетические воззрения Гете, в частности, его взгляд на античность не оставались неизменными в течение всей жизни. Они развивались, но не стихийно и случайно, как это может показаться на первый взгляд, а представляли собой творческий процесс, закономерно развивающийся. Художественный метод Гете часто называют исследовательским, синтетическим. Его эстетика не ограничена ни временем, ни пространством, ни национальностью, она как бы вбирает в себя достижения всех видов искусства во все времена и во всех странах. Его интересует история развития творчества различных народов: англичане, греки, итальянцы, суздальские мастера
иконописи. Рассуждения об Аристотеле, Рубенсе, Рембрандте, мастерах нидерландской школы, Рафаэле, греческих трагиках органично включаются в размышления о закономерностях творчества. Экспериментатор, стремящийся к обобщениям, Гете увлекался идеей эволюции в живой природе. Он подчеркивал: "Весь мой метод зиждется на выведении, я не успокаиваюсь, пока не найду правильного пункта, из которого я много могу вывести или, скорее, который многое добровольно из себя производит и несет мне навстречу, и тогда я осторожно и старательно, трудясь и воспринимая, приступаю к делу"(2).
Представление об античности и сущности древнегреческого искусства развивалось в течение всей жизни писателя и тесно связано с эволюцией его философских и общественных воззрений.
Драме "Ифигения в Тавриде" следует отвести особое место среди произведений Гете и Шиллера периода Веймарского классицизма не только потому, что в ней в художественно совершенной форме воплотились эстетические взгляды и концепция античности названного этапа. На протяжении двух столетий это произведение Гете служило своеобразным эталоном, точкой отсчета, притяжения и отталкивания в творческих исканиях Г. Гофмансталя, Г. Гауптмана, И.Лангнер.Ф.Фю-мана, К.Вольф, Ф.Брауна и др.
Сюжет об Ифигении - один из наиболее известных и продуктивных с точки зрения постановки и разрешения морально-этических проблем в истории мировой культуры. Так, в XVII-XVIII вв. на известный сюжет было создано более 70 опер, наиболее значительные из них - "Ифигения в Авлиде" Скарлатти, Глюка, "Ифигения в Тавриде" Скарлатти, Траэтты, Галуппи, Глюка. Воплощению мифа об Атри-дах в XIX-XX вв. посвящено более пятидесяти трагедий.
"Ифигения в Тавриде" И.В.Гете - одна из наиболее значитель-
ных и совершенных драматургических интерпретаций античного сюжета. Однако это произведение вынашивалось писателем трудно и имеет несколько редакций. Биографические и исторические предпосылки этого произведения Гете лежат, по справедливому замечанию Мюллера, в его собственном жизненном опыте, к которому Гете должен был прийти, проделав путь из Франкфурта в Веймар, от "Бури и натиска" к Веймарскому классицизму"(3). По записям Римера со слов Гете, замысел "Ифигении" возник у писателя еще в 1776 году, вскоре после его переезда в Веймар. Любопытно, что опера Глюка "Ифигения в Авлиде" была поставлена в Париже в 1774 году и имела успех. Непосредственную работу над драмой Гете начал в 1779 году. Интересно, что в это же время в Париже, а затем в Веймаре с необыкновенным успехом была поставлена "Ифигения в Тавриде" Глюка. Этот факт представляется знаменательным: воплощение мифа об Ифигении оказалось как бы насущной необходимостью эпохи.
Известно, что работа над драмой "Ифигения в Тавриде" шла трудно. Как справедливо отмечает А.Аникст, "длительная работа преследовала цель такой стилистической и стихотворной шлифовки текста, которая полностью отвечала бы замыслу - провести идею гармонии в самой форме произведения"(4). "Ифигения в Тавриде" -произведение одновременно и переломное, и программное для воплощения поэтики и мироощущения, характерных для Веймарского классицизма Гете. Великий писатель не был одинок в Германии в своем обращении к мифу об Атридах. Так, Иоганн Элиас Шлегель обработал тот же сюжет в пьесе "Брат и сестра в Тавриде"(1739), Ф.-В.Готтер написал трагедию "Электра и Орест"(1722).
Показательно, что замысел драмы Гете "Ифигения в Тавриде" формируется в период подготовки Французской революции, отношение
БИБЛИОТЕКА
к которой у автора было неоднозначным. Е.И.Волгина справедливо пишет: "Огромное влияние на формирование мировоззрения Гете и его творчества 90-х годов оказали события Великой французской революции 1789-1794 гг. Гете не был сторонником революционных преобразований во Франции, он даже опасался их воздействия на Германию. Но он сумел возвыситься до понимания необходимости и объективной неизбежности победы буржуазной революции"[3.23;9]. Известно что в своей драматической обработке пресловутой истории ожерелья ("Великий Кофта",1789) Гете представил обстоятельства, непосредственно повлиявшие на развитие роковых событий. Возможно, гениально предвидя трагическую развязку, писатель размышлял над иным, гуманным разрешением конфликтов. "Ифигения в Тавриде" Глюка также появилась всего за 10 лет до 1789 года.
Казалось бы, в бурной, наэлектризованной атмосфере Европы драма Гете, в которой средством обновления жизни провозглашается не изменение внешних условий, а духовное умиротворение человека, смирение его страстей, было не ко времени. Однако Гете, уже прошедший искус бесплодного бунтарства, считал в этот период, что именно в глубинах человеческой души коренятся все беды людского рода. Драма "Ифигения в Тавриде" знаменует собой не только поворот в мировосприятии писателя, но одновременно является и воплощением основ нового классицизма в Германии. Как справедливо замечает в своей работе СВ.Тураев, Веймарский классицизм представлял собой особую параллель к французскому, "главным отличием которого было не слепое следование правилам трех единств, а, в первую очередь, мастерство воплощения этического конфликта, изображения Человека крупным планом[3.131; 89]. Подобный ракурс отвечал и требованиям просветителей, поскольку исключительное место в литературе
немецкого Просвещения занимала проблема личности, а на первый план выдвигались идеи воспитания человека. Так, если в период "бури и натиска" Гете отстаивал правомерность воспевания в искусстве любого предмета действительности, даже гранита ("Природа", "Гранит"), то в анализируемую эпоху писатель подчеркивает, что "высший продукт постоянно совершенствующейся природы - это прекрасный человек"[1.29;547], поэтому человек является высшим объектом искусства. Истинный художник создает произведения искусства не ради себя самого, как природа, и не ради прекрасной формы самой по себе, но ради и для человека, его совершенствования. Такой вывод следует из анализа статей Гете этого периода. В духе Винкельмана и в полном согласии со взглядами Шиллера Гете утверждает: "Все, что художник приносит человеку <...> должно питать наш разум, образовывать его"("Опыт о живописи "Дидро", 1979) [1.28; 156]. Подчеркивая необходимость гуманистической направленности искусства, во "Введении в Пропилеи"(1798) Гете пишет о том, что искусство должно захватывать всего человека, "наивысшая его ступень - все человечество"[1.29;420].
Немецкие классицисты обращались к прошлому в поисках исторических аналогий своему времени, в поисках исторических образцов, чтобы с их помощью облагородить действительность. Вопрос об отношении Гете и Шиллера к концепции и личности Винкельмана неоднократно поднимался как в работах отечественных литературоведов А.Аникста, В.Асмуса, А.Белыповского, С.Тураева, так и в трудах зарубежных исследователей 0.К.Конради, Ф.Гундольфа, Я.Мюллера. Несомненно, что понятие об "обобщающей красоте" и тезис о "благородной простоте и спокойном величии" героев греческой скульптуры и трагедии оставались для Гете непогрешимими. Следуя за Винкель-
маном, Гете стремится усвоить высокий взгляд на искусство как мощное средство гуманистического воспитания ("Винкельман и его век",1805). В статье "0 Лаокооне"(1798) в соответствии с концепцией Винкельмана Гете утверждает мысль о том, что содержанием произведения искусства должен стать предмет изображения в наивысший момент своего развития, способный вознести дух человека над ограниченностью действительности. Только такое произведение искусства будет служить, по мысли Гете, великому делу - эстетическому воспитанию людей. Вслед за Винкельманом он отдает предпочтение греческому искусству перед голландским ,с его точки зрения, натуралистическим, не способным служить этой великой цели. В соответствии с выработанной в период Веймарского классицизма концепцией Гете вновь и вновь подчеркивает, что для истинного художника мало научиться, благодаря практике, передавать внешнюю красоту предмета и выбирать из хорошего наилучшее, художнику важно научиться проникать в глубь вещей и "творить прекрасное целое". Художник находит в природе объект и как бы воссоздает его во имя высоких гуманистических целей, "извлекая из него все значительное, характерное, интересное, или, вернее, впервые вкладывает в него эту высшую ценность. Так человеческому образу сообщаются более красивые пропорции, более благородные формы и возвышенные характеры, здесь замыкается тот круг законченности, в который природа охотно вкладывает все лучшее, чем она обладает, тогда как обычно в своей раздавшейся шири она легко вырождается в безобразие и теряется в безразличном"("Введение в Пропилеи", 1798) [1.29; 420].
Основываясь на изучении творений античных мастеров, как и Шиллер, Гете видит высшую воспитательную функцию искусства в возможности запечатлеть момент идеальной красоты. "Прекрасный чело-
век прекрасен только на миг" ("Винкельман и его век"). В статьях Гете этого периода речь идет о том, что искусство способно в силу своей специфики запечатлеть момент наивысшего развития человеческой натуры, что может способствовать дальнейшему гармоническому совершенствованию человека. "Против этого (разрушения - Т.Ш.) и выступает искусство, и человек, будучи поставлен на вершину природы, в свою очередь смотрит на себя как на целостную природу, которая сызнова, уже в своих пределах, создает вершину. С этой целью он возвышает себя" [1.29;547] до создания произведений искусства, являющих собой концентрацию всех духовных сил человека, соединяет в себе все великое и достойное и "возносит человека над самим собой".
В русле концепции Винкельмана Гете, как и Шиллер, в период Веймарского классицизма отдает предпочтение сюжетам идеальным, которые "берут предмет не таким, каким он существует в природе" ("О сюжетах изобразительного искусства")[1.30; 19]. "Все, что мы видим вокруг себя, - только сырой материал", и художник, соревнуясь с природой, "обрабатывает весь этот материал в соответствии со своими собственными нуждами", стремясь создать "нечто духовное" ("Ведение в Пропилеи",1798)[1.29;416-420]. В области таких сюжетов, с точки зрения писателя, совершенствовались греки. В подобных высказываниях Гете лежат корни учения об идеализации. Если Гете-штюрмер призывал слиться с природой, видя в этом идеал совершенства и критерий прекрасного для искусства, то зрелый Гете пишет о том, что художник "перестанет быть художником, если сольется с природой, растворится в ней" ("Опыт о живописи "Дидро", 1799) [1.28;159]. Идеальные сюжеты, по мысли Гете, создаются человеческим духом в тесном союзе с природой. Так, в статье "Об об-
разовании молодого художника" (1797-1798) Гете настаивает на том, что хотя для художника "высшая цель - подражание природе", но "к этому надо подготовиться изучением великих мастеров"[1.30;196]. Поэтому, как пишет 0.К.Конради в своей монографии: "Ифигения" -это <... > как бы этюд на тему воплощенной гуманности, картина противоположная несовершенству реального мира"[3.64;1,501]. Драма об Ифигении должна была апеллировать прежде всего к уму и сердцу читателей и зрителей.
Неоднократно подчеркивалось, что каждый художник вкладывает в уже известный сюжет то содержание, которое наиболее созвучно его жизненной и философской концепции, его мироощущению. Не случайно образ Ифигении подвергается модификации. В качестве образца для писателей нового времени, обращавшихся к мифу об Ифигении, служили известные трагедии Еврипида "Ифигения в Авлиде" и "Ифигения в Тавриде".
Уместно вспомнить, что за век до Гете, в 1677 году, обратившись к сюжету об Ифигении, Жан Расин с иной точки зрения, с позиций французского классицизма подошел к воплощению античного материала. Показателен уже сам принцип обработки античного сюжета и сам выбор варианта мифа. В связи с постановкой и разрешением вечной коллизии между чувством и долгом Расину важен был сам мотив жертвоприношения. Если в известных вариантах мифа образ Ифигении схематичен, не развивается и, скорее находится на периферии, то в трагедии Еврипида он наиболее значим с психологической точки зрения. Перед нами одна из первых попыток воплощения образа не ста-
тичного, но развивающегося. Пессимистическое мировосприятие античного драматурга предопределяет развязку трагедии.
Французскому драматургу эпохи Классицизма финал пьесы, мировоззренческая позиция Еврипида не подходили в силу несоответствия их вполне определенной этико-эстетической концепции.Концовка пьесы Еврипида была проблематична. Клитемнестра не видела спасения дочери. Об этом сообщает ей вестник. Пьеса оканчивается открытым финалом,и в этом уже заложено зерно будущей трагедии.
Разрешая конфликт между долгом и чувством в рамках классицистической эстетики,Расин вполне закономерно использует миф о жертвоприношении Ифигении. Развязка классицистической трагедии должна была содержать в себе идею закономерного, нравственно обоснованного возмездия.Эрифила (вторая Ифигения) справедливо наказана за нарушение нравственных норм и аморальность поступков. Предсказание Оракула, обрекавшего невинную Ифигению на гибель не соответствовало идейно-эстетической позиции драматурга, поэтому Расин выбирает не наиболее распространенный сюжет мифа об Атридах, а вариант, по которому вторая Ифигения - дочь Елены и Тезея, скрываемая от Менелая - изначально греховна. Расин опирается на Павсания, эту же версию приводит и Плутарх.
В связи с иной ориентацией немецкого классицизма задача Гете иная: реализовать в искусстве идею сочетания высокого представления о человеческой личности с реальным обликом рядового человека. Внося соответствующиеи зменения в сюжет, Гете переводит конфликт пьесы в сферу человеческих взаимоотношений. Воплощая сюжет о судьбе дочери Агамемнона, он вполне осознанно выбирает в качестве основы миф о пребывании Ифигении в Тавриде, хотя в истории мирово-
го искусства в равной степени разрабатывались оба основных эпизода мифа об Ифигении: жертвоприношение в Авлиде и момент встречи Ифигении и Ореста. Однако первый из названных эпиздов не соответствовал винкельмановской концепции античности, приверженцем которой был Гете в Веймарский период. Несомненно, что драма "Ифиге-ния в Тавриде" создавалась под прямым влиянием идей Винкельмана. Однако следует отметить, что в период работы над замыслом "Ифигении" Гете, на наш взгляд, также находился и под впечатлением постановки в Веймаре оперы Глюка "Ифигения в Тавриде"(1779). Созданная на либретто Ф.Гийяра по трагедии Еврипида, опера в своей концепции диаметрально противоположна будущей пьесе Гете. В данном случае можно говорить об определенном моменте полемического отталкивания: Ифигения Глюка энергична, предприимчива, а герои оперы не чуждаются насилия и убийства(5).
Изучение древних авторов также не могло пройти бесследно для великого писателя. Известно высказывание Гете о том, что он написал свою "Ифигению" после изучения греческих материалов, которое, однако, не было достаточным ("Сообщение о Гете" его секретаря Ф.-В.Римера). Внимательное изучение текста драмы "Ифигения в Тавриде" говорит нам, однако, о пристальном и тщательном изучении Гете греческих источников. Композиционный план его пьесы во многом следует за одноименной трагедией Еврипида, хотя концепция автора иная.
Известно, что бессознательная образность мифа нестабильна. Ее содержание с точки зрения этической проблематики постоянно меняется с развитием человечества. Мифам о родовом проклятии сужде-на была особая роль в развитии человеческой культуры. Именно они
легли в основу сюжетов классической греческой трагедии и тем самым дали основу драме как таковой. Вариативность мифа располагает к этому. Как справедливо замечает 0.М.Фрейденберг, жизнь мифа в человеческом сознании и культуре есть изменение его трактовок в соответствии с требованиями эпохи[2.197;40-44]. В сюжетах античной драматургии, основанной на мифах, с течением времени происходит перегруппировка персонажей, на первый план выходят зачастую образы, первоначально бывшие на периферии. Так случилось с образом Электры, в мифах об Атридах находившейся на втором плане. Так случилось и с образом Ифигении. Постепенно, от одного воплощения к другому, образы эти наполняются новым содержанием(6).
Восстанавливая первоначальную форму мифа об Атридах, 0.М.Фрейденберг убедительно пишет о том, что этическая проблематика в нем полностью отсутствует. Мифы об Атридах воплощают в себе непроизвольную форму тотемистического восприятия мира. Исследователь выделяет три структурно одинаковые версии мифа, расположенные генеалогически (кушанием становится Пелоп, праздничной едой становятся дети Фиеста, на пиру убит Агамемнон). Перед нами метафора времени, представленного в виде смены поколений Тантали-дов, Пелопидов, Атридов. В этом контексте миф о жертвоприношении Ифигении - одна из вариаций этой метафоры.
В классический период развития греческой драматургии трагедии об Ифигении - лишь небольшая часть из общего числа пьес, известных нам хотя бы по названиям и основывающихся на мифах о родовом проклятии Атридов и Троянской войне (0 Фиесте - 7, об Оресте - 5, об Ахилле - 7, о Филоктете - 5, об Агамемноне - 2, по одной об Электре и Клитемнестре, об Ифигении - 5)(7).
Как уже было сказано, миф об Ифигении имеет несколько вари-
антов, один из них был использован Расином. В трагедиях Эсхила и Софокла (кстати, и у того, и у другого имелись свои, но не дошедшие до нас "Ифигении"), у Лукреция жертвоприношение Ифигении было совершено на самом деле. Еврипид и Овидий используют третью, более гуманную версию о похищении Ифигении Артемидой и о замене ее на алтаре ланью. В 9 песне "Илиады" Гомер повествует о намерении Агамемнона выдать дочь Ифианассу (возможно Ифигению - Т. Ш.), оставшуюся дома в Микенах, за Ахилла. Из всех известных вариантов Гете выбирает версию мифа, использованную Еврипидом, которая более всего могла согласоваться с эстетической концепцией Веймарского классицизма.
Известно, что античная трагедия должна была строится на мифе и конфликтом иметь столкновение двух противоположных начал -субъективной воли и объективных мировых закономерностей. Как правило, трагедия заканчивалась крушением субъективного начала, в моральном плане отождествляемом с нечестием. Положение меняется только в пьесах Еврипида. Гете сохраняет этот важный принцип воплощения мировой гармонии, как бы "оживляя" концепцию мира старших современников Еврипида, более близкую винкельмановскому взгляду на античность. Известно, что в античной трагедии судится не поведение человека, а состояние его души, разума, сердца (френ). Если в древнегреческой трагедии ставится вопрос о соотношении законов богов и человеческого френа, то в драме Гете сопоставляются общечеловеческие начала гуманности и разума и состояние души индивида.
Исследователи нередко задавались вопросом, почему зачастую в классической греческой трагедии гибнет морально чистый герой. О.М.Фрейденберг справедливо приходит к выводу о том, что срабатывает древняя мифологическая модель. Как бы безупречны ни были
Эдип, Антигона, Деянира - они нарушители, гибристы. В мире гиб-рист всегда чрезвычайно активен и нарушает во имя своих, даже благих целей мировую гармонию. В этом содержится его трагическая вина(8). В классической трагедии правы только пассивные герои. Подобная схема ломается лишь в драматургии Еврипида. Герои его трагедий осмеливаются активно выступать против роковой предопределенности. Так, Ифигения Еврипида, пассивная в первой части пьесы "Ифигения в Тавриде", ведет интригу во второй.
Гете возвращается к этическим установкам старших современников Еврипида. Его Ифигения - пассивно-созерцательная, она не нарушительница гармонии, а примирительница взаимоисключающих начал. Не случайно Гете, по сравнению с трагедией Еврипида, меняет роль Пилада. Вероятно, на концепцию образа Пилада в драме Гете повлияло решение этого образа в одноименной опере Глюка, под впечатлением которой находился писатель. Названный герой является самым активным персонажем в сценическом действии оперы: именно он бежит из плена, поднимает восстание и ударом меча повергает Фоанта. Однако все его намерения тщетны, и только божественное вмешательство спасает героев и приносит им прощение богов и освобождение от родового проклятия. В драме Гете Пилад также претендует на то, чтобы вести интригу, наставляя Ифигению. Однако его стремления и активность не приносят результата. Торжествует пассивная созерцательность Ифигении, воплощающая идею гармонии.
Следует заметить, что при тщательном изучении текста становится очевидной полемичность драмы Гете по отношению к произведению Еврипида. Гете сохраняет многие эпизоды, явления и диалоги, но дает им новую, а иногда диаметрально противоположную трактовку (9).
Так,из мифа об Атридах уходит то, что определяло его архаическую основу - мотив кровавого пиршества Танталидов-Атридов.Все это не вязалось с концепцией Винкельмана. В драме Гете пороки Ат-ридов морального характера: потомки Тантала безмерны в своих желаниях и деяниях, лишенных нравственной основы("неистовы порывы были их, ни граней, ни удил они не знали!у В драме Гете Тантал и Атриды ведут свой род от титанов.В наиболее распространенном варианте мифа Тантал - смертный сын Зевса, по другим вариантам -божество горы Тмол. Возведение Атридов к титанам имело в концепции пьесы особый смысл.Титаны для Гете и Шиллера в период Веймарского классицизма олицетворяли стихию, порыв, не смиренный разумом. Не случайно в "Письмах об эстетическом воспитании человека" , характеризуя эстетически неразвитого человека, захваченного стихией чувств, Шиллер приводит в качестве яркой иллюстрации слова Ифигении из диалога с Фоантом, рисующей нравы своих предков. Если для Гете-штюрмера страсть была естественным проявлением титанизма, то в период Веймарского классицизма страсть оценивается им как нечто низменное, воплощающее в себе антигуманное начало. Однако следует сказать, что Гете не так уж погрешил, отнеся Тантала к титанам. Роберт Грейвс, опираясь на Павсания и Пиндара, сообщает, что по одному из вариантов мифа Тантал ведет свой род от дочери Крона и Реи Плуто, следовательно имеет отношение к титанам (10).
Героине Гете дарована способность очищения рода от проклятия богов, поскольку именно она прерывает чреду последовательных злодеяний. Она первая в роде перестала воздавать злом за зло, простив Агамемнона и вспоминая только светлые моменты своего пребывания в лоне семьи. Поэтому ей даровано воскресить род Тантала.
Однако, ведя героиню путем нравственного просветления, Гете
- 52 -использует прием ,по замечанию А. Аникста, античной трагедии, столь впечатляюще примененный Софоклом в "Царе Эдипе". Все этапы на пути постижения истины являются для Ифигении трагическими. Сам процесс узнавания героиней близких ей людей представлен писателем в трагедиях античного театра, когда последовательная цепь "узнаваний" неизбежно влечет к катастрофе. Так, и открывает Ифигения еще одно кровавое преступление в семье: убийство матери. Момент узнавания брата так же осложнен катастрофой: встретив брата, она должна по долгу жрицы немедленно предать его смерти.Мотив очищения от родового проклятия и нравственных терзаний Ифигении отсутствует в опере Глюка, уступая место эффектным интригам Пилада.
В своей драме Гете Эриний, жутких богинь родового мщения, называет их культовым именем - Эвмениды (благостные). Можно предположить, что это происходит потому, что в пьесе они воплощают не идею родового возмездия, а справедливые терзания свободной совести, отягченной дурными поступками.Как известно, Эринии - богини родовой мести, однако идея слепой мести не соответствовала концепции Гете Веймарского периода.Писатель называет их эвменидами, благостными богинями-благодетельницами. Мучения Ореста с этих позиций являются справедливыми терзаниями героя за самое страшное преступление - убийство матери.
Как и Орест Еврипида и Глюка, герой Гете одержим припадками безумия. Однако, если у Еврипида этот припадок случается за сценой, до начала действия, а у Глюка юноша мучается страшной картиной непосредственно совершенного им преступления, то в драме Гете припадок - прозрение Ореста - это кульминация третьего действия, результат потрясения от узнавания. В момент прозрения герой видит примиренным древний род. В веренице, проходящей перед ним. - Ат-
рей, ведущий душевную беседу с Фиестом, резвящиеся дети Фиеста, Клитемнестра, примирившаяся с Агамемноном. Сам Орест как бы примиряется с матерью - и Эвмениды отступают(Н). Однако даже в момент божественного озарения Тантал не прощен богами:
Увы! Я вижу: сонм бессмертный Герою грудь сковал навечно Железной цепью с муками ада [1,36:1763 И хотя в конце 4 действия Ифигения переживает момент очищения,
идея обреченности явно присутствует в Песне парок, противореча общей концепции драмы Гете. Не прощен не только Тантал - гибрист, нарушитель. Гибрист всегда должен был быть наказан. Осознанно или неосознанно Гете вносит этот мотив в драму, воскрешая более древние этические представления по сравнению с пьесой Еврипида.
Приведенный анализ трактовки мифологического сюжета в драме Гете подтверждает идею о многозначности мифа. Не лишенное мотива трагической обреченности, поэтическое воплощение мифического сюжета служит в драме Гете, в связи с концепцией Веймарского классицизма, утверждению синтеза гуманности и красоты. Преклоняясь перед образцами античности, писатель, однако, отвергает идею Аристотеля о закономерности и необходимости гибели героя в трагедии и выбирает менее удачный, с точки зрения античного философа, счастливый финал, более соответствующий теории Винкельмана. Однако, не приняв внешней формы классической трагедии, Гете, по замечанию А. Аникста, глубоко воспринял идею катарсиса, "и все действие "Ифигении" представляет собой изображение процесса очищения, освобождения от дурных, мучающих человека страстей"[3.3;27]. Предшествующие трактовки сюжета об Ифигении не обладали подобным нравственным зарядом.
Идея изменения общества через нравственное воспитание каждого в отдельности человека занимала в эпоху Веймарского классицизма не только умы Гете и Шиллера. Так, в 1790 году Фридрих Максимилиан Клингер (1752-1834), название пьесы которого "Буря и натиск" (1774) дало наименование целому литературному движению, пишет пьесу "Медея на Кавказе"(1790) (фабула драмы вымышлена автором). Конфликт пьесы во многом соотносим с перипетиями драмы Гете "Ифигения в Тавриде". Медея, потомок (по пьесе) Гелиоса и Гекаты, воплощающая в себе как демоническое, так и светлое начало, попав, как и Ифигения, в среду варваров, мечтает нравственно просветить этот дикий народ и таким путем создать идеальное общество свободных и равных людей. Однако обращение Медеи к разуму членов племени оказывается тщетным. Героиня вызывает только подозрение и недоверие. Индивидуальный порыв Медеи оказывается, в отличие от деятельности и нравственного воздействия Ифигении, бесплодным. Неизвестно, была ли "Медея на Кавказе" Клингера поставлена на сцене, но ее полемическая направленность по отношению к драме Гете представляется бесспорной(12).
Однако идейно-художественная концепция драмы "Ифигения в Тавриде" и образа главной героини явилась для Гете не просто определенной ступенью в его творческих исканиях. Идея о возвышающем, облагораживающем воздействии искусства - одна из краеугольных в эстетических воззрениях Гете позднего периода. Идеал такого возвьшающего искусства писатель по-прежнему видит в искусстве греков. Именно поэтому, по субъективному убеждению Гете, у древних греков не было пародии, шаржирования - все возвышалось при помощи искусства, ибо искусство служило великой цели воспитания. Так, в статье "0 пародии у древних"(1824) писатель еще и еще раз
подчеркивает, что у греков все вылеплено как бы из одного куска -и Зевс, и Фавн, все выдержано в одном стиле. Рассуждая о критериях прекрасного в природе и в искусстве в статье "О пластическом подражании прекрасному"(1788), Гете в русле концепции Винкельма-на, соглашаясь с мнением Карла Филипа Морица, констатирует, что ни благородство, ни добро не являются мерилом для красоты. Прекрасное в природе не имеет "целей за пределами самого себя". Однако уже процесс наслаждения прекрасным не может быть пассивным. Гете присоединяется к мнению Морица о том, что познание прекрасного есть акт нравственного действования - "его необходимо чувствовать или создавать." Эта мысль была позднее детально разработана Шиллером в "Письмах об эстетическом воспитании человека".
Как отмечает Е.И.Волгина ., новое мировоззрение, философские взгляды отражаются в творческих исканиях Гете не в абстрактных категориях, а в поэтических образах, художественных произведениях [3.23; 7]. В Италии, преодолев душевный кризис, вызванный мучительными раздумьями о месте человека в мироздании и о собственном предназначении, о месте и роли искусства в современном обществе, Гете представляет итог своих размышлений в виде идейно-художественной концепции драмы "Ифигения в Тавриде".
Душевный кризис, размышления Гете о путях прогресса и судьбах человечества после событий Французской революции приводит писателя к воплощению нового замысла на античный мифологический сюжет о Пандоре. Как и в период создания драмы об Ифигении, миф служит для Гете удобным материалом для создания произведения высокого философско-обобщенного содержания. Написанное в форме и жанре фестшпиля, это произведение так и осталось незаконченным. Писатель по-своему, нетрадиционно интерпретирует символику древ-
него мифа. И.Ф.Борисова констатирует, размышляя о роли мифологических сюжетов в творчестве писателя, что "мифологические образы и сюжеты, мир древнего мифа и сама мифология рассматривалась Гете как "предпонятийная значимость первого ранга"[3.15; 82]. Так, в традиционной версии, воплощенной Гесиодом, Пандора - женщина, созданная по повелению Зевса в наказание людям за их грехи и грехи Прометея, "одаренная всеми" богами и получившая в приданое сосуд со всеми бедствиями человеческими, которые она неприминула выпустить. Подобный, гесиодовский взгляд на Пандору в фесшпиле отстаивает Прометей:
Она - Пандора ль? Ты знал то виденье:
Отцам на погибель, сынам на мученье,
Созданье Гефеста, по воле богов
Полна она бедствий, в ней гибельный ков!
Прекрасен сосуд, его взять - нам отрада,
Но боги сосуд тот исполнили яда,
Под робостью - умысел дерзкий в ней скрыт,
Улыбка и ласка - измену таит;
Что святость во взорах: в ней хитрость лисицы!
Что грудь эта дивная: сердце в ней - псицы! [1.23; ] Гесиод, кстати, приписывал Пандоре ум собаки. Однако Гете трансформирует миф в гуманистических традициях просветительства и именует Пандору "сосудом священным всех даров", делая ее символом гармонии и красоты. Возвращение Пандоры к людям должно было символизировать собой изобилие, богатство, расцвет науки и искусства. Фестшпиль "Пандора", как справедливо отмечает Петер Хакс в эссе "Невеселые праздники"[1.65; 9-463, является одним из наиболее загадочных произведений Гете. Великий писатель называл "Пандору" своей любимой дочерью", которую вынужден одевать в странный наряд." При анализе этого произведения, естественно, возникает
вопрос: действительно ли перед нами фрагмент или пьеса завершена, почему это произведение забыто читателями и критикой, почему оно не было поставлено, кто скрыт за сложными образными аллегориями этой пьесы?
По мнению Петера Хакса, столь ярко и доказательно изложенному в названном эссе, под видом Прометея Гете выводит Наполеона, а в образе Эпиметея - себя, противопоставляя два жизненных принципа, два мироощущения как бы поляризованных итогами Французской революции: буржуазно-прагматический и созерцательно-гуманистический. Размышляя о соответствии действительности итогов Французской революции и идеалов гуманизма, Гете не просто трансформирует древнегреческий сюжет, но создает на его базе диаметрально противоположный вариант, антимиф. Как ни парадоксально, но тема Прометея решается писателем, в отличие от раннего драматического фрагмента "Прометей", в традициях Гесиода. Образ деятельного титана-бунтаря теряет прежний ореол непогрешимости(13).
С точки зрения читательского восприятия, "Пандора" - одно из самых сложных произведений Гете. Фестшпиль изобилует труднообъяснимыми символами. Не вызывает сомнения только толкование одного из них. Впервые на сцене Прометей появляется с горящим факелом в руках, знаменующим тот огонь, что он принес людям.
Тем не менее писатель придает героическому образу титана приземленные, снижающие черты. В идейно-художественной концепции драмы "Ифигения в Тавриде" проблема титанизма решалась аналогичным образом. Как замечает И.Ф.Борисова, используя универсальный мифологический образ Прометея, Гете наделяет его внешне положительными чертами: любовью к созидательному труду, целеустремленностью, способностью радоваться событиям сегодняшне-
го дня. Однако "заостренные до высшей степени абстрактности эти черты снижают традиционный героический образ Титана."[3.15;86] В финале фестшпиля звучит монолог Эос, провидящей будущее, в котором она предсказывает пришествие в мир Красоты. Однако Прометею не дано понять величия этого явления. Устами Эос писатель осуждает ограниченность созидательного начала титанизма:
О, прощай, отец людей! Но помни:
Что желать - известно земнородным,
Но что дать, - известно только Небу.
Величаво начали вы дело,
Вы, титаны, но его доводят
До конца, до Красоты и Блага
Вековечных - боги, только боги! [1.23;5663
Однако, спустя четверть века, Гете не мог уже с такой уверенностью, как в 1779 году, утверждать благостность "тихого подвига Ифигении" и созерцательного покоя для прогресса человеческой цивилизации. Миф использован для постановки проблемы в философе-ко-обобщенном смысле. Фестшпиль остался незавершенным. Это приводит к противоречивым оценкам "Пандоры" в критической литературе. Так, К. 0.Конради считает, что воплотив в образах Эпиметея и Прометея два односторонних принципа понимания жизни, писатель в очередной раз не дает третьего - идеального варианта, "пьеса так и осталась фрагментом"[3.64; 376].
И.Ф.Борисова пишет о том, что отказ от воплощения возвращения Пандоры на землю был для стареющего писателя подобен утрате веры в гармонию и красоту[3.15; 873. Мысль, на наш взгляд, спорная. Незавершенность "Пандоры" носит принципиальный характер. В разговоре с Эккерманом [1.69;783, рассуждая о возможном продолже-
ний произведения, писатель приходит к выводу, что вторая часть фестшпиля была бы излишней, сказанного в первой достаточно для думающего читателя. В споре двух братьев о Пандоре уже в осуществленном фрагменте чаша весов склоняется в пользу Эпиметея. Это не случайно. Как и в противопоставлении позиций Ифигении и Пилада, перед нами противопоставление активного героя-прагматика, гибрис-та и носителя винкельмановской концепции созерцательного стоицизма. Образ безмолвной и бездеятельной Пандоры, появляющейся в финале фрагмента, есть воплощение той идеальной красоты в концепции Гете и Шиллера, чья "пассивность нисколько не исключает деятельности", нравственной активности воспринимающего. Таков, на наш взгляд, смысл фрагмента.
В 1833 году после смерти Гете была напечатана "схема" продолжения, восстановленная по бумагам Гете. Как следует из неосуществленных набросков, Эпиметей неустанным ожиданием и самосовершенствованием добивается желаемого результата. Пандора снисходит на землю. В схеме Гете все перенасыщено символическими образами. Возвращению Пандоры предшествует духовное аллегорическое соединение Филероса, олицетворяющего собой пламя любви и неуправляемой страсти, и Эпимелеи (осмотрительности, рассудительности), а затем появление загадочной Кинзелэ (14), сосуда, заключающего в себе высшие идеалы человечества, идеальные блага - духовную красоту, высшую ступень искусства и науки. В соответствии с логикой авторской мысли Прометей стремится уничтожить Кинзелэ, Эпиметей готов принять священный сосуд и, помолодевший и обновленный, возносится с Пандорой на небо. Однако в момент написания фестшпиля и создания "схемы", Гете, эмпирик и вечно развивающийся и обновляющийся мыслитель, не любивший закреплять за явлениями жизни и ис-
кусства застывших понятий (15), имел иной взгляд на сущность античного искусства, взаимосвязь настоящего и прошлого. Пандора -это, скорее, мечта драматурга о возможном возрождении и возвращении гармонии и красоты.
Идея исторического развития как непрерывности и преемственности, связанная прежде всего с анализом искусства древнего и нового, начинает формироваться у Гете, как констатирует Н.И.Кругло-ва, еще в период путешествия по Италии[3.69;159]. Италия - место средоточия одновременно античного искусства и шедевров Возрождения. То, что две великие эпохи оказались сосредоточенными в одном месте, способствовало развитию исторического подхода во взгляде на искусство.
Искусство древних навсегда останется для Гете мерилом подлинного совершенства в искусстве и образцом для подражания, однако убеждение в неповторимости и значимости каждой эпохи в историческом развитии человечества способствовало изменению его взгляда на роль античного искусства в современности: "Постоянно твердят об изучении древних, но ведь это означает только одно: обрати внимание на действительную жизнь и стремись выразить ее, ибо так именно и делали древние в свое время"[3.58; 137].
Характеризуя мировоззрение и эстетические взгляды Гете, Эк-керман в 1827 году писал: "Не придерживаясь каких-либо определенных мнений, он обладал достаточной гибкостью, чтобы откликаться на все. Он был подобен тростинке, которая колеблется от дуновения различных мнений и в то же время крепко сидит на своем корешке" [1.69; 358]. Таким стержнем для писателя было понятие о классическом искусстве. Категория классического связывалась в эстетических воззрениях Гете не с академическим искусством, а с поняти-
ем продуктивности, "здоровья". "И тогда Нибелунги будут столь же классичны, как и Гомер, ибо то и другое одинаково полно здоровья и силы <...Ж чему вся эта ветошь условных правил чопорной устарелой эпохи! И к чему весь этот шум по поводу классического и романтического. Нужно только, чтобы произведение было целиком хорошо и сильно, и тогда оно, конечно, станет классическим"[1.69; 7773.
Полемизируя с К.Э.Шубартом в статье "Античное и современное" (1818), Гете вновь и вновь подчеркивает, что ни одной эпохе нельзя отказать в рождении талантов и создании подлинных шедевров искусства. Даже в период Веймарского классицизма Гете порицает прямое и бездумное подражание мастерам античности. Так, Рафаэль, по мнению Гете, никогда не подражал художникам античности, но в своих чувствах, мыслях, произведениях был греком (т.е. вполне отвечал, по мысли писателя, идеалу прекрасного человека вообще, гармонически и свободно развившегося), этим он был обязан более всего своему времени. Для Гете не имеет значения, к какой эпохе относится создание мастера, оно будет прекрасным, если обладает совершенной формой в созвучии со значительным и высоким содержанием. И не имеет значения, что произведение искусства будет носить характер и черты именно данной эпохи, а не греческой. "Да будет каждый греком на свой собственный лад! Но пусть он им будет" ("Античное и современное")[1.28;305].
Античность, представленная о второй части "Фауста" вполне условна и напоминает аркадскую идиллию, воспринятую с современной точки зрения. Елена представлена скорее в качестве условной фигуры, как намек на эстетическую преемственность - непременное условие всякого истинного искусства(16).
Интерпретация образов Ифигении, Пандоры, Елены в творческих
исканиях писателя - лучшее подтверждение идеи о том, что бытие мифа есть его становление, сформулированной в труде К.Ф.Морица под воздействием Гете.
* * *
Одной из определяющих тенденций в развитии немецкой эстетической мысли, при всей, на первый взгляд, противоречивости и антагонистичности концепций Винкельмана, Шеллинга, Гегеля, А. и Ф. Шлегелей, Вагнера, Ницше, является преемственность в развитии основополагающих идей. Чаще подобная тенденция проявляется в притяжении, реже - в отталкивании. Так, без концепции Винкельмана не было бы, вероятно, законченной теории Веймарского классицизма. В свою очередь концепция мифа Гете и Морица вплотную соприкасается с философией мифологии Шеллинга, неоднократно цитирующего труд Морица. Так, идея о целокупности мира греческих олимпийцев, высказанная в книге "Учение о богах" (1791), послужила Шеллингу отправной точкой в его рассуждениях. Ссылаясь на идеи Морица, Шеллинг пишет о мифе как о первоисточнике поэтического и философского мышления. Взгляд на античное искусство в эстетических воззрениях Шеллинга также во многом формируется под воздействием Винкельмана, о котором он отзывается с подлинным уважением. Многие положения Шиллера, сформулированные им в "Письмах об эстетическом воспитании человека" и "О наивной и сентиментальной поэзии",развиваются Шеллингом в его "Философии искусства". Фундаментальная эстетика Гегеля базируется во многом на изысканиях и художественной практике предшественников - Винкельмана, Шиллера, Гете, о котором он пишет с неизменным восхищением.
Романтики много и охотно писали о свободном духе античности и о мифе. Вдохновленные теорией Гердера, раскрывшего историческую
перспективу искусства древности и культуры древних народов, они от античной мифологии обращаются к мифологиям национальным и. прежде всего, восточной. Романтическому истолкованию мифа дают основания работы Фридриха Шлегеля. В статьях 90-х годов, находясь под влиянием Винкельмана, он утверждал в качестве идеала совершенного искусства опыты древнегреческой поэзии ("Об изучении греческой поэзии",1795-1796). Ему принадлежит идея о создании новой универсальной поэзии и культуры, эстетически преобразующей мир. Основанием для подобного искусства должна была стать новая мифология, прообраз которой он усматривал в древнейшей мифологии ("Разговор о поэзии",1800).
Однако в трудах романтиков (исключая Шеллинга), как замечает Роберт Вайман, исходным и основным вопросом в изучении мифологии все же являлась проблема истинного мифа: "... до Якова Гримма и Иоганна Якова Бахофена основной методологический принцип мифологии формируется так, чтобы определить реальное истинное содержание мифа, которое именно в силу своей творческой образности получает особую значимость для гуманизирующего искусства XIX века" [2.41;270].
Концепция античного искусства и "философия мифологии", созданная Фридрихом Вильгельмом Иосифом Шеллингом (1775-1854 гг.), представляет собой особый этап в развитии не только немецкой эстетической мысли XIX века. Большинство тезисов и гениальных предвидений и предположений философа о природе мифомышления актуальны и плодотворны с современной точки зрения. Именно Шеллинг, создатель теории тождества бытия и мышления, первый определил мифологию как "первичный материал и необходимое условие для всякого искусства". Философ называет ее той почвой, "на которой только и
могут расцветать и произрастать произведения искусства" [2.210;105]. Эта особая функция мифологии определяется прежде всего тем, что образы и сюжеты мифологического происхождения позволяют художнику в полной мере выразить в своем творчестве вечные понятия и проблемы человечества. Именно Шеллингу эстетическая мысль обязана многими определениями и наблюдениями, которые впоследствии приписывались то Гегелю, то Марксу, то Энгельсу, то Юнгу.
Как справедливо отмечает А. В.Гулыга, "Философия искусства" Шеллинга - это первая попытка создать систему эстетических понятий с учетом исторического развития искусства. При этом, пишет исследователь, "Шеллинг не только предвосхищает эстетическую теорию Гегеля, но в чем-то существенном и поднимается над ней"[2.65;151]. Так, прекрасное, по Гегелю, есть воплощение духа, идеи, для Шеллинга красота проявляется всегда в совпадении идеального и реального.
С точки зрения А.Ф.Лосева, Гегелю в его философско-эстети-ческой теории пришлось только следовать за Шеллингом. Языческий символ в теории Шеллинга и классическая художественная форма Гегеля представляются философу почти тождественными понятиями. По мнению ученого, при имеющихся различиях в терминологии, можно, однако, говорить о Шеллинго-Гегелевской концепции античности [2. 125; 26].
Начиная с "Философии искусства" Шеллинга, теория мифа и осмысление мифологии занимает ведущее место в концепциях античности мыслителей Германии последующих эпох. К постижению сущности мифологии Шеллинг шел всю жизнь. Уже в своем раннем произведении "0 мифах, исторических сказаниях и философемах древнего мира" (1793) философ высказывает мысль о том, что "миф присущ каждому народу,
живущему в эпоху своего детства". Это положение развивается и углубляется им в посмертно опубликованном труде "Философия мифологии" (1856). Шеллинг подходит к постижению сущности мифотворчества с иной точки зрения, чем просветители. Простейшие теории мифа рассматривали миф как поэтический вымысел. Подобная точка зрения высказывается и Гердером. хотя он оговаривается, что миф являет собой "прекраснейшую, поучительнейшую живописную картину, полуфилософию, полупоэтическое искусство"(17). Шеллинг указывает на недостаточность подобного взгляда. Нельзя отождествлять мифологию и поэзию. Философа не устраивает и аллегорический вариант истолкования мифологии. Шеллинг приводит рассуждения английского рационалиста и эмпирика Фрэнсиса Бэкона из трактата "О мудрости древних" о том, что в мифе всегда можно обнаружить тайный однозначный смысл, заложенный в нем его создателем. И в "поэтической", и в "аллегорической" теориях, по мысли Шеллинга, есть одно слабое место: преднамеренность создания мифа. Создать же мифологию преднамеренно, искусственно или ввести ее декретом, как школьную программу, невозможно. Мифология не может быть творением отдельного человека и даже многих, объединившихся для этой цели. Мифологию создает народ в своей совокупности. Как нет народа без общего языка, так не существует народ и без единой мифологии. Общее представление о богах и героях определяет единство сознания.
Рассуждая о единстве многих мотивов, сюжетов и образов в мифологиях разных народов, Шеллинг отрицает возможность заимствования мифологических представлений, утверждая, что мифологию создает совокупное человечество на определенной стадии своего развития. Корни мифологии следует искать не в поэтическом творчестве от-
дельных индивидов, а в особенностях человеческого сознания как такового.
В отечественных трудах по истории эстетических учений Шеллинга зачастую обвиняют в противоречивости концепции мифологизации. Так, М.Ф.Овсянников пишет о том, что с одной стороны, Шеллинг подходит к мифу с исторической точки зрения, и "наряду с этим миф часто понимается Шеллингом как специфическая, безотносительная к каким-либо историческим границам форма мышления"[2.161; 231]. Однако, на наш взгляд, в подобном подходе к изучению мифологии нет противоречия. Философ намечает два подхода к изучению мифологии: исторический и философско-психологический, получившие продуктивное развитие в научных теориях XX века.
Размышляя о специфике мифологического образа, Шеллинг пишет о принципиальном отличии мифа от аллегории, ибо "в аллегории особенное только обозначает общее, в мифологии оно вместе с тем само есть общее"[2.210;108]. "<...> Значение здесь совпадает с самим событием, оно переходит в предмет, составляет с ним единство. Как только мы заставляем эти существа нечто обозначать, они уже сами по себе перестают быть"[2.210;11]. По мысли философа, там, где появляется художественная аллегория, разрушается естественность мифологического образа. В качестве примера разрушения греческого мифа Шеллинг приводит общеизвестную аллегорию об Амуре и Психее. Философ сближает миф и символ, а потому "греческая мифология есть высочайший первообраз поэтического мира"[2.210; 92]. Она возникла в результате бессознательного народного творчества и заключает в себе неисчерпаемый смысл. Так, по мысли Шеллинга, взгляд на природу как на целое, под всеми обличьями оставшееся верным самому себе, воплощен в образе Протея. Чудовищное проявление не укрощен-
ной, но скованной могуществом Зевса природы запечатлено в образах титанов[2.210;103]. Миф о Метиде, проглоченной Зевсом, помысли философа, символизирует собой необходимость абсолютной неразличимости мудрости и силы "в вечном существе"С2.210;1003, а непрочность союза Вулкана и Венеры тщетность стремления чисто земной формы искусства сочетаться с небесной красотой. По мысли философа, в каждом мифологическом образе заключен "неисчерпаемый смысл", "бесконечность бессознательного". Подобное свойство имеют и все подлинно талантливые произведения искусства, представляя собой "некую бесконечность", "причем никогда нельзя сказать, вложена ли эта бесконечность самим художником или раскрывается в произведении как таковом"[2.210:383]. Последний тезис становится отправным пунктом в эстетических и творческих исканиях художников различных школ и направлений XX века. Подлинный художник, по Шеллингу, всегда мифотворец, а искусство невозможно без мифологии. Художник "призван превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию"С2.210:147]. Дон-Кихот Сервантеса и Макбет Шекспира - мифы нового времени. Рассуждая об образной системе "Божественной Комедии" Данте, Шеллинг замечает, что даже выведенные поэтом исторические личности, подобно Уголино, будут впоследствии считаться мифологическими, поскольку художественная система названного произведения питается собственной мифологией Данте, рожденной опытами жизни и творческой фантазией поэта. В этом смысле и "Фауст" Гете для Шеллинга -подлинно мифологическое произведение, "не что иное, как сокровеннейшая, чистейшая сущность нашего века: материал и формы созданы из того, что в себе заключала вся его (Гете - Т.Ш.) эпоха, со всем тем, что она вынашивала или еще вынашивает"[2.210:148].
Философ также высказывает мысль, оказавшуюся продуктивной в последующих эстетических концепциях Вагнера, Ницше, Т.Манна: "Мифология должна не только изображать настоящее или прошедшее, но также и охватывать будущее. Она как бы посредством пророческого предвосхищения должна наперед оказаться согласованной с будущими условиями и бесконечным развертыванием времени или адекватной им, т. е. должна быть бесконечной." [2.210; 1133
Известно, что философские идеи Шеллинга на рубеже XVIII-XIX веков были настолько созвучны взглядам Гете на развитие природы и философию искусства, что писатель способствовал приглашению молодого профессора в Йену, писал ему, неоднократно встречался с ним(18). В свете концепции Веймарского классицизма легко понять, что на некоторое время дало повод к сближению. Для Шеллинга, как и для Гете, художник-копиист стоит лишь на низшей ступени творчества. Высшие формы искусства не могут основываться и на чисто эмоциональном начале творчества. Художник должен суметь возвыситься над созерцанием единичных явлений природы, проникнуть в суть вещей, ибо искусство призвано запечатлевать сущность, воплощающую тождество материального и идеального. Характерно, что рассуждения Шеллинга о постепенной эволюции этико-эстетических идеалов человечества, отраженной в древнегреческой мифологии, имеют соответствующий аналог в Классической Вальпургиевой ночи Гете. Так, по Шеллингу, абсолютный хаос, тьма есть празерно всех богов и людей. Как бесформенна эта бездна, так бесформенны и первые образы, рожденные фантазией людей. "Целый мир неоформленных и чудовищных образов должен исчезнуть, прежде чем сможет возникнуть светлое царство блаженных и неизменных богов", когда на их смену приходят "определенные, четко очерченные образы, место древнего
Океана занимает Нептун, место Тартара - Плутон, титана Гелиоса -вечно юный Аполлон. Даже самый древний из всех богов Эрос, которого самая древняя поэма заставляет возникнуть вместе с Хаосом, вновь рождается как сын Венеры и Марса и превращается в ограниченный и устойчивый образ"[2.210; 943. Мысль Гете идет аналогичным путем. В Классической Вальпургиевой ночи, знаменуя собой постепенное этическое и эстетическое совершенствование человечества, перед Фаустом предстают три ступени, три уровня воплощения их в образах древнейшей мифологии. Низшую ступень представляют фантасмагорические чудовища - грифы, сфинксы, гигантские муравьи. Вторая ступень развития фантазии древнего человека - создание образов полубогов, полулюдей, миксантропических существ (нимфы, кентавры). На высшей ступени мир греческой мифологии смыкается с миром философии, стремящейся постичь закономерности природы и человеческого бытия.
Предваряя во многом будущие пути в изучении мифа и проблем мифологизации, Шеллинг, однако, всегда подчеркивает преемственность собственного взгляда на античность по отношению к концепции Винкельмана. Философ принимает винкельмановский канон красоты, основывающийся на "благородной простоте", "спокойном величии", "созерцательном покое" греческих богов и героев. Покой, по Шеллингу, "есть состояние, свойственное красоте, как штиль - ничем не возмущенному морю. Только в состоянии покоя человеческий облик вообще и человеческое лицо могут быть зеркалом идеи"[2.210;264]. И здесь в качестве образца для Шеллинга, как и Винкельмана, выступают греки, в частности, скульптура Лаокоона. "В произведениях иного стиля все в движении; среди них чувствуешь себя, по выражению Винкельмана, словно в обществе, где все хотят говорить однов-
ременно"С2.210;264]. В "Философии искусства" Шеллинга в рассуждениях о художественном гении Рафаэля мы встречаем те же мысли, что были высказаны Гете в "Итальянском дневнике" периода кристаллизации концепции Веймарского классицизма. Резюмируя свои высказывания, философ подчеркивает, что высшая красота полотен Рафаэля "в спокойном величии главных персонажей его картин"[2.210; 2641. Художник "отбрасывает все лишнее, достигает наивысшего при помощи простейшего и через это дарует своим творениям столь объективную жизнь, что они предстают всецело самодовлеющими, развивающимися из самих себя и с необходимостью рождающими самих себя"[2.210; 265]. Рассуждая о полотнах Рафаэля. Гете идет в том же направлении. Говоря об особенностях живописи дорафаэлевского периода и отмечая явные достижения итальянских художников, он не обходит молчанием их недостатки: нелепые сюжеты, ненужные детали, лишние фигуры, которые им навязывают заказчики. Гете противопоставляет сюжеты этих мастеров изысканной простоте полотен Рафаэля. Созерцание работ итальянского гения убеждало в справедливости собственной концепции творчества и назначения искусства. Картина Рафаэля "Святая Агата" казалась Гете истинным воплощением винкель-мановского идеала "благородной простоты и спокойного величия."
Принимая идею Морица о целокупности мира олимпийских богов, Шеллинг придает этой мысли логическую стройность и завершенность. Для философа Олимп - гармонически организованный мир. в котором все взаимосвязано и взаимоопределено и взаимообусловлено. Основной закон, организующий мир богов, - красота, "реально созерцаемое абсолютное". Но поскольку в каждом образе абсолютное выступает с ограничением, то каждый единичный образ олимпийца предполагает другие, и только вместе они составляют нерасторжимое целое.
"Так, Минерва есть первообраз мудрости и силы, но женская нежность у нее отнята; в соединении оба качества свели бы этот образ к неразличимости, а, следовательно, более или менее к нулю. Юнона - это могущество без мудрости и нежной привлекательности, которую она должна занимать у Венеры вместе с ее поясом. Таким образом, рассматривая вопрос с этой точки зрения, можно сказать вместе с Морицем, что именно отсутствующие черты и суть в явлениях божественных образов, то. что придает им наибольшую прелесть и взаимно их связывает. Тайна всякой жизни заключается в синтезе абсолютного и ограничения"[2.210; 92]. Любопытно, что опираясь на идеи Мо-рица, Шеллинг использует шиллеровский образ лишенной грации и изящества Юноны.заимствующей их вместе с поясом у Венеры ("Письма об эстетическом воспитании человека", "0 грации и достоинстве"). Развивая мысль Шиллера о пассивной самодовлеющей красоте олимпийцев, выраженной в облике бесстрастной Юноны Лудовизи, Шеллинг пишет о том. что "боги сами по себе ни нравственны, ни безнравственны, но изъяты из этой альтернативы и абсолютно блаженны" [2. 210; 953. Идеальным отражением подобного принципа являются образы богов в поэмах Гомера. Наивные в своей безнравственности, они совершенно изъяты из этого, привычного нам, противопоставления. Это положение будет доведено до своего логического завершения в концепции Фридриха Ницше. Рассуждая о противопоставлении мифологии древнегреческой и христианской, Шеллинг также высказывает мысль, впоследствии получившую развитие в трудах Вагнера и Ницше. Говоря о том, что материалом и базой для древнегреческой мифологии служила природа ("общее созерцание универсума как природы"), а для христианской - "созерцание универсума как истории", "мир моральный" [2.210;1271. философ констатирует, что новая эра
начинается с того момента, когда человек осознал свою изъятость из природы и в поисках моральной поддержки обратился к миру идеальному, стремясь в нем найти умиротворение своих страстей и чувства одиночества. "Таким чувством был охвачен мир, когда возникло христианство"[2.210; 127].
Сложившаяся еще в доромантической эстетике (у Винкельмана, Гете, Шиллера, Морица и других) тенденция идеализации античности стала определяющей в трудах ученых и творческой практике художников на рубеже XVIII-XIX вв.
Одним из первых оппонентов, подвергших теорию Винкельмана критике, был Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781). Трактат "Лаоко-он, или 0 границах живописи и поэзии" (1766) в целом посвящен разработке принципов реализма. Внешним импульсом, стимулировавшим работу над трактатом, было знакомство с трудом Винкельмана "Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре" (1755). Полемика с Винкельманом ведется вокруг скульптурной группы Лаокоона, обнаруженной в 1506 году в Риме. Сюжет этого произведения был заимствован из эпоса о Троянской войне. Лессинг, прежде всего, полемизирует с концепцией античности своего предшественника, утверждающего тезис о благородной простоте и спокойном величии древнегреческого мироощущения. Лессинг отвергает стоицизм как этическую основу человеческого поведения и выражает свое несогласие с концепцией красоты Винкельмана, связывавшего идеал прекрасного с идеей о созерцательном покое. По мнению Лес-синга, грек был чувствителен по природе и свободно выражал свои эмоции и слабости, "но ни одна не могла удержать его от выполнения дела чести и долга"С1.41;390].
В качестве идеального воплощения древнегреческого мироощуще-
ния Лессинг называет образ Филоктета в одноименной трагедии Софокла. Физические страдания, как отмечает Лессинг, не делают его пассивным и слабодушным. Среди непереносимых мучений Филоктет все же остается на недосягаемой для его врагов нравственной высоте: "Стоны его - стоны человека, а действия - действия героя. Из того и другого вместе составляется образ человека-героя, который и не изнежен и не бесчувствен, а является тем, или другим, смотря по тому, уступает ли он требованиям природы или подчиняется голосу своих убеждений и долга"[1.41; 4073.
Новый этап в осмыслении древнегреческого наследия и, в частности, античной мифологии, связан с именем Фридриха Ницше (1844-1900). Его концепция, давшая мощный импульс философским, эстетическим и художественным исканиям деятелей культуры XX века, складывается под сильным воздействием творчества и теоретических трудов Рихарда Вагнера. Новый взгляд на античность и природу мышления начинает формироваться уже в художественной практике Ф.Гель-дерлина, Э. Т. А. Гофмана, Г. Клейста.
Гофман не оставил ни теоретических трудов, ни высказываний об античности, ее культуре и мифологии. Однако в его творчестве оформляется та тенденция в использовании мифологических сюжетов и образов, которая уже была намечена в "Пандоре" и второй части "Фауста" Гете. В его романах и новеллах мы встречаем весьма свободную манеру обращения с образами традиционной мифологии, соединение сюжетов и образов различных мифологических систем, а также попытку сознательного, нетрадиционного использования мифа, приобретавшую характер самостоятельного поэтического мифотворчества. Достаточно вспомнить альрауна Крошку Цахеса - господина Циннобера из одноименного произведения. Огненного Саламандра - архивариуса
Линдхорста. зеленую змейку Серпентину с темно-голубьми глазами из "Золотого горшка", принцессу Гамахею и чертополоха Цехерита, короля Секакиса - Перегринуса Тиса из волшебной Фамагусты ("Повелитель блох"). Наличие двойников, само двоемирие Гофмана мифологично. Герои его произведений живут как бы одновременно в двух мирах - реальном и идеальном, причем их жизненные функции в этих мирах резко противопоставлены: чудаковатый архивариус оказывается волшебником, а надзирательница приюта - феей. Само это противопоставление функций аналогично ролям героя и трикстера в мифологии. Герои Гофмана, как и мифологические существа, дублируются как бы и в пространстве, и во времени одновременно. Как замечает Скобелев А.В., "в творчестве Гофмана историческое почти всегда становится знаком вневременного[3.119]. Наиболее ярким в этом плане примером оказывается новелла "Кавалер Глюк". Необъяснимое и загадочное, фантастическое иногда кроется за именами людей умерших, когда-то знаменитых. Ученые-шарлатаны в сказке "Повелитель блох" носят имена и выдают себя за известных нидерландских натуралистов Антона ван Левенгука и Яна Сваммердама. Прошлое человечества как бы не исчезает бесследно, но незримо присутствует в настоящем, обусловливает его. Профессор физики в новелле "Песочный человек", вместе с Копелиусом создавший механическую куклу Олимпию, похож на Калиостро и носит фамилию Спаланцани, действительно жившего когда-то итальянского натуралиста. В произведениях Гофмана мы встречаемся не только с авторскими мифами, но и с использованием традиционных мифологических ситуаций в качестве определенного архетипа, воплощающегося в нетипичной для мифа ситуации(19). Так, миф о Пандоре, искусственно созданной женщине, наделенной всевозможными дарами и красотой, несущей беды челове-
ческому миру, присутствует в подтексте новеллы "Песочный человек". Образ гофмановской Пандоры-Олимпии диаметрально противоположен героине одноименного фестшпиля Гете. В мире Гофмана Пандора-Олимпия - автомат, имитация человека, воплощающая идею бездуховности, гротескной кукольности филистерского мира, в которой становится неразличима сама граница между одушевленными и неодушевленным. Первое упоминание о механической имитации человека (помимо мифов) мы встречаем в "Илиаде" Гомера. Творец золотых истуканов - Гефест, создатель и Пандоры. Для Гофмана автомат олицетворяет собой гибельную нивелировку человеческой личности. Вероятно, поэтому в словах художника-мальтийца из новеллы "Церковь иезуитов в Г.", имеющих программный характер для автора, звучит осуждение Прометея, "который пожелал стать творцом и украл огонь с неба, чтобы оживить своих мертвых истуканов"(20). Проблема переводится автором в этический план: художник не должен посягать в своем творческом порыве на функции природы и Бога, но должен обратиться к постижению и воплощению в своем творчестве высших начал бытия. Мотив титанизма Прометея звучит в новелле Гофмана в нетрадиционном для литературы ХІХ-ХХ веков ключе. Сходную постановку проблемы мы встречаем только в творчестве зрелого Гете ("Ифигения в Тавриде", "Пандора"), осуждавшего титанизм за нарушение мировых закономерностей, гармонии бытия.
Известно, что романтики идеализировали античность, видя в ней воплощение желанной свободы личности и гармонии человека и общества. Однако еще до Фридриха Ницше к "ночным сторонам души грека", к "смятению чувств" обратились Ф.Гельдерлин и Г.Клейст. Как отмечает В. В.Ванслов [2.34], у Гельдерлина в истолковании древнего мира появляется идея борьбы двух начал, предвосхищающих
"аполлоновское" и "дионисийское" начало в эстетике Ницше.
"Смятение чувств" определяет конфликт и в пьесах Г.Клейста. Относясь с уважением к творчеству великих веймарцев, он создает новаторскую для своего времени форму драмы, в которой источником трагического являются не только противоречия индивидуальной воли и требования разума и морали, но и стихия бессознательного, иррационального. В героях Клейста нет ясности и цельности натуры, четкой нравственной позиции. Как справедливо отмечал А.В.Карельский: "Это не просто раздвоение души и не просто противостояние души миру;это некий роковой круг человеческого удела, когда открытость и незащищенность чувства как бы провоцирует удар извне, притягивает к себе молнию судьбы, - а этот удар, в свою очередь, подстегивает душу к сопротивлению, напрягает ее до предела, до разрыва, и если человек вначале страдал от шаткости чувства (Шроффенштейны, Алкмена), то теперь он страдает от его силы (Пен-тесилея)"[2.103; 152]. По мысли исследователя, клейстовский герой живет как бы под двойным давлением: жесткости внешнего мира и глубочайшего трагизма собственных внутренних переживаний. В этом мире традиционный комедийный сюжет о невольной измене Алкмены Амфитриону, воплощенный в комедиях Мольера и Плавта, превращается в "трагическую историю о раздвоении души, заколебавшейся в самом святом, что ее до сих пор охраняло и держало, - в своем сердце, в своем чувстве"[2.103:172].
"Дионисийская" стихия во многом определяет конфликт в трагедии Г. Клейста "Пентесилея". Свою героиню Клейст сравнивает хотя и не с титанами, но с гигантами Отом и Эфиальтом, пытавшимися сравняться с богами-олимпийцами и, взгромоздив Оссу на Пелион, овладеть Герой и Артемидой. В древнегреческой мифологии гиганты, сы-
новья Геи-Земли, как и их старшие братья титаны, являются воплощением темных диких сил земных стихий. Приравнивая Ахилла к золотоволосому богу солнца Гелиосу, Пентесилея готова, подобно Оту и Эфиальту, сорвать его с неба, ухватив за пламенные волосы(21). Праздник роз, посвященный воинственными амазонками Марсу, есть предвосхищение излюбленного в модернизме мотива единства и противоборства двух начал - Танатоса и Эроса. По мысли Петера Хакса, высказанной им в эссе "Невеселые праздники", фестшпиль "Пандора" и его главная героиня были своеобразным ответом Гете на "смятение чувств" романтических героинь Г.Клейста и Ф.Шлегеля. Классический идеал женщины выглядел чрезвычайно скромно рядом со своими романтическими современниками, но в его пользу, по мысли Хакса, "говорило только одно - он был достижим"[1.65; 21].
Иной вариант противопоставления двоемирию и "смятению чувств" романтического героя находит Рихард Вагнер (1813-1883). Его идеал тяготеет к цельности и естественной героике мифологического образа. Как и его предшественники Винкельман, Гете, Шиллер, Ф. и А.Шлегели, Шеллинг, Р.Вагнер идеализировал античное общество, как бы забывая о существовании политических противоречий, рабства. Залогом расцвета искусств композитор считал общественное устройство античного полиса, где нет разлада между личностью и государством, а человек выступает как всесторонне развитый и гармонический индивид. Гениальная личность формируется в юности, когда многие идеи высказываются как бы в озарении. Так было с Гете, еще в молодости сформулировавшим понятие о всемирной литературе. Так случилось и с Вагнером, уже в 21 год призывавшим к эстетическому универсализму, требовавшим писать музыку не по-итальянски, не по-французски и не по-немецки. В качестве определенного
канона подобного искусства композитор выбирает греческое. Однако речь идет не о банальном заимствовании, а о создании нового синкретического искусства, воодушевленного античностью (мысль, сходная с рассуждениями позднего Гете): "Разве мы не склоняем свои головы перед искусством греков, чувствуя все бессилие в этом отношении нашей культуры? <...> Мы должны превратить греческое искусство в общечеловеческое: нужно отбросить от него те условия, которые делали его лишь греческим, но не общечеловеческим"[2.34; 136].
Намеченная еще в доромантической эстетике и искусстве (Вин-кельман, Гете, Шиллер) идея о преобразующей действительность функции искусства продуктивно развивается Вагнером. Даже в самый бурный период жизни и творческих исканий бунтарство Вагнера носило ярко выраженный эстетический характер. Средством обновления мира признавалось искусство, прежде всего - театр. "Да, именно эмансипация театра должна предшествовать всякой иной, ибо именно театр является самым разносторонним, самым влиятельным учреждением искусства; и каким образом человек может надеяться стать свободным и независимым в областях менее высоких, если он не сумеет прежде всего свободно проявить свою самую благородную деятельность - деятельность художественную?"[2.33; 1383 Его концепция отражена прежде всего в статьях "Искусство и революция" (1848), "Произведение искусства будущего" (1849), фундаментальном труде "Опера и драма" (1851). По Вагнеру, художественное произведение будущего должно стать как бы прообразом универсальной жизни. Посылки Вагнера базируются на тезисе о том, что однажды в Древней Греции уже был достигнут идеальный союз, всепримиряющая гармония между искусством и жизнью. Искусство того далекого времени отли-
чается от современного своей общественной сутью, всеобщностью, утраченной в процессе развития человеческой цивилизации. Герой такого произведения искусства, подобно мифологическому, должен отображать в себе самом всю сущность бытия и мироздания. Образцом утраченного идеала в искусстве для Вагнера была древнегреческая трагедия, синтезировавшая "все, что существо греческой духовной культуры считало достойным воплощения <... >Всякое расчленение этого удовольствия, всякое разделение сил, соединенных в одной точке, всякая сепарация элементов по разным специальным направлениям могли быть лишь пагубными, как для столь законченно-единого произведения искусства, так и для самого государства, организованного аналогичным образом<... >"[2.33; 127]. Упадок древнегреческого государства связывается им напрямую с упадком античного искусства и античной эстетики. "Искусство все больше теряло свой характер выразителя общественного сознания; драма распалась на свои составные части: риторика, скульптура и т.п. покинули замкнутый круг, в котором они все действовали в унисон, и каждая из них пошла с тех пор своей дорогой, продолжая свое самостоятельное, но одинокое и эгоистическое развитие"[2.33; 1283.
Провозвестницей нового подобного синтетического искусства должна стать, по мысли Вагнера, музыкальная драма, в силу жанровой специфики соединяющая в себе поэзию, живопись, архитектуру и, конечно же, музыку. Последней отводится особая роль в теоретических рассуждениях Вагнера. Как отмечает В.Ванслов, панмузыкаль-ность бытия - один из определяющих тезисов в концепциях романтиков. По А.Шопенгауэру, именно в стихии музыки мировая воля обнаруживает себя прежде всего. Именно музыка способна передать суть эмоционального, духовного мира человека, и лишь оркестр в своей
совокупности может передать драматические катаклизмы бытия. Музыка дает возможность человеку приобщиться к космической гармонии вселенной. В этом сказывается ее мифологичность. Вагнер один из первых заговорил о родстве музыки и мифа. Мысль эта будет плодотворно развита в работах Ф.Ницше. Особенности проявления мифологического мышления в музыке - предмет особого рассмотрения в трудах теоретиков и историков культуры XX века (В.Иванова, А.Лосева, А.Леви-Стросса, Дж.Кэмпбела и др.). "Узнавание мифологического в музыкальном - путь к пониманию того, что древо музыки - лишь ветвь единого древа мировой культуры"[2.144; 20]. Отправным пунктом многих будущих концепций являются идеи Вагнера.
По сути в ранний период творчества композитор идет по пути создания новой мифологии. И если в "Летучем голландце" и "Тангей-зере" мифологизируются средневековые легенды, то в "Лоэнгрине" средневековая легенда уже напрямую соотносится с общим для всех мифологий мотивом, воплощенном в древнегреческом мифе о Зевсе и Семеле, когда любовь бога приносит гибель смертной женщине. Наказанная за любопытство или сомнение, она погибает, ибо не может вынести истинного облика божества.
Для Вагнера миф - это "вечная поэма чистой человечности", воссоздание которой в художественном произведении - подлинная задача художника.
Непосредственно о мифе и природе мифомышления Вагнер рассуждает в двух трактатах: "Опера и драма" и "Обращение к моим друзьям". Вызывает возражение высказывание А.Аникста о том, что понятие мифа у Вагнера отличается наивностью, "характерной для науки первой половины XIX века"[2.8; 93]. Напротив, композитор не только дает оригинальную трактовку сущности мифов об Эдипе и его потом-
-ві-
ках» характере конфликта в трагедиях "Царь Эдип" и "Антигона" Софокла (22), но и в теоретическом отношении формулирует многие тезисы, продуктивно развиваемые художниками и философами ХІХ-ХХ вв. Для Вагнера миф - это концентрация духовного и эмоционального опыта как первобытного, так и современного человечества. Но композитор подчеркивает определяющую роль фантазии в процессе мифомышле-ния, а также значение фантазии в познании действительности в качестве особой конструктивной силы (мысль, высказанная еще Шеллингом в "Философии искусства"). Он строит свою систему доказательств, исходя из особенностей фантазии творческой. По Вагнеру, "бесконечное стремление фантазии направлено на то, чтобы познать истинный размер явления; и это заставляет ее вновь возвращать свои образы внешнему миру, стараясь при этом приспособить их к действительности, чтобы они выдерживали сравнение с нею. Возвратить свои образы внешнему миру фантазия может только благодаря искусству"12.33;365]. Так же, как и у Шеллинга, представление о мифе у Вагнера сближается с понятием о художественном образе. Трагедия представляется для него ничем иным как "художественным завершением самого мифа; миф же есть поэма общего мировоззрения" [2.33;369]. Миф, несмотря на всю свою многомерность, как и художественный образ, обладает "свойством быть выраженным сжато" [2.33; 369].
Композитора, мечтавшего о создании универсального искусства, естественно, занимала проблема восприятия художественного произведения: "Благодаря способности представлять себе в ясной пластической форме всевозможные положения во всем их объеме, народ в мифе становится творцом искусства. Образы могут получить художественное содержание и форму только тогда, когда - это является
опять-таки их особенностью - они родились из потребности понятно представить явления, следовательно, имеют в виду познать в изображаемом предмете себя и свое собственное, творящее бога существо" [2. 33; 367-368]. Однако, чтобы быть понятым, художник должен избрать такой угол зрения, такую меру обобщения воплощаемого момента, которая была бы принята всеми. Художественную потребность выражать свои мысли, по Вагнеру, человек впервые воплотил в мифе. Однако композитор обращает особое внимание на то, что в мифе поэтическое творчество представляет обобщаемые явления не такими, какими они предстают в реальности, но такими, какими они мыслятся эмоционально насыщенному воображению древнего человека. Истинные взаимосвязи и причины событий можно постигнуть только рассудком, "та же связь, которую находит человек, имеющий возможность понимать явления только по непосредственно производимому ими впечатлению, есть произведение фантазии, а их предполагаемая причина -плод поэтического воображения"С2.33;367].
Рассуждая об антропоморфности греческих богов, Вагнер придает ей принципиальное значение. Поэтическая сила народа в мифе направлена на то, чтобы в доступной чувству форме представить суть обобщаемого явления. Поэтому рожденный, прежде всего, фантазией образ наделяется наиболее доступными человеческими свойствами, "несмотря на то, что его содержание на самом деле сверхчеловеческое и сверхчувственное"[2.39;367]. Одна из определяющих целей мифотворчества, по Вагнеру , - самопознание. В мифе человек стремится "познать в изображаемом предмете себя и свое собственное, творящее бога существо"[2.33; 3683.
Вслед за Винкельманом и предваряя концепцию О.Шпенглера, Вагнер говорит о пластичности, телесности античной культуры как
таковой и мифологии, в частности. Если древнегреческая трагедия есть художественное воспроизведение духа греческого мировосприятия, сконцентрированного в мифе, то воплощение свое мифология находила в телесном образе человека, стремясь к пластической определенности. Телесность, по Вагнеру, - это форма греческого искусства, без которой невозможно выразить его содержание. Античная культура тяготела к пластическому, скульптурному отображению внешнего вида человека, воплощая при этом через внешнюю форму внутреннее содержание. "Христианство, - рассуждает далее Вагнер, - наоборот, начало анатомическую работу, оно хотело отыскать душу человека <... > Но, отыскивая душу, мы убили тело; желая найти источник жизни, мы уничтожили внешнее проявление этой жизни и, таким образом, нашли одни мертвые внутренности, которые могли поддерживать жизнь лишь до тех пор, пока не была разрушена внешность" [2.33;332]. Рассуждения Вагнера о христианстве в момент написания трактата "Опера и драма" отражают его увлечение Л.Фейербахом, знакомство с трудами Д.Штрауса, философов послегегелевско-го времени. Размышляя о гибели языческого мироощущения и о притягательности христианского мифотворчества, Вагнер, по сути, высказывает суждения, близкие рассуждениям Ф.Шеллинга, считавшего, что когда гармония первобытного мироощущения была нарушена кризисом взаимоотношения личности и государства, целое поколение, оторвавшись от природного мироощущения, почувствовало себя покинутым и обратилось за внутренней опорой к миру идеального - моральному универсуму христианства. По мысли Вагнера, "тот, кто нуждался в примирении с собой, - индивидуальный человек - стремился в этом мифе (христианском - Т.Ш.) к страстно желаемому искуплению, осуществлявшемуся при вере в сверхмировое существо, в котором закон
и государство уничтожались в том смысле, что были представлены его неисповедимой воле"[2.33;370]. Именно эти высказывания Вагнера найдут свое логическое завершение в концепции "Антихристиани-нам Ницше.
Рассуждения Вагнера о причинах гибели гармонии древнегреческого мира по существу также предваряют ницшеанские. Единство древнегреческого мировоззрения, опирающегося на мифологию, было разрушено эволюцией цивилизации, когда, по мысли композитора, естественная нравственность сделалась условным законом, а родовая община - произвольно устроенным государством"[2.33;370].
Предвосхищением концепции Ницше о рождении греческого искусства из противоборства и взаимодействия аполлоновского и дио-нисийского начал является, на наш взгляд, рассуждение Вагнера о сути художественного творчества. Музыка и музыкальная драма как прообраз искусства будущего есть творение любви, в которой мужским началом (аполлоновским, оформляющим) является поэтический вымысел, а женским (дионисийским, стихийным) глубина абсолютной музыки. С2.33; 422-423]
Теоретическое наследие Рихарда Вагнера огромно. Эстетические взгляды композитора претерпели естественные изменения под влиянием как исторических, так и событий личной жизни, идей Л.Фейербаха, Д.Штрауса, Ф.Листа, А.Шопенгауэра. Мы остановили свой взгляд лишь на тех высказываниях и рассуждениях, которые оказали продуктивное воздействие на развитие теоретических принципов мифологизации в художественной практике XX века.
Одним из наиболее восторженных поклонников эстетических идей Рихарда Вагнера в молодые годы был Фридрих Ницше. И хотя в дальнейшем творческие и жизненные пути двух гением разошлись, немец-
кий философ был обязан великому композитору многим творческим импульсами.
Рассуждая о месте философских и эстетических исканий Ницше в истории немецкой и западноевропейской культуры последней трети XIX века и первого десятилетия XX века, Ф.Зелинский справедливо связывает с его именем новый этап в постижении культуры античного мира. Так, в эпоху Винкельмана, Гете, Шиллера античность была воспринята европейской интеллигенцией в свете творений ее классической эпохи: "Если не считать Гомера, под знаменем которого состоялось это возвращение к античности как к совершенной и прекрасной природе, то мы имеем везде в качестве действующего и влияющего элемента эллинизм расцвета. Поэзия, начиная с Софокла, искусство, начиная с Фидия, философия, начиная с Сократа, - вот главные движущие силы. Общая их черта - сознательность, гармоничное соединение разума и красоты"[3.159; 7]. Однако углубленное изучение, постижение творений античности и самого древнегреческого мироощущения, плодоносной почвы античной цивилизации должно было закономерно привести восторженного почитателя Древней Греции к открытию того архаического слоя культуры, который предшествовал торжественному расцвету разума и красоты. Так происходит открытие досо-фокловской поэзии, досократовской философии и дофидиевского искусства. И если в последней сфере новый взгляд на античность быть стимулирован археологическими раскопками, обнаружившими дофидиев-ское искусство, то открытием духа дософокловской поэзии и досократовской философии европейская культура обязана Ницше.
Интеллектуальная общественность Европы восприняла от Ницше и новый тип философского осмысления действительности, когда напряженному размышлению и научной доказательности сопутствует твор-
ческое, творящее воображение. Еще Фихте подчеркивал значение личностного фактора в философии. Как справедливо констатирует Р.А.Гальцева [2.54;9-Ю], на пороге XX века появляется новый тип философии, когда философская установка довлеет над сознанием философа, превращая ученого в "творца", "автора", процесс познания - в акт творчества, а философию - в "миф". Подобная переакцентировка характерна для эпохи кризиса общественного сознания, когда начинают "размываться" критерии истинности познания действительности, а релятивизм становится определяющим принципом нравственности. Апелляция к досознательным и подсознательным импульсам стимулировала процесс неомифологизации как в художественных исканиях деятелей культуры на рубеже XX века, так и в создании адекватных состоянию общественного сознания эпохи философских концепций. Пророком подобной "мифологизирующей" философии становится Фридрих Ницше, утверждавший, что "<...> только горизонт, перестроенный на основе мифа, может привести целое культурное движение к завершению. Мифические образы должны стать невидимыми вездесущими стражами, под охраной которых растут молодые души и под знаком которых мужчина взвешивает и оценивает свою жизнь"(23). В подобных высказываниях легко узнаваемы соответствующие идейные посылки Вагнера.
В создании философской концепции подобного типа для Ницше особую роль сыграла рецепция античного наследия. Ф.Зелинскому принадлежит продуктивная мысль о том, что неправомерно встречающееся в научных трудах противопоставление "молодого" Ницше "позднему", как неправомерно противопоставление "молодого" Гете и Гете эпохи Веймарского классицизма. Доказательством этого, по мысли ученого, служит концепция античности, начавшая складываться
у Ницше еще в гимназический период: "Я утверждаю единство развития Ницше как сына и проводника античности от первой до последней написанной им строки"[2.159;83. Ф.Зелинский указывает на "трагическую эпоху греческой истории" (древнегреческая тирания VII-VI вв. до н.э.) как на ту область античности, "которая отныне и до конца его жизни питала его душу и вдохновляла ее на всем известные смелые этико-политические концепции". По мысли ученого, в период изучения Феогнида уже просматривается концепция будущего сверхчеловека, а в работе о "Состязании Гомера и Гесиода" уже прослеживается будущая идея соревнования как орудия "воли к власти" (24). Наиболее уязвимая и наименее изученная концепция ницшеанского имморализма также имеет свои предпосылки в политической и нравственной атмосфере "трагической эпохи Греции", получившей отражение в поэзии Пиндара, Феогнида и Вакхилида. Кстати, Ф.Зеленский одним из первых указал на противоречие теоретического имморализма, в обыденной жизни отвергнутого самим философом: "Об имморализме легко разговаривать, - сказал он однажды, - но каково его вынести! Я, например, не мог бы вынести сознания даже нарушенного слова, - не то что убийства: моей судьбой было бы более или менее продолжительное увядание и гибель. При этом я даже не говорю о раскрытии преступления и о наказании"[2.59; 23]. Предельная искренность Ницше-философа и гуманность Ницше-человека были тонко проанализированы Л.Шестовым, считавшем, что "Ницше был и остался до конца своей жизни нравственным человеком в полном смысле" [2. 208; 97]. Доказывая свою мысль, среди прочих высказываний философа,Л.Шестов приводит и следующее: "Лучший способ начать день: проснувшись, подумать, нельзя ли в этот день порадовать чем-нибудь хоть одного человека. Если это станет заменой религи-
озных привычек, люди только выиграют от такой замены"[2. 208;933.
Нельзя не согласиться с выводом Ф.Зелинского о том, что при всей своей противоречивости философия Ницше имела вполне определенный идейный стержень: "Философ постоянно отречения, любивший как никто в каждый данный день свергать кумиры предыдущего дня, будь то идея или люди, одному кумиру остался верен всю свою жизнь: этим кумиром была античность трагической эпохи, досокра-товская Греция."[2.159;351
Встреча Вагнера и Ницше происходит в период обдумывания философом труда, оказавшего огромное влияние на развитие эстетической и художественной мысли текущего столетия: это книга "Рождение трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм".
Идея книги, концепция которой дала мощный импульс философским, эстетическим и художественным исканиям деятелей культуры XX века, родилась на основе двух лекций, которые были прочитаны молодым профессором в Базельском университете по эстетике древнегреческой трагедии. Однако Елизавета Ферстер-Ницше приводит обоснованное суждение Ф.Кэгеля о том, что "Рождение трагедии" есть небольшая часть из задуманного философом трактата об античности. Статьи о Гомере и о Гомеровском состязании, "Греческое государство", "Греческая женщина","0 музыке и слове" - отрывки из огромной подготовительной работы Ницше к сочинению о Греции(25). Окончательный план книги был составлен под непосредственным воздействием идей и творческих исканий Вагнера, с которым в апреле 1871 года в Трибшене философ имел встречу.
Обращаясь к образам и творениям античности, Ницше прекрасно сознавал, что вступает в полемику со своими предшественниками -Винкельманом, Гете, претворившим винкельмановскую концепцию в
своем творчестве, Шиллером, Шеллингом, Винкельман и Гете открыли для западноевропейской культуры классическую умиротворенную и гармоническую Грецию. Предшественники Ницше (включая Вагнера) оперировали в своих рассуждениях ссылками на культуру достаточно ограниченного периода в истории Греции: классическая эпоха и расцвет александрийской. В статье "Греческое государство (предисловие к написанной книге)" философ сравнивает блестящую культуру эпохи расцвета Древней Греции "с обагренным кровью победителем, который в своем триумфальном шествии волочит привязанных к его колеснице побежденных, как рабов"С2.159; 90]. Развивая эту мысль в статье "Гомеровское соревнование", Ницше замечает, что "греки -самые гуманные люди древних времен - носят в себе черту жестокости, достойную тигра жажду уничтожения: эта черта больше всего бросается в глаза еще и в том отражении эллинизма, в котором он увеличен до чудовищного в Александре Великом, - но она пугает нас во всей эллинской истории, так же как и в мифологии, к которой мы подходим с изнеженным понятием современной гуманности"[2.159;693. В Базельских лекциях, а затем и в опубликованной книге Ницше говорит о совершенно иной, незнакомой рафинированному интеллектуалу Западной Европы Греции, охваченной стихией дионисийского экстаза. Еще обдумывая план лекций, Ницше писал Вагнеру: "Надо обновить идею эллинизма, так как мы пользуемся ложными общими данными. Мы говорим о "радости", об "эллинской ясности", - а на самом деле и эта радость, и эта ясность - запоздалые плоды скудного знания, милости веков рабства. Тонкость Сократа и мягкость платоников уже несут на себе следы последующего упадка. Надо изучать древнюю поэзию шестого и седьмого веков. Тогда только вы прикоснетесь к наивной силе, изначальному растительному соку Эллады
<... > Вот времена, достойные изучения, так как в них много сходного с нашим веком. Греки верили в то время, подобно современным европейцам, в фатализм естественных сил, в то, что должны сами создать себе и добродетель и богов. Их воодушевляло чувство трагического, смелый пессимизм, не отвращающий их от жизни. Между греками и нами можно провести полную параллель: пессимизм и мужественная воля созидания новой красоты" [2. 159; 93]. Молодому философу кажется, что в Древней Греции он находит дух Вагнера. Как великий композитор при помощи музыкальной драмы, театра и искусства стремится духовно просветить народ и возродить на эстетической почве когда-то утерянную гармонию личности и общества, так и греческие трагики, используя в своих созданиях древние мифы, хотели облагородить и воспитать эллинов. Однако, с горечью констатирует Ницше, чудесная мечта разбилась о торгашеский практицизм пирейских купцов и непонимание черни. Лавочники и сброд гаваней и рынков не могли понять возвышенных устремлений духа. Философа занимает мысль о судьбе стремлений Вагнера и его творческих исканий в кризисную эпоху Западной Европы. Уже в ранних высказываниях и работах Ницше формируется положение, развиваемое им в философских трудах на протяжении всей творческой жизни и впоследствии актуализирующееся в концепциях Шпенглера, Тойнби и др. Так, состояние культуры и ее духовное здоровье является, с точки зрения философа, показателем духовного здоровья и жизнеспособности общества. Деградация культуры - свидетельство нездоровья и упадка всего общественного организма.
По мысли Ницше, греческая культура, все греческое искусство проникнуто стихией вечной музыки. Мысль, явно навеянная трудами Шопенгауэра и Вагнера. Стихия музыки для философа - в наивысшей
степени обобщенный язык чувств, а потому она способна порождать миф. Прежде всего, миф трагический, поскольку стихия порождает диссонанс, а не гармонию. Для Ницше миф есть "воплощенная музыка" и "воплощенная воля" (идеи также навеянные Шопенгауэром). Так начинает разрушаться в эстетических воззрениях Ницше привычный для XVIII-XIX века пластический гармонический идеал, воплощенный в древнегреческом искусстве, прежде всего, в скульптурном образе. Для философа греческий дух, а, следовательно, и вся греческая культура есть поле столкновения, борьбы и соединения двух стихий - аполлонизма и дионисийства. Именами греческих богов Аполлона и Диониса Ницше определяет суть двух противоположных тенденций в мировосприятии и искусстве древних греков. С первым связано представление о гармонии, закономерности, порядке, мере, иллюзии сновидения. Сфера Аполлона - пластические образы в изобразительном искусстве, эпическая поэзия. Дионис - воплощение стихии, экстаза, трагической сути бытия, бог страдающий, терзаемый и вечно воскресающий бог. Философия мифического образа Диониса в эстетической концепции Ницше чрезвычайно сложна. Это не только персонаж древнегреческой мифологии, но эманация стихии Первоединого, в котором проявляет себя и воплощается Мировая Воля. Сфера Диониса в искусстве - музыка, лирическая поэзия. Преобладание одного из двух начал, особенно дионисийского, пагубно в искусстве и в жизни, поскольку дионисийское состояние, не уравновешенное аполло-новским началом, порождает "чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он усомнится в формах познавания явлений" [3.36; 61]. Лишь однажды эти взаимоисключающие начала, столкнувшись, соединились в одно вдохновенное целое - в греческой трагедии, где стихия трагизма человеческого и даже космического бытия уравнове-
шена совершенством аполлоновской формы воплощения. Единство это было кратковременным. Оно разрушено скептицизмом и иронией Сократа при помощи апелляции к разуму, подрывавшего наивное гармоническое мифологическое мироощущение.
Отождествляя все предшествующие концепции греческого искусства с аполлоновским началом, Ницше погружается в стихию Диониса, выводя из противоборства и взаимодействия названных противоположностей феномен греческого искусства: "Когда афинянин присутствовал на представлении трагедии великого Диониса, то он приносил в своей душе маленькую искру той элементарной силы, из которой рождается трагедия. Это был победный весенний расцвет, страстное беснование различнейших ощущений, которое чувствуют при приближении весны все наивные народы, вся природа. Все знают, что наша пасха и наш карнавал только видоизменены церковью и представляют собой ни что иное, как те же весенние праздники. Корень всего этого лежит в глубоком инстинкте жизни. Древняя греческая земля нашла в себе толпы энтузиастов, опьяненных Дионисом; точно так же в танцах Св.Иоанна и Св.Витта принимала в средние века все время возрастающая толпа, с пением и плясками кочевавшая из города в город. Врачи могли рассматривать эти явления, как продукт массовых народных болезней; мы же утверждаем, что античная драма есть цветок, родившийся на почве одной из таких болезней, и что если наше современное искусство не почерпает силы из этого источника, то в этом заключается его несчастье"[2.157; 61].
Концепция античного искусства у Ницше в силу неординарности трактовки известного материала и необычной эмоциональности изложения до сих пор большинству филологов представляется фантастической (26). В академическом издании истории немецкой литературы
мы встречаем резкие оценки как самого труда философа, так и воздействия этого произведения на эстетическую мысль и творческие искания западноевропейских деятелей искусства XX века. Однако именно благодаря несомненной продуктивности многих основополагающих тезисов концепция Ницше дала мощный импульс творческим исканиям Г.Гофмансталя, Г.Гауптмана, Т.Манна, Г.Гессе и др.
Как бы предвидя будущие споры вокруг своего наследия, Ницше писал: "В неописуемой странности и раскованности моих мыслей лежит причина того, что лишь по истечении долгого срока - и наверняка не ранее 1901 года - мысли эти начнут доходить вообще до ушей" [3.363; 34].
Внешне эпатирующие читателя и ломающие привычные стереотипы теоретические выкладки Ницше во многом оказались продуктивными в постижении природы древнегреческого мировосприятия и истоков аттической трагедии. Рассуждения Ницше о дионисийстве во многом предваряют концепцию К.Г.Юнга о "коллективном бессознательном" в психической организации и общественном поведении человека.
Ницше не оставил теоретических изысканий, включающих четкие и последовательные определения мифа и мифологии. Размышляя об удивительном пристрастии древних греков к описаниям кровавых изображений сражений и гомеровской "Илиаде", уже в статье "Гомеровское соревнование" философ замечает, что "мы содрогнулись бы, если б только раз поняли это "по-гречески"І2.159;94]. Художественная иллюзия гомеровского мира питается жестокостью мироощущения архаики: "Но что мы увидим, если, не руководимые и не защищаемые рукой Гомера, вступим в мир, предшествовавший Гомеру? Сплошной мрак и ужас, - продукты склонной к отвратительному фантазии. Какое земное существование отражают эти отвратительные страшные
теогонические сказания: жизнь, в которой царят дети Ночи, Раздор, Любовное Вожделение, Обман, Старость и Смерть. Представим себе тяжелую атмосферу Гесиода, но только еще более сгущенную и мрачную, без всех этих смягчений и очищений, которые нисходили на Элладу из Дельф, и многочисленных обиталищ богов; приправим этот сгущенный беотийский воздух мрачным сладострастием этрусков; такая действительность заставила бы нас создать такой мир мифов, в котором Уран, Кронос и Зевс с его титаномахией показались бы нам облегчением; в этой душной атмосфере борьба является счастьем, спасением, а жестокость победы - вершиной ликования жизни" [2.159;94].
Свою гипотезу древнегреческого мифотворчества философ включает в рассуждения о природе античного искусства и истоков трагедии. Ницше высказывает имеющую под собой достаточное обоснование мысль о том, что прекрасное и классическое искусство греков и их золотая оптимистическая мифология не есть прямое отражение безоблачного существования. Напротив, "грек знал и ощущал страхи и ужасы существования: чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслонить себя от них блестящим порождением грез -олимпийцами <... > Чтобы иметь возможность жить, греки должны были, по глубочайшей необходимости, создать этих богов. Это событие мы должны представлять себе приблизительно так: из первобытного титанического порядка богов ужаса через посредство указанного аполлонического инстинкта красоты путем медленных переходов развился олимпийский порядок богов радости <...> Как мог бы иначе такой болезненно чувствительный, такой неистовый в своих желаниях, такой из ряда вон склонный к страданиям народ вынести существование, если бы оно не было представлено ему в его богах озарен-
ным в столь ослепительном ореоле"[2.157; 66-67]. Эволюция мифологических представлений древних греков, описанная Ницше, хотя и опирается на иные философские посылки, напоминает нам аналогичные положения теории Шеллинга и последовательную смену мифологических образов во II части "Фауста" Гете. Так, по Шеллингу, абсолютный хаос, тьма есть празерно всех богов и людей. Как бесформенна эта бездна, так бесформенны и первые образы, рожденные фантазией людей. "Целый мир неоформленных и чудовищных образов должен исчезнуть, прежде чем сможет возникнуть светлое царство блаженных и неизменных богов", когда на их смену приходят "определенные, четко очерченные образы, место древнего Океана занимает Нептун, место Тартара - Плутон, титана Гелиоса - вечно юный Аполлон. Даже самый древний из богов Эрос, которого самая древняя поэма заставляет возникнуть вместе с Хаосом, вновь рождается как сын Венеры и Марса и превращается в ограниченный и устойчивый образ"[2.210; 94]. Мысль Гете о постепенной эволюции этико-эстетических идеалов человечества в Классической Вальпургиевой ночи идет тем же путем.
Определяя функции греческой мифологии в мироощущении древнего грека, Ницше во многом исходит из постулируемых Рихардом Вагнером идей о назначении искусства, высказанных им для Людвига Бо-варского II в трактате "0 государстве и религии". Анализируя свое бунтарское прошлое, Вагнер говорит о том, что смысл искусства заключается теперь для него не в возбуждении наивного политического энтузиазма толпы, а в облегчении "страдания духовно-благородный людей" на их жизненном пути. Назначение искусства в создании иллюзии, превращающей "в призрачные картины самую ужасную действительность." Она придает жизни вид игры и успокаивает индивида в его душевных терзаниях. Для Ницше "тот же инстинкт, кото-
рый вызывает к жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь, - создал и олимпийский мир, как преобразующее зеркало, поставленное перед собой эллинской волей"[2.157;673.
На смену представления о стихийном всеохватывающем оптимизме как основе древнегреческого мироощущения Ницше выдвигает тезис о глубинном чувстве эллинского пессимизма. С подобной точки зрения, золотой безоблачный Олимп - лишь видение истерзанного жизнью мученика, лишь иллюзия, поддерживающая волю и инстинкт жизни. Ницше доводит до логического завершения идею Шеллинга о внеморальности греческого пантеона богов. Так, в "Философии искусства" Шеллинг замечает, что "боги сами по себе ни нравственны, ни безнравственны, но изъяты из этой альтернативы и абсолютно блаженны"[2.210; 96]. Ницше как бы подхватывает нить рассуждений Шеллинга: "Тот. кто подходит к этим олимпийцам с другой религией в сердце и думает найти у них нравственную высоту, даже святость, бестелесное одухотворение, исполненные милосердия взоры, - тот неизбежно и скоро с недовольством и разочарованием отвернется от них. Здесь ничто не напоминает об аскете, духовности и долге; здесь все говорит нам лишь о роскошном, даже торжествующем существовании, в котором все наличное обожествляется, безотносительно к тому, добро оно или зло"[2.157;66]. Этот поразительный переизбыток жизненных сил скрывает в себе, по мысли философа, страшную мудрость бога Силена. Ницше пересказывает миф о том, как пойманный царем Ми-дасом Силен на вопрос о том, что является наилучшим для человека, с хохотом ответил: "Злополучный, однодневный род, дитя случая и нужды, что вынуждаешь ты меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не ро-
диться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по достоинству для тебя - скорее умереть"[2.157; 66]. Казалось бы, подтверждением подобного взгляда на жизнь является и легенда о Пиндаре. Греки, восхищенные искусством поэта, испросили для него у богов наилучшего, тогда олимпийцы послали Пиндару смерть.
Подход Ницше к эллинскому мироощущению внеисторичен. Для него искусство Гомера - лишь временная победа аполлоновского начала над дионисийским. Однако мировосприятие эллина гомеровской эпохи отлично от мироощущения грека периода Пелопонесских войн, времени жизни и творчества Еврипида. В.Вересаев, отклоняя идею о всепоглощающем эллинском пессимизме, справедливо замечает, что для грека гомеровской поры при всем своем трагизме жизнь прекрасна и желанна. А потому - божественно море, священны горы, даже свинопас - богоравный. Божественна сама жизнь во всех ее проявлениях, а смерть - неизбежна. Следовательно, не стоит думать о том, чего изменить невозможно. В подтверждение своих выводов В.Вересаев приводит сравнение мироощущения юноши-самоубийцы из статьи Достоевского "Приговор" и гомеровского "в бедах упорного" Одиссея. "Юноша-самоубийца<... > пишет:"Я не могу принять никакого счастья, просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля." Вот как воспринимает неизбежность смерти гнилокровный юноша, и со смертью-то никогда не встречавшийся. А Одиссей двадцать лет жизни провел в кровавых боях под Троей и в смертельно-опасных скитаниях по миру; смерть несчетное число раз заглядывала ему в самые глаза. И он говорит: "Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце"С2.42;204].
Рассуждения Ф.Ницше об истоках и назначении греческого искусства, в частности греческой трагедии, аналогичны рассмотрению
функций эллинской мифологии. Это не случайно. Как справедливо замечают Кутлунин А.Г. и Малышев М.А.[2.110], в эстетических воззрениях Ницше нет четкой грани, отделяющей трагедию от мифологии. Они как бы взаимно определяют друг друга, являясь особыми формами мировосприятия. В своей совокупности трагедия и мифология воплощают для Ницше принцип эстетического отношения к жизни. Говоря о психических основах эстетизма, преклонение перед красотой, тягу к прекрасному в искусстве философ выводит из все возрастающего, по его мнению, чувства меланхолии и боли. Напротив, тягу к трагическому мифу и трагедии из "дионисийского исступления". "А что если исступление не есть необходимый симптом вырождения, падения перезревшей культуры? Быть может существуют - вопрос для психиатров - неврозы здоровья?"[2.157;52] Аналогичные высказывания встречаем в работах К. Г.Юнга, посвященных психологии бессознательного, архетипу и символу.
Характеризуя стихию дионисийского состояния человека, Ницше указывает на, казалось бы, взаимоисключающие чувства, охватывающие "дионисийского энтузиаста". С одной стороны, это ужас человека, усомнившегося перед стихией бытия в "формах познавания явлений". С другой стороны, отрешившись от своего эгоцентризма и индивидуализма, человек вновь ощущает гармоническое слияние с природой, утерянное им в рационально-рассудочной обыденной действительности. "Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком, сама отчужденная, враждебная и порабощенная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном - человеком <...> Теперь раб - свободный человек, теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и "дерзкой модой" <...> В пении и пляс-
ке являет себя человек сочленом высокой общины; он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит очарование. Как звери получили теперь дар слова и земля течет молоком и медом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное; он чувствует себя богом, он сам шествует теперь восторженный и возвышенный; такими он видел во сне шествующих богов. Человек уже больше не художник, он сам стал художественным произведением; художественная мощь целой природы открывается здесь и в трепете опьянения, для высшего, блаженного самоудовлетворения Первоединого"[2.157;62].
Дионисически настроенный человек, как и оргиастическая толпа, не может иметь слушателя. В экстазе живут, случайному же слушателю может быть уготована роль растерзанного менадами Пенфея ("О музыке и слове", 1871).
Однако возвращение к обыденной жизни "дионисийского безумца" несет с собой отвращение к реальности. Ницше сравнивает такого человека с Гамлетом. Познав истинную суть бытия и вечную его неизменность, он отказался от действия. "Познавание убивает действие, и для действия необходимо покрывало иллюзии." Такую иллюзию дает человеку искусство. Оно примиряет человека с нелепостью существования, преображая его мысли о тщете всего земного в представления, поддерживающие в нем инстинкт жизни. Самый ужас перед гибелью и смертью преображался в инстинкт вечного обновления жизни. Художественным преодолением ужасного становится представление о возвышенном. Освобождение от отвращения, вызываемого нелепым, дает комическое.
Ницше выделяет три типа художника-творца в греческом искусстве: "аполлоновского художника сна", "дионисийского художника
опьянения" и одновременно художника опьянения и сна, как в аттической трагедии, когда в дионисическом мистическом самоотчуждении под аполлоновским воздействием сна поэт приобщается к первоосновам бытия. Отсюда, по Ницше, "очарованность есть предпосылка всякого драматического искусства". Дионисийский герой, растворяясь в окружающем, одновременно и превращается в окружающее, становясь лицедеем. В трагедии подобным возбуждением охвачен хор. Поэтому греческая трагедия - это прежде всего дионисийский хор, "который все снова и снова разряжается аполлоновским миром образов"[2.157; 87]. Уничтожение хора, начатое уже Софоклом и завершенное Еврипи-дом, с точки зрения философа, приводит трагедию к гибели. Хор, по Ницше, носитель музыкального и мифологического начала и мироощущения. Исчезновение музыкального, хорового, а, следовательно, мифологического начала лишило зрителей гармонии метафизического утешения.
Как и для Рихарда Вагнера, для Ницше миф - это основа высшей формы греческого искусства - трагедии: "В трагедии миф раскрывает свое глубочайшее содержание, находит свою выразительнейшую форму; в трагедии он еще раз поднимается, как раненый герой, и весь сохранившийся еще остаток силы вместе с мудрым спокойствием умирающего загорается в его очах последним могучим светом"[2.157;96]. Единственным героем греческой трагедии для Ницше является Дионис, мистическое воплощение Первоединого. Являясь инвариантом Мировой Воли, Дионис в трагедии посредством преображения в мифические образы познает сам себя. С другой стороны, в перипетиях судьбы Диониса воплощается суть Мировой Воли.
Развивая вагнеровское определение мифа, для которого миф -это не только "вечная поэма чистой человечности, но и концентрат
духовного и эмоционального опыта как первобытного, так и современного человечества, Ницше постулирует вневременную емкость мифологической модели: "Миф может наглядно восприниматься лишь как единичный пример некоторой всеобщности и истины, неуклонно обращающий взор свой в бесконечное"[2.157;124]. Подобное определение соответствует общей линии развития теории мифа в немецкой эстетической мысли конца XVIII-XIX веков.
Концептуальным с точки зрения последующего развития теории мифа и мифотворчества является взгляд Ницше на природу слова. Как констатирует Коренева М.Ю., "для Ницше-филолога слово существовало не только как знак, представляющий некий фрагмент действительности, он воспринимал слово и как своеобразный накопитель диахронической информации, тех исторических наслоений, за которыми скрыта некая пра-форма, чистая форма, к ней-то и обращался Ницше" [3.65;65]. Ницше как бы активизирует внутреннюю форму слова, размывая границы привычных знаков, путем сцепления проясняет подлинную сущность слова. В качестве примера Коренева М.Ю. приводит переосмысление Ф.Ницше словесной формы Vbermensch (сверхчеловек), известной еще в XVI веке в качестве прозвища последователей Лютера. В XVIII веке эта словесная форма стала употребляться для обозначения человека, противопоставляющего себя толпе. Обращаясь к внутренней форме указанного слова, Ницше строит чрезвычайно емкий образ, концентрирующий в себе целый комплекс идей и дающий начало новому понятийному ряду в соответствии с вновь построенной философом картиной мира. Ницшеанская конструкция Ubermensch соот-несена, прежде всего с глаголом uberwinden (преодолевать), следо-вательно Ubermensch обозначает "человека преодоленного", а префикс uber (за пределами) уточняет - "нечто, находящееся за преде-
лами понятия "человек". Рассмотренный пример позволяет, на наш взгляд, не просто проиллюстрировать процесс выявления внутренней формы слова Ницше-филологом, но делает наглядным процесс рождения нового мифологического образа, новой мифологемы в философско-эти-ческой концепции Ницше.
Для своего логического завершения Ницше доводит и рассуждение Шеллинга, а затем и Вагнера о непримиримом противостоянии языческой и христианской мифологии. Высказывания Ницше крайне полемичны: "Весь труд античного мира - все напрасно: не нахожу слов, чтобы выразить чувство ужаса, какое охватывает меня <...> А ведь то была лишь предварительная работа, гранитным самосознанием был заложен лишь самый фундамент для труда тысячелетий, - и весь смысл античного мира напрасен!? <... > Для чего жили греки? Для чего жили римляне? <...> Христианство лишило нас античной культуры" [2.155;88-893. Идеалу Христа с полемической заостренностью в трактате "Антихристианин" Ницше противопоставляет вновь Диониса, хотя, как отмечают исследователи, в сознании философа присутствовал и образ Антихриста. Следует сказать, что Антихрист в концепции Ницше - образ по своему значению приближающийся не к сатанинскому началу, но к понятию о сверхчеловеке, носителе нравственных ценностей.
Завершая разговор о рецепции античности в философско-эстети-ческой системе Ницше, необходимо остановиться на определении еще одной идеи философа, чрезвычайно активно и плодотворно воплотившейся в искусстве XX века. Это тезис о "вечном возвращении". Философ приходит к выводу, что время в своем бесконечном потоке должно неизбежно повторить одинаковое положение вещей, а раз так, то все явления, события, мысли неизбежно повторяются. И через не-
определенное течение лет человеку в том же месте и аналогичной ситуации придут в голову те же мысли, что и его далекому предшественнику. Ф.Зелинский аргументированно пишет о том, что зерно и этой идеи было найдено Ницше в наследии античности - в высказываниях пифагорейцев, для которых с математической точки зрения подобный взгляд на периодичность был вполне естественен. Так, один из учеников Аристотеля свидетельствовал ( и это было известно Ницше): "Если верить пифагорейцам, то по прошествии некоторого времени я опять с этой палочкой в руках буду вам читать, а вы все, так же как теперь, будете сидеть передо мною, и не иначе будет обстоять дело со всем остальным"[2.159;33-34]. Так и в концепции Ницше все будет повторяться бесчисленное количество раз, ибо время безостановочно. Этот тезис философа противоречив. С одной стороны, он является крайним выражением пессимистического мироощущения, отнимающим надежду на какое-либо улучшение действительности. С другой стороны, подобная мысль должна облагораживать существование: мгновение непреходяще, если оно вечно возвращается. Это и есть высшая степень сближения между будущим и существующим миром: в этом вечном возврате заключается высшая точка мышления" { 286. "Воля к власти").
В целом рассмотрение концепции античности в философско-эсте-тических воззрениях Фридриха Ницше позволяет сделать вывод о том, что на рубеже XIX-XX вв. под воздействием новых, ранее не известных научных данных, винкельмановская концепция античного мироощущения и искусства подвергается переосмыслению в сторону диони-сийства.
Эстетические воззрения Фридриха Ницше, как и у его единомышленника, а затем и оппонента в философских и эстетических концеп-
циях Рихарда Вагнера, претерпевают существенное изменение. Так, в этико-эстетических концепциях позднего Ницше аполлоновское начало отступает перед дионисийским. В "Сумерках богов", как бы отказываясь юношеской идеи всеэллинского пессимизма, Ницше утверждает в качестве основного пафоса дионисовских мистерий антимистический инстинкт " воли к жизни", как бы гарантировавший греку "вечное возвращение жизни"[2.1583.
В качестве примера и символа подобного мировосприятия мысль позднего Ницше обращается к гению Гете, самому недионисийскому, ранее названному им аполлоновским творцу. Так замыкается разорванный круг, и флейта Марсия примиряется с кифарой Аполлона, стихия ищет равновесия в гармонии: "Гете - явление не немецкое, а европейское. Он окружил себя исключительно замкнутыми горизонтами; он не отделялся от жизни; он входил в нее; он не был робок и брал столько, сколько возможно, на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это цельности: он боролся с разрозненностью разума, чувственности, чувства, воли, он дисциплинировал себя в нечто целое, он создал себя. Гете был среди нереально настроенного века убежденным реалистом: он говорил "Да" всему, что было ему родственно в нем. Гете создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего самого в себя в узде, самого себя уважающего человека, который может отважиться разрешить себе всю полноту и все богатство естественности, который достаточно силен для этой свободы; человека, для которого нет более ничего запрещенного, разве что слабость, все равно, называется ли она пороком или добродетелью. Такой ставшим свободным дух стоит с радостью и доверчивым фатализмом среди вселенной, веруя, что лишь единичное является негодным, что в целом все искупается и утверж-
дается, - он не отрицает более. Но такая вера - высшая из возможных вер: я окрестил ее именем Диониса"[2.158; 107].
Нарисованный философом психологический портрет Гете является, на наш взгляд, яркой иллюстрацией образа сверхчеловека будущего и ломает стандартный пресловутый взгляд на эту категорию в философских построениях Ницше. Вышеприведенная характеристика свидетельствует о том, что в основе концепции сверхчеловека лежит не идея имморализма и жестокости, а постулируемый Ницше в качестве основной жизненной закономерности закон самоотрицания, изменчивости и преодоления, воплощенный для философа в мифическом образе Диониса.
Возвращение к Гете позднего Ницше еще раз подтверждает мысль о том, что при всем своем своеобразии концепция философа складывалась в общем русле развития немецкой эстетической теории XVIII-XIX вв. Эстетизм как особая форма философского и художественного мировидения, абсолютизирующий роль искусства в общественном развитии и творческого начала в духовной структуре личности, имел свое начало еще в трудах Винкельмана, теоретической и художественной деятельности Гете и Шиллера, в работах Шеллинга и немецких романтиков. В этом контексте парадоксальный имморализм философа должен был послужить основой новой нравственности, а его носитель выступал продолжателем традиций классической немецкой культуры -Лютера, Лессинга, Канта, Гете, Шиллера, Шопенгауэра. Преемственность многих положений Ницше по отношению не только к концепциям Шопенгауэра и Вагнера, но и Шиллера и Шеллинга подчеркивал А.Ф.Лосев, признававший труд Ницше "замечательным явлением человеческой мысли". В контексте вышеизложенного представляется догматичной и устаревшей резко отрицательная оценка этико-эстетичес-
ких воззрений Ницше, встречающаяся в некоторых современных работах, авторы которых обвиняют философа в "искажениях гуманистического и социального назначения искусства", его функций, а также в "духовном развращении и нравственном оскоплении людей"[2.210;76]. Однако внимание исследователей, мыслителей, писателей, так или иначе обращавшихся к сопоставлению концепций античности Гете и Ницше, было приковано прежде всего к противопоставлению их личностей, мировосприятия, теоретических и философских взглядов.
Подобное "противостояние" концепций античности в эстетическом сознании Германии на рубеже XIX-XX вв. отражало сложившееся на пороге грядущего столетия противостояние в философских исканиях европейской творческой интеллигенции.