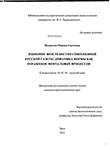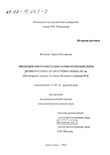Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Деконструкция повествования. Повествовательная и словесная деструкция 32
1.1. Деструкция повествования как инструмент деконструкции. Рецептивные последствия деструкции 33
1.2. Лингвопоэтика насилия над читателем 50
1.3. Приемы словесной деструкции и их функции в художественном тексте 60
1.4. Деструктивная репрезентация культурного концепта «норма» в современной прозе 68
Глава II. Заумное конструирование и его функции в прозаическом художественном тексте 80
2.1. Преобразование разумного языка в заумный как лингвопоэтический прием 80
2.2. Возможные языки как продукт заумного конструирования 86
2.3. Функционирование поэтической и детской зауми в прозаическом произведении 100
2.4. Ословление буквы как текстообразующий прием 103
Глава III. Лингвопоэтика иноязычного слова 114
3.1. Функции иноязычных вкраплений в произведениях классической и современной русской прозы 115
3.2. Лингвопоэтика «эха»: «свое» в «чужом» 133
3.3. Лексические трансформы как разновидность иноязычных включений: функционально-семантический анализ 138
3.4. Иноязычные компоненты художественного текста как смыслопорождающие и стилеобразующие средства 142
Глава IV. Лингвопоэтика литературного бестиария 155
4.1. «Векторы» бестиарной тематики в современной прозе 155
4.2. Лингвопоэтика бестиарного романа 166
Глава V. Лингвопоэтика создания и разрушения мифа и символа 189
5.1. Лингвопоэтика неомифологии 189
5.2. Лингвопоэтические приемы символизации 197
5.3. Экспрессионистская лингвопоэтика десимволизации 205
5.4. Постмодернистская лингвопоэтика десимволизации 212
Глава VI. Лингвопоэтика литературной эротики 218
6.1. Эротика: проблемы художественного изображения и словесного выражения ' 218
6.2. Литературные практики эротического дискурса 228
Глава VII. Лингвопоэтика литературной антропонимиии 250
7.1. Лингвопоэтика деформации знаковых имен и образов мировой культуры 250
7.2. Асемантичный именник современной русской прозы 262
7.3. Образоконструирующая функция прозвища 266
Глава VIII. Лингвопоэтика литературной топонимии 282
8.1. Транссемантизация топонимов 282
8.2. Контекстуальная семантизация топонимов-фиктонимов 292
8.3. Концептуализация топонимического переименования 298
8.4. Прием топонимической панорамности 304
8.5. Деактуализация топонимов как способ выражения концептуального смысла художественного произведения 306
Глава IX. Лингвопоэтика ремейка и ретейка 316
9.1. Инсталляция и перформанс как формы воплощения ремейка 316
9.2. Лингвопоэтика «прививки» ремейка и ретейка к тексту-первоисточнику 325
Заключение 348
Библиография 352
- Деструкция повествования как инструмент деконструкции. Рецептивные последствия деструкции
- Преобразование разумного языка в заумный как лингвопоэтический прием
- Функции иноязычных вкраплений в произведениях классической и современной русской прозы
Введение к работе
Изучение языка и лингвопоэтических норм литературы, в той или иной степени соотносимой с какой-либо культурной парадигмой, естественно связано с основными эстетическими и философскими установками этой парадигмы. В приложении к русской литературе последних трех десятилетий следование высказанному тезису затруднено терминологической невнятицей в определении и употреблении ключевых номинаций постмодерн / постмодернизм, которая преодолевается в нашей работе следующим образом: в настоящем исследовании анализируются лингвопоэтические нормы русской литературы эпохи постмодерна: если постмодерн понимается нами широко — как общее наименование современной культурной эпохи, то постмодернизм — как наименование чрезвычайно влиятельного, но «частного», идеологически и эстетически достаточно жестко очерченного культурного феномена эпохи постмодерна.
С распространенным и закрепленным в морфемной структуре терминов (модерн —> пост + модерн) представлением о хронологической последовательности модерна и постмодерна согласны не все исследователи вопроса. Так, с точки зрения Ж.-Ф. Лиотара, «вне всякого сомнения, постмодерн есть часть модерна. <...> Постмодерн есть не конец модерна, а модерн в зародыше, модерн в момент рождения, и это его постоянное состояние» [Лиотар 2004: 254]. Ю. Хабермас, называя модерн «незавершенным проектом», утверждает: «Варьируя содержание, термин modern всякий раз обозначает сознание эпохи, которая соотносит себя с эпохой ушедшей, рассматривает себя как результат перехода от старого к новому. <...> Я не считаю модерн несостоявшимся проектом, от которого пора отказаться; наоборот, нам следует извлечь уроки из экстравагантных попыток отрицания модерна» [Хабермас 2004: 238-239, 227]. Приведенные предельно широкие толкования модерна, на наш взгляд, не столько отрицают смену культурных эпох, сколько усиливают аргументацию тезиса об их диффузности и, соответственно, условности границ между ними.
Осмыслению феномена постмодернизма посвящена обширная философская, культурологическая, филологическая литература, совокупными усилиями специалистов разных областей гуманитарного знания выстроено грандиозное здание
теории постмодернизма, но до сих пор четко не определено само это понятие -постмодернизм. Одни исследователи называют его направлением, течением, эстетикой, концепцией, парадигмой, методом, стихией. Другие определяют как не направление, не течение, не эстетику, не концепцию, не парадигму, не метод, но стихию. Следы этой стихии ищут и находят в литературе разных времен и народов («постмодернизм как стихия был всегда» [Вайль 1996: 314]), хотя пик ее «разгула», по мнению большинства, приходится на 70-80-е годы XX века.
Нечеткой, зачастую условной является и квалификация того или иного писателя как постмодерниста, что обусловлено уже отмеченной размытостью самого понятия постмодернизм, тем обстоятельством, что демаркация границ между «измами» — модернизмом / постмодернизмом и постмодернизмом / постпостмодернизмом, включающим бесчисленные и слабо различаемые типы творчества, -затруднена естественной текучестью, «вязкостью» литературного процесса. Вследствие этого вариативная, разноречивая типологическая характеристика современных писагелей является неизбежной (например, Т. Толстую, С. Соколова, Ы. Садур критика относит то к модернистам, то к постмодернистам).
Аналитики по-разному оценивают сегодняшнее состояние постмодернистской литературной парадигмы: Вяч. Курицын считает, что «постмодернизм победил, и теперь ему следует стать немного скромнее и тише» [Курицын 2000: 270]. Н.Б. Иванова определяет постмодернизм как «саморазрушающуюся систему» [Иванова 2003: 215], а М.Н. Эпштейн утверждает, что «постмодернизм по-прежнему остается единственной более или менее общепринятой концепцией, как-то определяющей место нашего времени в системе и последовательности исторических времен» [Эпштейн 2000: 283], и предлагает считать постмодернизм начальным периодом эпохи «постмодерности» ("postmodernity"), сменившей эпоху под названием «''модерность" ("modernity", или, в соответствии с русской терминологией, Новое время)» [Эпштейн 2005: 472].
Принимая к сведению вышеизложенное, признаем: значимость постмодернистской эстетики для развития русской литературы последних трех десятилетий нельзя ни отрицать, ни абсолютизировать. Сегодня, когда от бурных споров о постмодернизме (его «зловредных» интенциях, совместимости с русской менталь-ностью, хронологии рождения - развития - упадка, степени соответствия
эстетической теории и художественной практики) филология перешла к обстоятельному многоаспектному исследованию русских литературных плодов эпохи постмодерна, необходимо учитывать следующее: именно в языковой картине совокупного текста большого корпуса произведений, созданного в названный период, отражено сложное взаимодействие как имманентно присущего современной русской художественности, так и привнесенного, заимствованного, что диктует настоятельную необходимость пристального аналитического внимания к языку художественной литературы последних десятилетий, ее лингвопоэтиче-стт нормам. Именно сказанным определяется актуальность настоящего исследования. Читатель, вступая с книгой в диалог, воспринимает и оценивает ее в соответствии с личным вкусом и опытом. Исключительно «вкусовой» подход рождает исключительно «вкусовые» оценки, что также обостряет необходимость постоянного не столько оценивающего, сколько изучающего внимания к литературе со стороны специалистов различных областей филологического знания. Исследование лингвопоэтики современной словесности (прозы и драматургии) призвано в доступной степени объективировать наше представление о том, что представляет собой литература эпохи постмодерна в ее отношении к поэтическому (= эстетически значимому) языку, русской литературно-языковой традиции (как классической, так и авангардной) и русскому читателю (как массовому, так и элитарному), что также обусловливает актуальность предпринятого исследования. Новизна работы предопределена тем, что впервые лингвопоэтичсскому анализу подвергнут большой массив современных литературных текстов различной авторской, жанровой и тематической принадлежности, что позволило (осуществив «интеридиостилистический» (В.П. Григорьев) подход к материалу) высказать аргументированные суждения об общих и индивидуальных лингвопо-этических нормах литературы эпохи постмодерна. Впервые лингвопоэтика современной прозы представлена в ее динамике: в сопоставлении с лингвопоэти-кой литературы предшествующих эпох. Впервые в поле зрения лингвопоэтики введены лингвопоэтические приемы и средства, обеспечивающие художественную экспликацию 1) деструкции слова, повествования, чтения; 2) заумного конструирования; 3) отношения к иноязычной экспансии; 4) неомифотворчества и десимволизации; 5) современного языка литературной эротики; 6) обострения
смысловой оппозиции «человеческое «-» звериное»; 7) реинтерпретации чужого текста. Впервые сделаны выводы о многоаспектных соответствиях и несоответствиях лингвопоэтических практик современных русских прозаиков основным постулатам эстетики постмодернизма.
Объектом рассмотрения в работе является язык русской худоэ/сественной литературы (преимущественно прозы) последних трех десятилетий, находящейся в диалогических отношениях с постмодернизмом как наиболее влиятельной и агрессивной культурной парадигмой второй половины XX века.
Предметом исследования — лингвопоэтические нормы современной художественной литературы, обеспечивающие выражение сложных, противоречивых и творчески продуктивных взаимоотношений названных участников культурного диалога.
Цель диссертационной работы - исследование лингвопоэтических норм русской литературы эпохи постмодерна в их диахронической и синхронической динамике. При этом для нас принципиально важна установка, согласно которой не следует пристрастно выискивать и фиксировать в художественном тексте лингвопоэтическое обеспечение актуального для последней четверти XX века постмодернистского канона; целесообразно изначально придерживаться методики лингвопоэтического исследования, не обремененной культурной тенденциозностью.
Достижению поставленной цели подчинено решение следующих задач:
— выработать исследовательский подход, адекватный материалу и цели ис
следования;
выявить доминантные аспекты лингвопоэтики современной литературы, обеспечивающие выражение ее концептуальных смыслов;
проанализировать диахроническую динамику лингвопоэтических норм: выявить отношение лингвопоэтической практики литературы эпохи постмодерна к русской лингвопоэтической традиции, определить тенденции ее развития;
охарактеризовать синхроническую динамику лингвопоэтических норм путем сопоставления техники и функций одного и того же приема в произведениях ряда современных авторов;
разграничить деструктивные и конструктивные лингвопоэтические практики;
описать лингвопоэтику экспансии иноязычного слова как свидетельства обострения оппозиции «свое <-> чужое»;
отследить процесс реализации традиционных и возникновения окказиональных культурных коннотаций в современном литературном бестиарии;
выявить лингвопоэтические приемы и средства мифологизации и демифологизации, символизации и десимволизации;
проанализировать с лингвопоэтических позиций современные литературные практики эротического дискурса;
исследовать лингвопоэтику ономастикона литературы эпохи постмодерна;
— описать лингвопоэтику реинтерпретации классических произведений.
Общее содержание настоящего диссертационного исследования формулиру
ется в следующих положениях, выносимых на защиту:
В языке русской литературы эпохи постмодерна воплощены общие лингвопоэтические нормы деструкции, заумного конструирования, использования иноязычных включений, порождения культурных неоконнотаций, создания и разрушения мифа и символа, современного языка литературной эротики, семанти-зации литературных онимов, реинтерпретации классических произведений.
Лингвопоэтическим нормам русской литературы трех последних десятилетий свойственна диахроническая динамика, выражающаяся в том, что лингвопоэтический контакт современного литературного материала с русской классикой представляет собой творческое усвоение и развитие приема, его художественных функций, а не механическое заимствование как проявление тотальных постмодернистских цитации / анонимности, иронии, пародийности или «пастишности».
Лингвопоэтическим нормам современной прозы и драматургии присуща синхроническая динамика, выявляющаяся в формальной и функциональной вариативности порождения и использования одного и того же лингвопоэтического приема в произведениях разных авторов.
Повествовательная и словесная деструкция (как инструмент деконструкции художественного текста и один из ведущих приемов лингвопоэтики русской
литературы эпохи постмодерна) полифункциональна. С одной стороны, деструкция приводит к экспликации свойственных постмодернизму нонселекции, симуляции, трансгрессии, антиавторитарности и многоязычия. С другой стороны, лингвопо-этические нормы деструкции ориентированы на утверждение традиционных культурных ценностей через их о'фицание, «от противного», что противоречит негативистскому и нигилистическому постулатам эстетики постмодернизма.
5. Современные авторы видят в языковой игре лингвопоэтический прием вы
ражения содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстной
информации, а не самодостаточное, замкнутое в самом себе словесное действо.
6. Лингвопоэтику русской литературы последней четверти XX — начала XXI
столетия можно определить как лингвопоэтику синтеза, сплава идеальной, изы
сканной нормы и изощренной, принципиально значимой девиантности,
проявляющейся в разнообразных способах и средствах репрезентации сдвига,
который, являясь важнейшим конструктивным принципом современного художе
ственного речеведёния, актуализирует концептуально значимое.
7. Лингвопоэтика современной русской литературы реализуется посредством
частных «тематических» лингвопоэтик, ряд которых открыт: лингвопоэтик
деструкции, «чужести», брутальносте, безумия, неопределенности, банальности,
эротики, забывания, аффекта, утопии, антиутопии. Всё многообразие тематических
лингвопоэтик может быть объединено «под крышей» двух металингвопоэтик -
лингвопоэтики интенсива и лингвопоэтики экстенсива, терминологическое
обозначение которых имеет не тематическое, а собственно «техническое» основа
ние.
8. Лингвопоэтика интенсива репрезентирована языковыми средствами и
приемами лексической и грамматической актуализации, принципами наррации,
известными в той или иной степени литературной традиции. Современные авторы
предельно интенсифицировали их использование. Лингвопоэтика интенсива дает
новое художественное дыхание тому, что в свое время уже обрело статус эстетиче
ской «внутренней нормы» произведения, идиостиля или литературного
направления (например, заумное творчество футуристов или нарративная деструк
ция обэриутов).
9. Лингвопоэтика экстенсива представлена совокупностью приемов и спосо
бов а) вербализации тематики, табуированной ранее моральными, эстетическими,
лингвистическими нормами (это тематика физиологических отправлений, сексу
альных извращений, натуралистически изображаемого садизма и пр.); б)
реализации лирико-прозаических опытов (опытов преобразования прозы в «про-
эзию»); в) употребления разнотипных иноязычных включений, которые
репрезентируют иноязычный «лексический фронт», агрессивно вторгающийся в
словесную ткань русскоязычных произведений. Лингвопоэтика экстенсива
активно осваивает маргинальные (некодифицированные, субстандартпые) лексиче
ские ресурсы национального языка, а также лексику и фразеологию других языков.
На долгую и продуктивную жизнь, по нашему убеждению, могут претендовать созданные и развитые в литературе эпохи постмодерна лингвопоэтические приемы как деструктивной природы, так и конструктивной, созидательной направленности, поскольку в лингвопоэтике совокупного русского художественного текста были, остаются и будут востребованы способы и средства выражения гармонии и разлада, счастья и горя, добра и зла, прекрасного и безобразного, своего и чужого, без художественного осмысления которых невозможна литература.
Среди многообразия лингвопоэтических приемов, реализуемых в современных художественных текстах, выделяются художественно бесперспективные, тупиковые, исчерпанные. Эти приемы предполагают валоризацию низкого в его крайнем выражении (мат, экскрементальная и прочая «тошногенная» лексика). Активная эксплуатация названного лексического материала показала, что валоризация его возможна только в исключительных, единичных случаях, производимый им шоковый эффект быстро угасает, а уникальная экспрессивность «выдыхается».
Свойственная русской словесности эпохи постмодерна полная и взыскательная сосредоточенность на поиске и совершенствовании миротворящего означающего позволяет признать литературу трех последних десятилетий «феноменом языка», но не означает отлучения современного художественного слова от национальной стихии, от материальных и духовных начал сегодняшней российской жизни.
Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в развитие теории лингвопоэтики, в изучение современных лингвопоэтических норм (общих и индивидуальных) в диахроническом и синхроническом аспектах.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в университетских лекционных курсах по стилистике художественной литературы, лингвистике текста, в спецкурсах по лингвопоэтике прозы и драматургии. Результаты исследования могут быть также использованы при описании истории языка художественной литературы в аспекте исторической поэтики.
Теоретико-методологическая база исследования. В процессе развития научной мысли происходит закономерное сближение и пересечение «орбит» в той или иной степени противоречащих друг другу теоретических систем. При этом рождается некое синтезированное знание, которое обеспечивает научную эволюцию и провоцирует тем самым формирование нового научного противостояния. Перманентность и продуктивность этого процесса убеждают в целесообразности отбора в качестве базовых для нашего исследования тех теоретических посылок, которые объединены не принадлежностью к какой-либо одной научной школе, а разрешающей силой, объясняющей способностью при анализе художественных слова и текста.
Особенность привлекаемого к анализу материала предопределила опору настоящего исследования на теоретические посылки ряда филологических дисциплин: лингвопоэтики, стилистики художественного текста, стилистики грамматических ресурсов, стилистики декодирования, лингвистики текста, нарра-тологии, семасиологии, лексикологии, словообразования, морфологии, синтаксиса. Особо важные для формирования исследовательского подхода к языку художественной литературы эпохи постмодерна теоретические посылки могут быть сведены в следующие информационные блоки: соотношение понятий и предметов поэтики и лингвистической поэтики; лиигвопоэтический анализ художественного текста как основа его филологической интерпретации; характеристика участников эстетической коммуникации — автора, текста и читателя; художественный текст как объект восприятия; понятия нормы, канона и эталона; понятие окказионального, поэтика сдвига.
Соотношение понятий и предметов поэтики и лингвистической поэтики. Лингвопоэтика - ключевое понятие терминосистемы настоящего исследования, и обсуждение вопросов о предмете этой отрасли филологического знания, о ее соотношении с эстетикой слова, теорией эстетической коммуникации, филологической интерпретацией художественного текста занимает центральное положение в обзоре теоретических основ исследования.
Согласно классическому тезису Ю.Н. Жирмунского, «поэтика рассматривает литературное произведение как эстетическую систему, обусловленную единством художественного задания, то есть как систему приемов. <...> Приемы — эстетически значимые факты, определяемые своей художественной телеологией» [Жирмунский 1997: 125]. Но является ли эстетическая сторона, художественная телеология приема предметом исследования поэтики! На этот вопрос филологи отвечают по-разному: по мнению Г.Г. Шпета, «поэтика так же мало решает эстетические проблемы, как и синтаксис, как и логика. Поэтика есть дисциплина техническая» [Шпет 2006: 223]. М.М. Бахтин, напротив, считал, что «...поэтика должна быть эстетикой словесного творчества, и поэтому изучение приемов художественных произведений является только одной из ее задач, правда, немаловажной» [цит. по: Щирова, Тураева 2005: 117]. О том же читаем у К. Эрберга: «...заражающее свойство произведения искусства... лежит в технике художественного произведения, понимаемой в самом широком смысле: оно лежит во всем том, что для воспринимающего это произведение проявляется как следы творческой работы» [Эрберг2006: 479].
Следуя последней из приведенных точек зрения на предмет и сферу интересов поэтики, заметим, что термин поэтика часто используется как родовой по отношению к поэтике литературоведческой и поэтике лингвистической, воспринимается как филологическая синкрета. Пограничье двух поэтик как научных дисциплин имеет достаточно большую зону интерференции, чем, очевидно, и объясняются непоследовательное применение термина лингвопоэтика, отсутствие термина литературоведческая поэтика и расширительное толкование термина поэтика. Так, в «Литературном энциклопедическом словаре» в статье «Поэтика» термин поэтика трактуется как общее наименование двух практикуемых исследовательских подходов к литературному произведению: «Поэтика - наука о системе
средств выражения в литературных произведениях. <...> Поскольку все средства выражения в литературе в конечном счете сводятся к языку, поэтика может быть определена и как наука о художественном использовании средств языка... но и тот и другой подходы опираются в конечном счете на словесный текст, исследуемый поэтикой» [Гаспаров М. 1987: 295]. А в статье «Язык художественной литературы» утверждается, что при исследовании названного феномена «необходимы и лингвистика текста, и его поэтика и эстетика, а поэтика как часть теории литературы получает методологическую и практическую поддержку со стороны лингвистической поэтики в ее статусе науки о языке художественной литературы, значение которой постоянно подчеркивали Виноградов и др. классики филологии» [Григорьев 1987: 525. Курсив наш. - КБ.]. К «другим классикам филологии» первым следует отнести А.А. Потебню, взгляды которого «на поэтический язык, природу поэзии и вообще искусства составляют его "лингвистическую поэтику"» [Франчук, Рождественский 1990: 570]. Считая, что в ведении обеих поэтик находится изучение двух сторон художественного текста — и технической, и эстетической, отметим: лингвопоэтика как научная дисциплина сосредоточена на исследовании собственно лингвистической природы словесного творчества и начинает рассмотрение художественного текста с техники создания его материальной формы: «В проведении лингвистического анализа первая ступень представляет собой отталкивание именно от лингвистических реалий, то есть данностей самого текста» [Кубрякова 1994: 22]. Но в процессе лингвопоэтического анализа разноуровневые языковые средства закономерно рассматриваются как выразители художественной идеи произведения, его эстетики. Таким образом, по нашему мнению, поэтика как наука о технике и эстетике словесного творчества включает в себя литературоведческую поэтику (ее предмет — литературные роды и жанры, творческие методы, сюжет, фабула, композиция, система образов) и лингвистическую поэтику (ее предмет — языковая репрезентация техники и эстетики художественного текста1). Общей зоне литературоведческой и лингвистической
«Перед лингвистической поэтикой ставится задача понять поэтический идиолект как имплика-тивно организованную функционально-ориентированную систему и вместе с тем как динамическую структуру» [Очерки истории языка русской поэзии XX века 1990: 46].
поэтик принадлежит изучение повествовательной организации, тропов и стилистических фигур художественного произведения.
Лингвистический анализ художественного текста как основа его филологической интерпретации. Исследование художественного текста - «исходной реальности филологии» [Аверинцев 1990: 544] - в аспекте лингвопоэтики закономерно «выливается» в комплексную по своей природе филологическую интерпретацию как «высказанную рефлексию» (Г.И. Богин), поскольку, на наш взгляд, лингвопоэтика призвана исследовать языковую сторону художественного произведения не только с целью выявления и описания некоего характерного для данного литературного произведения набора формальных средств и приемов художественного изображения, но и со сверхзадачей порождения филологической интерпретации как «способа реализации понимания» [Цурганова 1996а: 213]. При этом толкование должно быть максимально корректным по отношению к объекту рассмотрения (т.е. минимально произвольным).
Согласно классическому и поныне актуальному тезису Л.В. Щербы, целью толкования (иначе говоря - филологической интерпретации) художественного произведения «является показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературных произведений. Что лингвисты должны уметь приводить к сознанию все эти средства, в этом не может быть никакого сомнения» [Щерба 1957: 7]. Именно лингвопоэтический анализ придает научное обоснование филологической интерпретации как особому типу знания, как «способу взаимосогласования формы текста с его содержанием» [Лукин 1999: 6]. Именно исследование лингвопоэтики художественного произведения позволяет объективировать интерпретационную версию, приблизив ее тем самым к автору как повествовательной инстанции . По мнению В.Н. Топорова, «именно поэтика есть средостение, которое кратчайшим путем и наиболее полно связывает поэта с текстом, будучи равно укорененной и в том и в другом; она своего рода теоретико-множественное произведение свойств поэта и текста. Поэтика замечательна не только тем, что она между поэтом и
1 Мы последовательно не придерживаемся постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистского понимания интерпретации, при котором «текст интерпретируется не как оригинальный феномен, а как конструкция из различных способов письма и культурных цитат» [Щирова,Тураева2005: 125].
текстом. Существуют и более сильные свойства поэтики, чем ее место в "поэтическом" пространстве: поэт творит текст через поэтику; текст реконструирует поэта через описывающую этот текст поэтику. В этом смысле поэтика двунаправлена, и ее двунаправленность - оборотная сторона искомого единства поэта и текста» [Топоров 1997: 216].
В интерпретации как «когнитивной процедуре установления содержания по
нятий... и результате указанной процедуры» [Можейко 2001с: 331] выделяются
«субъект, объекты, процедурный аспект, цели, результаты, "материал" и инстру
менты» [Демьянков 1997: 31]. Без учета лингвопоэтики, исследующей «материал и
инструменты» литературного творчества, не представляется возможной филологи
ческая интерпретация диалога современной русской литературы с
постмодернизмом, поскольку именно лингвопоэтическая организация произведе
ния обеспечивает наиболее полное выявление авторских и текстовых интенций,
которые суть «инструкции» к прочтению, а значит, и ключ к реализации интенций
современного читателя.
Как известно, в филологии бытуют «зеркальные» мнения о соотношении текста и произведения. Так, по М.М. Бахтину, «текст не равняется всему произведению в целом. <...> В произведение входит и необходимый внетекстовый контекст его» [Бахтин 1979: 369]. Того же мнения придерживается Ю.М. Лотман: «Та историко-культурная реальность, которую мы называем художественным произведением, не исчерпывается текстом. Текст - лишь один из элементов отношения. Реальная плоть художественного произведения состоит из текста (системы внутритекстовых отношений) в его отношении к внетекстовой реальности - действительности, литературным нормам, традиции, представлениям» [Лотман 1997: 211]. В. Изер считает, что «произведение - нечто большее, чем его написанный текст, потому что текст обретает жизнь только в процессе чтения. <...> Литературное произведение появляется, когда происходит совмещение текста и воображения читателя, и невозможно указать точку, где происходит это совмещение, однако оно всегда имеет место в действительности, и его не следует идентифицировать ни с реальностью текста, ни с индивидуальными наклонностями читателя» [Изер 2004b: 202].
По Р. Барту, «произведение, понятое, воспринятое во всей полноте своей символической природы, - это и есть текст» [Барт 1989: 417]. Объектом нашего исследования на этапе имманентного анализа (т.е. не выходящего «за пределы того, о чем прямо сказано в тексте» [Гаспаров М. 1997: 9]) является то, что в русской классической филологии называется текстом, а в западной постструктуралистской — произведением; на этапе рассмотрения и учета внешних связей и отношений - то, что М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман и В. Изер называют произведением, а Р. Барт - текстом.
Ю.Б. Борев определяет художественный текст как «первую ступень бытия искусства» [Борев 2005: 174], а художественное произведение как «вторую ступень искусства, его социальное бытие» [Там же: 176]. Принимая эту точку зрения на соотношение текста и произведения, считаем необходимым отметить плавность «перетекания» текста в произведение в процессе лингвопоэтического анализа литературного факта , обусловленную тем, что от фиксации и лингвистического описания текстовых средств выражения того или иного приема исследователь должен перейти к рассмотрению функционирования этого приема в процессе читательского восприятия, к анализу «социального бытия» приема.
Характеристика участников эстетической коммуникации — автора, текста и читателя. За каждым из трех «участников» литературной коммуникации — читателем, текстом / произведением, автором - в современной филологии признается наличие своих собственных интенций (соответственно intentio lectoris, intentio operas, intentio auctoris).
Интенции читателя состоят в декодировании, расшифровке, то есть прочтении и понимании / интерпретации текста. В предшествующую современной филологическую эпоху вышеприведенный перечень участников эстетической коммуникации имел обратный порядок: автор (создатель, творец, демиург), текст / произведение, читатель. Первенствующее положение читателя в построениях постструктурализма определяется тем, что именно и только воспринимающий мыслится субъектом интерпретации как единственно возможной формы эксплика-
МЛ. Дымарский замечает: «Стоит обратить внимание на то, как осторожно пользуется термином (термином «текст». - НБ.) Д.С. Лихачев: "История текста произведения теснейшим образом связана с историей литературы..."» [Дымарский 1993: 15].
ции смысла произведения. Именно читатель признается субъектом конкретизации, то есть процесса «воссоздания художественного произведения, наполнения смыслом рамок художественной структуры путем заполнения пустых мест и участков неопределенности своими представлениями и эмоциями на основе собственного горизонта ожидания» [Дранов 1996: 57]. Горизонт ожидания как рецептивный диапазон неразрывно связан с читательской пресуппозицией (и, соответственно, с типом читателя): он уже и жестче у наивного, простодушного, ординарного, рядового, массового читателя, который «ищет в поэзии привычных ему мыслей и образов, не умеет мотивировать своих поэтических, литературных предпочтений» [Гумилев 1991: 180—181], тогда как более широкими, гибкими, богатыми являются рецептивные возможности у так называемого искушенного, проницательного, идеального, образцового, абсолютного, критического, властного, когерентного, компетентного, аристократического, сверх- или архичитателя, читателя-друга, «провиденциального собеседника» (О. Мандельштам), который «переживает творческий миг во всей его сложности и остроте» [Там же]. Важные дополнения в типологию читателей вносят В.И. Тюпа («...там, где читатель-созерцатель должен войти в состав "произведения", как в уготованный для него "мир", там читатель-ученый обязан увидеть этот "мир" как "произведение" [Тюпа 1987: 7]) и Г.О. Винокур («...филолог не "буквоед" и не "гробокопатель", а просто - лучший из читателей: лучший комментатор и критик, "учитель медленного чтения" (Ницше)» [Винокур 2000: 93]).
Провозглашаемое теоретиками постмодернизма освобождение читателя от насилия стереотипа, от мертвящего автоматизма восприятия оказывается чревато новым насилием над читателем - жертвой садистских речевых практик писателей строго постмодернистской ориентации. Тоталитарная природа любого текста проявляется в естественной для него установке быть так или иначе воспринятым. Акт восприятия текста в известном смысле есть акт принуждения читателя к совершению необходимых операций по декодированию текстовой информации, ее интерпретации, акт насилия воспринимаемого над воспринимающим. Читатель, вошедший в эстетический резонанс с художественным текстом, следует текстовому императиву, не возмущаясь его жесткостью, зачастую вообще не замечая диктата текста, и, более того, переживает власть текста как эстетическое наслаж-
дение. Читатель, эстетически дистанцирующийся от воспринимаемого художественного текста, сопротивляется его воздействию, бунтует против того, что шокирует его литературный вкус, противоречит его поведенческим установкам. Крайняя форма такого бунта - отказ от чтения. Куда чаще неприятие эстетики художественного произведения выражается в критически-скептическом к нему отношении, сохраняющем свою актуальность до тех пор, пока кажущееся неприемлемым, антихудожественным не будет подвергнуто эстетической переоценке и не получит статус новой эстетической нормы или не будет предано забвению как отвергнутое культурой.
Согласно В. Изеру, «любое эстетическое переживание сходно с игрой индуктивного и дедуктивного начал; из этой игры вырастает частное значение текста. <...> Эта игра идет не в самом тексте, она может осуществляться только в процессе чтения... в процессе чтения определяется нечто, не сформулированное в самом тексте — интенция текста. Читая, мы открываем "неопределенную" часть текста, и эта неопределенность есть сила, заставляющая нас вырабатывать частное прочтение и предоставляющая нам необходимую для этого свободу» [Изер 2004b: 217. Курсив наш. — Н.Б.]. Таким образом, интенция текста состоит в «производстве своего образцового читателя, то есть читателя, способного выявить смысл, запрограммированный текстом, и тем самым редуцировать бесконечное множество возможных прочтений к нескольким интерпретациям, предусмотренным самим текстом» [Усманова 2001: 162]. Текст как гарант интерпретации предотвращает своими текстовыми стратегиями разрастание «раковой опухоли интерпретации» (У.Эко), ограничивает интерпретационное поле, ориентируя читателя в поиске «некоего инварианта» (Н.С. Болотнова), «инвариантного ядра» (А.И. Домашнев) смысла текста. Как пишет Г.Р. Яусс, «литературное произведение, даже если оно кажется новым, не является как нечто совершенно новое в информационном вакууме, но задает читателю очень определенные линии своего восприятия, используя текстуальные стратегии, открытые и скрытые сигналы, привычные характеристики и подразумеваемые аллюзии» [Яусс 2004: 194].
По мнению Ю.М. Лотмана, «текст и читатель как бы ищут взаимопонимания. Они "прилаживаются" друг к другу. Текст ведет себя как собеседник в диалоге: он перестраивается (в пределах тех возможностей, которые ему оставляет
запас внутренней структурной неопределенности) по образцу аудитории. А адресат отвечает ему тем же - использует свою информационную гибкость для перестройки, приближающей его к миру текста. На этом полюсе между текстом и адресатом возникают отношения толерантности» [Лотман 1999: 113].
Мы солидарны с мнением1 Н.С. Болотновой и ее соавторов о том, что «на уровне целого текста можно говорить о его регулятивной .функции и способах регулятивности, то есть приемах организации текстовых микроструктур с учетом общей коммуникативной стратегии текста» [Болотнова и др. 2001: 31]. Этот тезис звучит особенно актуально в приложении к современному этапу культурного процесса, для которого характерен, по выражению Ж. Бодрийяра, «экстаз коммуникации».
Интенции автора. Вопрос о выражении авторских намерений так или иначе соотносится с вопросом об образе автора как «индивидуальной словесно-речевой структуре, пронизывающея строй художественного произведения и определяющея-взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов» [Виноградов 1971: 151]. Л.А Новиков считает образ автора детерминантой художественного произведения:" «Выражая суть художественного произведения и концентрируя его идейное, композиционно-структурное и языковое (стилевое) единство, образ автора как своеобразная иерархически самая высокая поэтическая категория, создаваемая >-творчеством писателя и воссоздаваемая сотворчеством читателя, представляет собой детерминанту литературного произведения — главную особенность его содержания и структуры, определяющую его специфику, направление и характер его развертывания и развития. Она является наиболее адекватной категорией для постижения потока авторского сознания, для осуществления целостного всестороннего анализа художественного текста» [Новиков Л. 2003: 13]. В.В. Одинцов усматривает образ автора «в формах соотнесения повествовательного монолога и диалога, в специфике повествовательного движения и смены типов речи, в экспрессивно-стилистических особенностях текста, а также в отдельных суждениях и определениях, которые выходят за рамки конструируемого образа героя» [Одинцов 2006: 178].
По мнению М. Фуко, понятие «"автор" содержит в себе определенную множественность и объединяет в себе функции документального, художественного и
поэтического "я"» [Фуко 1996: 29]. «Смерть автора» как элиминация авторского творческого начала, пропитывающего все элементы, уровни художественного произведения, - одна из основополагающих установок философии постмодернизма: «...новое отношение между литературным творчеством и смертью проявляется... в стирании, отмене индивидуальных характеристик писателя. Возведя между собой и своим произведением стену из всякого рода ухищрений, писатель стирает знаки собственной индивидуальности. В результате отпечаток автора на произведении сводится к обозначению его отсутствия; в игре литературного творчества автор выступает в роли мертвеца» [Фуко 2004: 72]. Скриптор, заместивший автора в системе понятий постструктуралистской теории, — не творец, не субъект творчества, а лишь обезличенный переписчик, «пустое пространство проекции интертекстуальной игры» [М. Пфистер. Цит. по: Можейко 200If: 744]. Даже не содержательно-формальный анализ современной русской прозы, а «нефилологическое», но вдумчивое прочтение ее заставляют отвергнуть тезис о «смерти автора» как неподтвержденный литературной практикой. Присвоение художественному тексту автора как признание его отцовства -неизбежный «законный акт», обусловленный неотменяемостью того, что «авторский угол зрения, авторский взгляд, авторское отношение действительно пронизывает и скрепляет (даже если формально рассеивает. -КБ.) все произведение и объясняет (или даже намеренно затемняет. - КБ.) место, роль, функцию каждого элемента словесно-художественного произведения» [Одинцов 2006: 178]. При этом «жизнь автора» (в противовес его «смерти») абсолютно не противоречит интертекстуальности и множественности провоцируемых художественным произведением читательских интерпретаций1.
Принимая к сведению всё вышесказанное, условимся в равной мере признавать и уважать права автора, читателя и произведения как активно реализующего свои права результата их сотворчества. Ведь «слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его произведения» [Потебня 1976: 181]. Таким образом, «говоря-
1 Интертекстуальность и «полиинтерпретируемость», будучи актуализированными и глубоко отрефлексированными в эпоху постмодерна, безусловно, наличествовали в сфере литературного творчества и во все предшествующие эпохи.
щий» автор и «слушающий» читатель образуют творческое содружество адресанта и адресата художественного сообщения.
Художественный текст как объект восприятия. Восприятие художественного текста «является не пассивным копированием мгновенного воздействия, а живым, творческим процессом познания» [Мельничук 2002: 21], оно совмещает в себе спонтанность возникновения чувственных образов и креативность познания смысла читаемого. В. Изер пишет о значимости «перебивов» в потоке восприятия: «Мы забегаем вперед, оборачиваемся назад, принимаем решения, изменяем их, формируем ожидания, испытываем потрясения, когда они не сбываются, мы задаемся вопросами, размышляем, принимаем, отвергаем - вот динамика процесса воспроизведения» [Изер 2004b: 218].
Восприятие художественного текста является предметом таких научных теорий и дисциплин, как рецептивная эстетика, «стилистика декодирования» (М. Риффатер) и коммуникативная стилистика, уже упоминавшаяся выше. Для нашего исследования актуальны тезисы рецептивной эстетики об обусловленности читательской интерпретации эстетическим опытом и горизонтом ожидания реципиента, о закономерном развитии восприятия от пассивного к активному, критическому, об относительности и неабсолютности любой литературной инновации (идеи Х.Р. Яусса), о лакунарности (наличии «пустых мест»,- «участков неопределенности») литературного произведения, стимулирующей накопление читателем эстетического опыта (в современной терминологии - тезауруса читателя), о «репертуаре» текстовых структур, детерминирующем приятие или отторжение произведения (идеи В. Изера).
При монографическом описании текстов целесообразно и продуктивно обращение к основным понятиям и методике стилистики декодирования, определяемой И.В. Арнольд как «раздел стилистики, который рассматривает способы толкования художественного текста для достижения наиболее полного и глубокого понимания его, исходя из структуры этого текста и взаимоотношений составляющих его элементов. <...> В стилистике декодирования внимание сосредоточено на том, что читателю дает текст» [Арнольд 1999: 132, 145]. Центральными понятиями стилистики декодирования (стилистики получателя речи) являются понятия стилистического приема и стилистической функции,
которая представляет собой зависимость результата взаимодействия (если воспользоваться терминологией И.Р. Гальперина) содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной информации от структуры произведения. И.В. Арнольд так характеризует присущие стилистической функции неэксплицитность, аккумуляцию и иррадиацию: «Неэксплицитность стилистической фуніщии состоит в том, что она может опираться не на денотативные или не столько на денотативные, сколько на коинотативные значения слов, форм и конструкций. Аккумуляция состоит в том, что один и тот же мотив, настроение, чувство и т.д. передается в художественном произведении не одним приемом, а сразу целой конвергенцией, то есть пучком приемов. Иррадиация заключается в том, что, возникнув на одном участке текста, стилистическая функция может сказываться или отражаться на другом, в котором она уже отсутствует, но на который воздействует как макроконтекст» [Арнольд 1999: 160].
Общей посылкой стилистики декодирования и лингвистики текста является признание того, что автор нарративной организацией своего произведения в известной степени управляет реакцией читателя, предвидит ее, обеспечивая тем самым литературную коммуникативную ситуацию, гарантирующую произведение от «коммуникативного провала».
Понятия нормы, канона и эталона. Как известно, языковая норма - явление динамическое и диалектически противоречивое, несмотря на то, что представляет собой «совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации» [Семенюк 1990: 337. Курсив наш. -Н.Б.].
«Нормы литературного языка, фиксируемые в толковых словарях и грамматиках, орфографических и орфоэпических словарях и подобных пособиях, - всего лишь "нулевая точка" эстетического отсчета для качественно иных норм языка художественной литературы» [Григорьев 1987: 524], которые суть «творческие нормы отношения к языку» [Там же: 526]. При этом следует учитывать, что «общая лингвопоэтическая норма - величина искомая, а не данная. <...> ОЛПН может представлять собою как формальное отклонение от нормы литературного языка (НЛЯ), так и совпадение с ней; индивидуальная же лингвопоэтическая норма (ИЛПН) может представлять собой как результат следования общей норме, так и ее
нарушения» [Гин 1991: 106-108]. Иными словами, современная филология признает противопоставление в сфере литературного творчества общей нормы - N (в двух ее разновидностях: идеальной - N-ideal и усредненной беллетристической -N-mediat) и другой нормы (N-contr.). Причем N-contr. может родиться только в споре с N, на ее фоне и согласно «санкции» системы языка. Норма индивидуальная (N-ind.) может полностью соответствовать N-medial (и тогда вопрос об авторской индивидуальности становится неуместным), стремиться к реализации N-ideal или к формированию N-contr. Наконец, N-ind. способна представлять отвечающий авторской сверхзадаче творческий синтез стремящегося к идеалу нормативного (общего) и в той или иной степени аномального (личного, окказионального).
Методологически важное замечание о сложной природе N-ind. высказывает Д.М. Поцепня: «Поскольку в иерархически организованной системе норм, извлекаемых из художественного текста, уровень каждой нормы рассматривается как отклонение от уровня норм предшествующих и более обобщенных... то при характеристике индивидуальной нормы не удается преодолеть механистического расчленения своего и чужого, нового и традиционного и индивидуальная норма предстает как своего рода остаток, получающийся в результате последовательного вычленения литературной, художественной нормы, стилевой нормы литературного направления» [Поцепня 1997: 77].
Общепринято, что «...понятие художественности подразумевает становление произведения в согласии с идеальными нормами и требованиями искусства как такового» [Роднянская 1987: 489]. Не отрицая справедливости этого тезиса, еще раз подчеркнем динамичность как «идеальных форм», так и «требований искусства как такового»: «Всякая попытка сформулировать критерий "правильности" в виде
«Беллетристические нормы - готовые, сложившиеся и обезличившиеся нормы языка художественной литературы, расхожий набор никому не принадлежащих и особенно популярных средств выражения, тяготеющих к штампам, который в силу своей простоты и доступности обладает несомненными и сомнительными одновременно достоинствами базисного элементарного стиля языка художественной литературы» [Григорьев 1987: 526].
2 «Модус художественности - это всеобъемлющая характеристика художественного целого, это тот или иной род целостности, стратегия оцелънения, предполагающая не только соответствующий тип героя и ситуации, авторской позиции и читательской рецептивности, но и внутренне единую систему ценностей (или декларируемое принципиальное отсутствие таковых. - Н.Б.) и соответствующую ей поэтику» [Тюпа 2001: 154].
понятных, стабильно действующих правил и признаков наталкивается на проблему ускользающей переменности условий, в которых такой критерий приходится применять. В конечном счете оказывается, что нет такого на первый взгляд заведомо "неправильного выражения", которое не стало бы естественным и приемлемым при определенных условиях» [Гаспаров Б. 1996: 352]. «Определенные условия», легитимирующие неправильные выражения, - это условия творчества.
Приведем показательные своей разновременностью и созвучностью мнения о соотношении понятий норма и окказиональное — ненорма = другая норма. II.С. Трубецкой замечал, что «...терпение языка все-таки не безгранично, и не всякое насилие язык сможет вытерпеть. <...> Число возможных или допустимых для данного языка "насилий" всегда ограничено и определяется характером языка» [цит. по: Жирмунский 1977: 363]. По мнению Г.О. Винокура, «то, что живет в языке подспудной жизнью, чего пет в текущей жизни, но дано как намек в системе языка, прорывается наружу в... явлениях языкового новаторства, превращающего потенциальное в актуальное» [Винокур 1943: 4]. Б.Ю. Норман считает, что «...в основной своей массе речевые отклонения закономерны и моделируемы» [Норман 1994: 214]. Т.А. Гридина определяет речетворчество «не только как проявление индивидуальности языковой личности, но и как процесс обнаружения, потенциала языка, не реализованного в узусе и норме» [Гридина 1996: 3]. Л.В. Зубова резонно замечает, что «реализованное потенциальное явление перестает быть потенциальным» [Зубова 1999: 52]. СВ. Ильясова утверждает: сегодня «окказиональность перестает пониматься как ненормативное явление, что соответствует общим изменениям в отношении к норме: соотношение "норма — ненорма" заменяется соотношением "норма- другая норма"» [Ильясова2004: 276].
Таким образом, в филологии вызрело убеждение в том, что «аномалия = ненорма = другая норма» рождена и вскормлена системой языка, проявляет лексико-семантические, словообразовательные и грамматические до поры скрытые возможности этой системы, развивает ее, проходя через стадии острого противостояния общей норме и постепенного ослабления этого противостояния. Причем если привыкание к одним аномалиям может привести к их преображению в новейшую, молодую норму, то интенсивная эксплуатация других аномалий способствует ускоренному изнурению и иссяканию выражающего их приема. По
словам Б. Гройса, «ненормативное всегда может быть понято как просто плохое и
по праву находящееся в профанной среде. Оно может быть также понято как
оригинальное, новое, альтернативное - и, соответственно, валоризовано в иннова-
тивном обмене» [Гройс 1993: 225]. і
Современная русская художественная проза породила новую эстетическую (P.O. Якобсон, Я. Мукаржовский, В.В. Виноградов) или поэтическую (В.П. Григорьев) норму посредством активного разрушения предшествующего эстетического канона — канона социалистического реализма. Но ситуация осложняется тем, что выражение «норма постмодернизма» может быть воспринято как оксюморон: понятия девиации и нормы не актуальны для эстетики постмодернизма, поскольку представляют собой отвергаемую, размываемую постмодернизмом оппозицию. Вследствие этого в постмодернистском тексте рождается конфликт содержания и формы: содержательно авторы, отражая в тексте свое постмодернистское мировйдение, демонстрируют попытку «погашения» эстетических и этических оппозиций; форлшлыю они обостряют оппозицию «общая норма / другая норма», возводя антинормативность в «принцип, обнимающий все сферы -от морали до языка» [Маньковская 2000: 296]. Но «неделимость сути и формы -вот поэт» (М. Цветаева). В противоборстве и взаимодействии «общей нормы» / «другой нормы» (иначе говоря, «ненормы») рождается новая форма в ее единении с новым содержанием: «Уникальность художественного текста создается, в частности, за счет исключительной специфичности плана содержания, который так тесно "подогнан" под план выражения, что они как бы прорастают друг в друга» [Лукин 1999: 192].
По нашему убеждению, в приложении к постмодернистской художественности норма (и этическая, и лингвистическая) — неустранимая данность, натуральная почва (и моральная, и языковая) культурного поля, на котором разворачивается постмодернистский эксперимент по деконструкции текста.
Говоря о нормах языка художественной литературы, следует обратиться к проблеме канона («нормы, в соответствии с которой осуществляется деятельность» [Красных 2002: 311]) и эталона («меры, мерила, в соответствии с которыми оцениваются те или иные феномены» [Там же]). Прибегнув к метафоре, канон можно уподобить архитектурно совершенному зданию, фундамент которого
подрывают, размывают экспериментальные речевые практики (в том числе такие радикальные, как, например, «рассловесование» - лексическая деструкция и аграмматикализация), но все «диверсии» оказываются чреваты не разрушением здания, а обнаружением в нем новых, ранее скрытых покоев. Современный литературный «роман с языком» подбирает ключи к этим тайным залам. Нахождение и лингвопоэтическос описание как «ключей», так и «залов», и является задачей настоящего монографического исследования.
Если канон, допуская творческие трансформации, дает ориентированному на него художнику известную свободу, то эталон не подлежит каким-либо иннова-тивпым метаморфозам, он независим от смены литературных парадигм. Эталон как «уникальный единичный феномен» [Там же] нельзя повторить, по его можно стилизовать, что и пытаются делать в соответствии со своими интенциями современные авторы1.
Понятие окказионального, поэтика сдвига. Создаваемое ad hoc, «окказиональное (звукосочетание, слово, значение слова, словосочетание, грамматическая форма, синтаксическое образование) - не узуальное, не соответствующее общепринятому употреблению, характеризующееся индивидуальным вкусом, обусловленное специфическим контекстом употребления» [Сл. Ахмановой: 284]. К.А. Рогова справедливо относит окказиональное к лингвокультурным феноменам: «...в липгвокультурном пространстве есть а) закрепленное в языке и сознании носителей; б) функциональное; в) окказиональное. И рассмотрение этого соотношения очень важно. <...> Это представление соотносится с триадой Гудкова -Красных: когнитивный базис, коллективное когнитивное пространство, индивидуальное когнитивное пространство» [Рогова 2006: 12].
Согласно аргументированной оценке О.Г. Ревзиной, окказионализмы — «"это больше король, чем сам король", то есть окказионализмы демонстрируют качества образцового слова и как бы подчеркивают их: выступают в той позиции, которая исходна для данной части речи, "оберегают" свою автономность в том плане, что не стремятся к распространению (неразвитая атрибутика, минимальное количество актантов при глаголах), предпочитают простые структурные схемы и
1 В дальнейшем мы обратимся к функционально-семантическому анализу примеров подражания эталону, его стилизации в произведениях современной литературы.
избегают сложных синтаксических конструкций, где они могли бы "потеряться". Окказионализмы никогда не бывают симулякрами, они не бывают копиями, они могут быть только оригиналами» [Ревзина 1996: 306-307].
Анализ окказионализмов является по преимуществу семантическим и проводится в основном посредством семного и контекстологического методов с привлечением таких видов анализа, как анализ словарных дефиниций, словообразовательный и функционально-грамматический анализ. Структурно-семантическое описание окказионализмов, представляющих собой эстетически ориентированные знаки, «работает» на исследование лингвоггоэтики художественного произведения, поскольку эстетически ценные окказионализмы отличаются исключительными образопорождающими возможностями'.
Окказионализм может выступать в качестве текстообразующей единицы и в то же время сам возникает именно в контексте, формируется им . Поэтому истолкование окказионального образования любого типа возможно только в его контекстной позиции (то есть в таком месте слова в контекстном окружении, которое наиболее отчетливо репрезентирует семный состав его лексического значения). Условимся различать следующие типы контекста, которые выделяются с учетом того, что художественный текст является одновременно и целостным, и дискретным, что делает возможным в интересах анализа вычленение каких-либо его «дробей»: нулевой контекст — это такой контекст, в котором окказионализм проявляет, эксплицирует свою семантику полностью через внутреннюю форму, контекст как бы избыточен при семантической интерпретации новообразования (такой «самодостаточностью» характеризуются так называемые потенциальные слова, созданные по высокопродуктивным словообразовательным моделям); контекст ближайшего окружения, или микроконтекст, - это контекст словосочетания, предложения или абзаца, достаточный для выявления семантики новообразования; контекст произведения, или макроконтекст, привлекается для анализа новообразования, семантика которого эксплицируется только в пределах всего художественного текста; контекст творчества учитывается при исследова-
1 Подробнее о методике структурно-семантического анализа окказионализмов различных типов
см.: [БабенкоН.1997.].
2 О роли контекста в формировании и экспликации семантики слова читаем у А.А.Потебни:
«...вообще всякое значение узнается только по контексту» [Потебня 1905: 267].
ний эволюции в словотворчестве автора; историко-культурный, или вертикальный, контекст выводит анализ индивидуально-авторских образований на фоновую, затекстовую информацию; левый контекст - часть текста, предшествующая читаемой в данный момент или анализируемой единице; правый контекст — та часть текста, которая следует за читаемой или анализируемой единицей.
Проблематика окказионального связана с поэтикой сдвига как инструмента остранненая . В свое время А. Крученых употреблял термин сдвиг достаточно широко: как звуковой сдвиг («слияние двух звуков... или двух слов как звуковых единиц в одно звуковое пятно» [Крученых 1992b: 37]) и как синтаксический сдвиг («синтаксическая фактура: пропуск частей предложения, своеобразное расположение их, несогласованность — сдвиг "белый лошадь хвост бежали вчера телеграммой"» [Крученых 1992а: 13]. И. Зданевич писал: «Сдвиг - это деформация, разрушение речи, вольное или невольное. <...> Сдвиг может быть этимологическим, синтаксическим, морфологическим, орфографическим и т.д. Если фраза становится фразой с двойным смыслом — это сдвиг. Если слова смешиваются при чтении (речевой магнетизм) или если часть слова открывается, чтобы присоединиться к другому слову, это тоже сдвиг...» [цит. по Жаккар 1995: 271].
Условимся употреблять термин сдвиг в качестве обобщенного наименования тех многообразных деформаций, смещений в словесном художественном изображении, которые приводят к деавтоматизации чтения, эффекту обманутого ожидания, изменению горизонта читательского восприятия. При таком понимании сдвига возникновение порождаемых им «сдвиго-образов» (А. Крученых) является результатом ирансформации тех или иных аспектов, параметров художественного текста: от целого (на всех его уровнях) до мельчайшей его дроби.
О рецептивных последствиях сдвига В. Шкловский писал: «Всякое изменение выражения, образа, словесного сочетания — поражает, точно чувственное впечатление. При этом открывается возможность двойных и обратных дифферен-
И.В. Гюббенет дает следующее определение вертикального контексіа литературного направления: «В нашем представлении глобальный вертикальный контекст данного литературного направления — это весь социальный уклад, все понятия, представления, воззрения социального слоя, знание коюрых необходимо для того, чтобы произведения данного автора или произведения, относящиеся к данному направлению, могли быть восприняты читателями разных стран и эпох» [Гюббенет 1991:39].
2 Здесь и далее мы придерживаемся орфографически нормативного написания термина остранне-ниг, правильность которого признавал и В. Шкловский.
ций. Определенная степень отличия от обыкновенного может, в свою очередь, сделаться исходным пунктом и мерою для отклонений. Так что здесь всякое возвращение к обычному испытывается как отличие...» [Шкловский 1983с: 33]. Итак, имея целью художественное описание современной прозы, будем помнить о том, что «каждое уродство, каждая ошибка, каждая неправильность нормативной поэтики есть - в потенции - новый конструктивный принцип» [Тынянов 1929: 18].
По мнению Л.А. Новикова, остраннение в широком понимании можно толковать как «инвариант языковой образности, самый общий прием словесного искусства, по отношению к которому все другие приемы, включая традиционные тропы и фигуры, выступают как частные» [Новиков Л. 2001: 70]. Развивая высказанное положение, М.Л. Новикова толкует словесный образ как единицу остраннения и (вслед за В.В. Виноградовым) считает его реализуемым в пределах «слова, сочетания слов, абзаца, главы литературного произведения и даже целого литературного произведения» [Новикова 2005: 76-77].
Приведенные блоки научной информации репрезентируют теоретическую основу лингвопоэтического описания литературных источников, но, конечно, не исчерпывают научной проблематики, актуализирующейся при анализе того или иного конкретного языкового средства, поэтому в главы диссертации по мере надобности вводятся теоретические сведения частного характера.
Комплексная методика настоящего исследования сопрягает следующие методы и виды анализа текста и составляющих его разноуровневых единиц: контекстологический и семный виды анализа лексического материала; текстуально-аналитический метод тщательного прочтения (иначе говоря - медленного чтения произведения1) художественного произведения, естественно сопрягающийся с имманентным анализом; раздельно-сопоставительный метод, в реализации которого сопоставительный этап описания следует за раздельным; герменевтиче-
О необходимости и продуктивности медленного, тщательного чтения писали Л.В. Щерба и A.M. Пешковский: «Я уже неоднократно высказывался устно и печатно о том, что нашей культуре издавна не хватает умения внимательно читать и что нам надо научиться этому искусству у французов <...> И я буду счастлив, если мои опыты пересаживания французского explication du texte... найдут подражателей...» [Щерба 1957: 97]; «...во главу угла при занятиях стилем я ставлю углубленный стилистический анализ текста, то, что французы называют explication du texte [Пешковский 1930: 58].
ский метод, позволяющий в доступной степени объективировать толкование произведений.
Избранный подход предполагает выявление в художественном тексте активного контекста как набора фонетических, лексических, морфологических и синтаксических текстовых интерпретантов. К интерпретантам безусловно относятся в значительной степени пересекающиеся средства текстообразования: ключевые слова и словесные выражения ; единицы разных уровней текста, подвергнутые актуализации (выдвижению); компоненты лексической структуры текста, функционирующие в сильных текстовых и претекстовых позициях; лексические грамматические и синтаксические доминанты2 как организующие и управляющие компоненты (Б.М. Эйхенбаум, P.O. Якобсон) текста, которые в большинстве случаев соотносятся с его нарративными и жанровыми характеристиками.
Лингвопоэтика объясняет КАК, посредством каких языковых средств и приемов эксплицируются смыслы в художественном тексте. КАК с неизбежностью выдвигает ЧТО. В переходе от КАК к ЧТО непременно должны быть учтены затекстовые (фоновые) интерпретанты и данные вертикального контекста, актуализированные контекстом произведения. Объем привлекаемой затекстовой информации определяется как интенцией текста, так и интенцией интерпретатора. По мнению А. Битова, единственный путь к пониманию и описанию феномена «преобразившегося в прозе расхожего слова» (486) — поиск ответов на вопросы КТО? и ЗАЧЕМ?
Суммируя все сказанное, выразим надежду, что, добросовестно анализируя КАК, выясняя ЧТО, учитывая КТО и пытаясь понять ЗАЧЕМ, можно в значительной степени, но без «непростительного оптимизма» (Н.Н. Зубков) и
Анализируя историю осмысления оппозиции «эстетически значимое» — «упаковочное» и ее проявление в поэтике художественных текстов, Д.М. Поцепня приходит к доказательному выводу: «..."упаковочный материал" выступает необходимым компонентом в структуре целого, оттеняя речевую экспрессию его отдельных частей и выполняя композиционную функцию» [Поцепня 1997: 17].
В трактовке доминанты мы ориентируемся на характеристику этого понятия Б.М. Эйхенбаумом и P.O. Якобсоном: «В зависимости от общего характера стиля тот или другой элемент имеет значение организующей доминанты, господствуя над остальными и подчиняя их себе» [Эйхенбаум 1969: 332]; доминанта «управляет, определяет и трансформирует остальные компоненты. Доминанта обеспечивает интегрированность структуры» [Якобсон 1976: 56]. 3 Битов А. Битва// Битов А. Империя в четырех измерениях. Харьков: Фолио; М.: ТКО ACT, 1996. Т. 2.
«неосмотрительного азарта» (Б.А. Ларин) объективировать наше представление о лингвопоэтическом и (в конечном счете) концептуально-смысловом спектре русской литературы эпохи постмодерна.
Апробация результатов исследования. Основные положения работы были изложены в докладах, прочитанных на ежегодных международных научных конференциях в Российском государственном университете им. И.Канта (Калининград), в Санкт-Петербургском государственном университете, в Московском государственном университете, в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН, в Институте языкознания им. В.В. Виноградова РАН, в Латвийском университете, в Варминско-Мазурском университете (Польша), в Поморской педагогической академии (Польша). По теме диссертации опубликовано 49 научных работ, в том числе - учебное пособие «Окказиональное в художественной речи» (1997) и монография «Лингвопоэтика русской литературы эпохи постмодерна» (2007).
Источники материала. В диссертации в лингвопоэтическом аспекте рассматриваются произведения В. Аксенова, Б. Акунина, А. Битова, С. Болмат, А. Боссарт, Ю. Буйды, Д. Быкова, А. Волоса, С. Гандлевского, Е. Гришковца, С. Есина, О. Зайончковского, А. Иванова, А. Кабакова, А. Кима, Н. Кононова, Ю. Кокошко, П. Крусанова, А. Лёвкина, Д. Липскерова, В. Маканина, В. Нарбиковой, Вл. Новикова, В. Пелевина, Л. Петрушевской, В. Попова, Е. Попова, В. Пьецуха, Д. Рубиной, Н. Садур, А. Слаповского, С. Соколова, В. Сорокина, И. Стогова, Т. Толстой, В. Тучкова, Л. Улицкой, М. Шишкина.
Структура диссертации отвечает цели и задачам исследования. Работа включает Введение, девять глав, Заключение, Библиографию (465 наименований) и Список использованных источников (131 наименование).
Деструкция повествования как инструмент деконструкции. Рецептивные последствия деструкции
Деструкция повествования деавтоматизирует чтение, трансформирует его традиционную технику, поскольку повествовательная аномалия (как и тематическая, сюжетно-композициониая, фонетическая, лексическая, грамматическая, стилистическая) затормаживает восприятие текста. Эффект затрудненного восприятия выразительно демонстрирует литература любой новой парадигмы в сравнении с предыдущей, классической, нормативной. В то же время всякий художественный текст нуждается в прочтении, даже если автор отрицает свою заинтересованность в читателе, как это делает Сорокин: «Я не пишу для читателя, я его никогда не учитываю. Я пишу для себя, для своего удовольствия» [Сорокин 1998b: 120]. Правда, им же сказано: «Любой текст тоталитарен, ибо он претендует на то, чтобы его прочли» [Там же: 115].
Автор волен обманывать эстетические ожидания читателя, подрывать его уверенность в собственной языковой, литературной и житейской компетенции, провоцировать его раздражение зонами смысловой неопределенности в тексте, вызывать возмущение этически запрещенными приемами повествования, но не может не дать читателю ключ к пониманию произведения, не может не обозначить теми или иными лингвопоэтическими «вехами» путь к декодированию художественного текста.
Например, роман Садур «Немец» своей нарративной организацией полностью отвечает своеобразному «автоэпиграфу» {...неостановимо, без передышки. ..(187)) - фрагменту конечной фразы этого произведения Садур {Но и сам -неостановимо, без передышки (270)). Именно так — потоком — движется романное повествование, внутреннюю дискретность которого обеспечивают несколько текстовых «течений»:
— нескончаемый лирический монолог героини-повествователя:
Тоскую обо всех подряд.
Всё напоено жизнью. Всё-всё. Мир пронзен жизнью насквозь. Бестрепетный, он вынужден содрогаться - жизнь в нем. Бесплотный и ускользающий, он скован и пойман смертной, милой, легкомысленной плотью жизни.
Как легонькая рюмочка поймана вином. Как пробирка поймана кровью (187) ;
- «анонимное» изложение вживленной в сюжет романа вариации сказки о Финисте — Ясном соколе: Вот сестры решились. Наломали стекол, наточили ноэ/сей, набрали иголок. Приставили лестницу к ее окну, залезли и навтикали всего этого острого, злого на подоконник у влюбленной сестры так, чтобы, прилетев, он себе грудь изранил (200);
— спорадическое, но концептуально важное упоминание монашка-странника":
Неотвратимо по черной земле идет монашек. Прохлада ясного креста у него на груди. Сам придумывает богохвалебные слова, сам распевает их в пустом, ясном воздухе. Ранняя весна в России. Жирная земля по утрам в тонкой корочке льда. Зябнут босые ноги, протаивая утренний ледок (205).
Проиллюстрированные приведенными примерами пласты повествования характеризуются модальной, временной и пространственной разнородностью, они перемежаются в причудливом ритме, неизбежно дробя читательское восприятие, но по прочтении всего романа становится очевидно: текстовая реализация деструктивного повествовательного принципа не только выражает трагическую разорванность ткани бытия, но и обеспечивает эффект текущей интерференции повествовательных течений текста. Перемежение нарративных пластов и их финальное слияние способствуют формированию центральной идеи романа Садур «Немец» -идеи непобедимой, вечной любви к Богу, человеку, родине и неустранимой драматичности / травматичное этой любви:
На терпеливых, узких окраинах России, опоясав всю ее, замкнув в неразрывное кольцо, всегда стоит ранняя весна. Там только что стаял последний снег и черная земля еще не очнулась. По ней, неостановимый, всегда идет монашек. Рука-ноги сбиты в кровь. Зубы стерты до десен. Идет, терпеливый, всю Россию обходит неостановимо. Идет себе, дует на сизое перышко, забавляется, а оно, льстивое, льнет к губам, а он дует, чтоб летало у лица, кружилось у глаз, а оно, льстивое, просится, липнет, а он возьмет, опять подует, и оно, легкое, послушно взлетает, круоісится, не может на землю лечь никак! Он ему не дает никогда, никогда...
Но и сам - неостановимо, без передышки (270).
В этом финальном фрагменте действительно сходится всё1: страна вечного кануна / чаяния благих перемен (в неразрывном кольце «завершенности... и непрерывности»2 [Сл. Тресиддера: 157]), Бог (охранительная и спасительная для России истовая вера терпеливого монашка) и бессмертная любящая душа, то льнущая сизым перышком Финиста к человеку, то взмывающая ввысь .
В романе «Немец» повествовательная фрагментарность сочетается со «сквозной контрастностью» (Д. Лодж) перехода от череды малораспространенных, часто неполных простых предложений, парцеллированных конструкций к индивидуально-авторским блочным образованиям, оформленным (посредством пунктуационных девиаций) как некий монолит , а от крупных блочных фрагментов — опять к подчеркнуто дискретным и компактным синтаксическим единицам:
Потом букет засох, и я часто на него поглядывала. Я все понимала. Я хотела выбросить. Я даже думала об этом. Я думала об этом часто. Почти все время. Думала чрезмерно. Но как-то так отвлекалась все время. Как подумаю: надевать сапога, шубу, идти по грязному снегу на помойку, мимо лавочки, на которой тихие подростки с неподвижными глазами, как посмотришь, напорешься на взгляд, а у них еще детские лица, и мальчики из хороших семей, что они обо мне думают, еще не было Кирюши, он будет позже, они что, заранее знают? кто забил бродячую собаку? мальчики из хороших семей так не могут, это дворник — Рома-татарин, они один на один со своей проснувшейся кровью перемогаются, скорей всего ничего не думают, кто может предугадать лето, даже они не могут, просто не видят, их взгляд обратен — в навеки детство, в прощай... пойти на войну, не пойти. Там мороз. Лучше я полежу в оцепенении под пледом. А скоро фильм по телевизору. А печаль тем временем набирала силу. Примета сбывалась (191).
Преобразование разумного языка в заумный как лингвопоэтический прием
В русской классической прозе «лингвопоэтика сикамбра» (назовем так лин-гвопоэтику использования зауми в прозе в память о пристрастии горьковского героя к необычным словам), приемы и средства ее реализации представлены не так разнообразно и эксплуатируются не столь интенсивно, как в произведениях современных прозаиков, но «заумные» опыты русских прозаиков XIX века позволяют говорить о наличии русской традиции использования асемантичных элементов в лексической структуре прозаических текстов. Обратимся к двум эпизодам из рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья». В первом уставший от притязаний и упреков Ольги Ивановны и изобличенный ею в неверности художник рассматривает этюд любовницы-любительницы и не находит слов ни для объяснения пикантной ситуации, ни для оценки отданного ему на суд живописного опыта:
Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату. Ольга Ивановна покорно пошла за ним.
— Nature morte... первый сорт, — пробормотал он, подбирая рифму, — курорт... черт... порт... (25)
Если понятое буквально французское выражение nature morte ( мертвая природа ) и фразеологизм первый сорт ( о чем-либо превосходном, великолепном [MAC, IV: 281]), вступая в контекстуально обусловленные антонимичные отношения, становятся средствами неявной отрицательной оценки живописного этюда и намекают на умершую (= изжившую себя) любовную связь, то последующие слова {курорт... черт... порт...), обессмысливаясь, выполняют функцию не называния соответствующих реалий, а выражения смущения и замешательства персонажа. Слова художника повторяются во втором эпизоде - в полубреду Ольги Ивановны, угнетенной и утомленной страшной болезнью мужа, но с совершенно иной функциональной нагрузкой:
Nature morte, порт...— думала она, опять впадая в забытье, — спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, врек... крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави. Шрек, грек...(29)
В приведенном фрагменте nature morte звучит предвестьем смерти Дымова, все прочие слова обессмысливаются (включая антропоним Шрек), становятся «равнозначными» заумным образованиям врек, крек и изофункциональными: они выражают неконтролируемое, полусознательное состояние героини . Следует отметить, что в приведенном примере функционально нагруженными оказываются бессознательные ритмизация и рифмовка заумной речи, остранняющис прозаическую речь, приближающие ее к поэтической. Современные литераторы, восприняв традицию «поэтики сикамбра», обогащают ее новыми приемами и функциями.
Словесные деструкты, о роли которых в деконструкции художественного текста шла речь в предыдущей главе, часто выступают в прозе последних десятилетий в качестве первой ступени образования заумных конструктов. Например, в романе Соколова «Школа для дураков» душевное нездоровье главного персонажа не единожды выражается преобразованием канонического слова по образцу поприщинского мартобря - индивидуально-авторского новообразования, созданного в результате двух единовременных процессов: деструкции канонического существительного (имени месяца с финалью -бря) и конструирования лексического окказионализма (заумного наименования некоего месяца). Фантастическое мартобря выражает смещение хронометрической (сезонной) картины мира героя. Это композитное новообразование — плод единого акта разрушения / созидания, плод творчества, конструирующего новый, иной мир, в котором иначе организованы и время, и пространство. Такой «дуплетный» лингвопоэтический прием своеобразно срабатывает и в «Школе для дураков» Соколова: в больном сознании героя-повествователя из словесных руин сиюминутно созидается индивидуально-авторское уникальное по семантической емкости образование:
Я хотел узнать, как идут дела у вас на почве, то есть нет, на почте, на почтамте почтимте почтите почуле почти что... почему бы вам не утолить наши почули? (132 - 133)
Оттолкнувшись от созвучности словоформ почве / почте и разрушив узуальные слова, субъект речи реактивно порождает существительное почули, в котором синтезированы чувство, чувственность, почуять, чаять — все то, что эротически тревожит фантазию подростка. Не поправляй меня, я не ошибся (127) -эти слова героя справедливы в том смысле, что они узаконивают полноценность и плодотворность бесчисленных творческих ходов его мысли. К тому же заумные рефлексы персонажа-повествователя эстетизированы своей подчеркнутой благозвучностью. В следующем примере из романа «Школа для дураков» словесная деструкция также является ступенью, предшествующей заумному конструированию:
Мне казалось, что если я когда-нибудь сорву ее (водяную лилию. — Н.Б.), то случится что-то неприятное — со мной или с тобой, или с другими людьми, или с нашей рекой, например, разве она не может иссякнуть? Ты произнес сейчас странное слово, что ты сказал, что это за слово — сяку? Нет, тебе показалось, послышалось, было не такое слово, похожее на это, но не такое, я уже не могу вспомнить... А о чем я вообще говорил? (35)
Функции иноязычных вкраплений в произведениях классической и современной русской прозы
Лингвопоэтика иноязычных вкраплений была разработана классиками русской литературы XIX века, для которых передача двуязычия современного им культурного сообщества (то есть «билингвизма по образованию» [Алиев, Каже 2005: 17]) была настоятельной художественной необходимостью . Проиллюстрируем функциональный диапазон французских вкраплений на нескольких примерах из романа И.С. Тургенева «Дым». В двух нижеследующих примерах употребление французских слов и выражений обусловлено ситуацией светского приема и востребованностью соответствующих эмотивных, аксиологических средств и речевых формул в этикетном общении. Назовем эту функцию этикетно-комплиментарной:
(1) ...одна (дама) даже застонала слегка, и неотразимое, неизбежное слово: «Charmant! Charmant!» промчалось по всем устам (337).
(2) Хозяйка дома говорит чуть слышно; она всегда говорит так, как будто в комнате находится трудный, почти умирающий больной; другие дамы, в подражание ей, едва шепчут; а сестра ее, разливающая чай, уже совсем беззвуч но шевелит губами, так что сидящий перед ней молодой человек, случайно попав ший в храм приличия, даже недоумевает, чего она от него хочет? А она в шестой раз шелестит ему: «Voulez-vous ипе tasse du the?» (418).
Второй пример содержит описание этикетной ситуации угощения гостя чаем: сестра хозяйки великосветского салона не может не следовать принятым нормам речевого поведения, но ее утрированно тихая речь придает эпизоду комическую окраску. Третий пример содержит сверхсловное вкрапление — номинацию специфического цветообозначения, отсутствующего в русском языке, и тем самым иллюстрирует функцию введения в «русский мир» новой реалии: (3) Но тут подлетел к ней известный дамский угодник мсьё Вердие и начал приходить в восторг от цвета feuille morte ее платья... (374)
В четвертом и пятом примерах вкрапления дублируют свои русские эквиваленты, очевидно, не вполне «прижившиеся» в языковом сознании субъекта речи - героини (4) или повествователя (5):
(4) — Если я решусь, если я убегу, так убегу с человеком, который это сделает для меня, собственно для меня, а не для того, чтобы не уронить себя во мнении флегматичной барышни, у которой в жилах вместо крови вода с молоком, du lait coupe (376).
(5) Предоставив разночинцам, aux bourgeois , обычные во время игры присказки и прибаутки, господа генералы произносили лишь самые необходимые слова. ..(333)
Наконец, иноязычные вкрапления часто выполняют характерологическую функцию. Так, следующий пример побуждает счесть вкраплениями русские слова авторской речи, а не французскую речь персонажей. Функциональная нагрузка французского субтекста в тексте эпизода очевидна: разговор по-французски характеризует взаимоотношения героев — выказывает разобщенность супругов, нарочитость их взаимного психологического дистанцирования:
(6) Оставшись наедине с мужем, Ирина хотела было уйти к себе в спальню... Он остановил ее.
- Je vous ai beaucoup admiree се soir, madame, — промолвил он, закуривая папи роску и опираясь о камин, — vous vous etesparfaitement moquee de nous tous .
— Pasplus cette fois-ci que les autres , —равнодушно отвечала она (339).
Полностью в рамках традиции поэтики вкраплений находится Б. Акунин. Характеризуя его стилизаторскую манеру, Л. Данилкин замечает, что Акунин «не выращивает деревья, не создает новые тексты, а создает композиции из старых. Он не садовник, он Декоратор» [Данилкин 2001: 317]. Критик прав: Акунин - стили затор, умело имитирующий эталон. Сказанное распространяется и на поэтику иноязычных вкраплений. В нижеприведенных примерах из произведений Акунина иноязычные слова выполняют те или иные традиционные функции: передачи этикетно-светской комплиментарное (1), введения новой реалии (2), характеристики отношения субъекта речи к кому- и чему-либо (3):
(1) Когда Литвинова отлучилась... В.А. в полном восторге прошептал Фан-дорину: "Elle est ravissante, votre elue" (162) .
(2) Это, собственно, была не записная книжка, а английский schedule-book, календарный дневник, в котором каждому дню года отводилась особая страница. Удобная штука - Эраст Петрович такие уже видел3 (148).
(3) — Есть ведь еще тайные агенты, которых в нашем ведомстве называют «сотрудниками». То есть те члены революционных круэюков, которые идут на сотрудничество с полицией.
— Agents provocateurs? - поморщился статский советник (27).