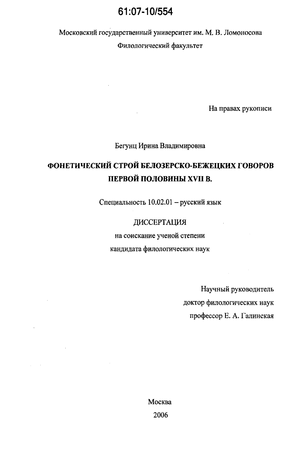Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Очерк истории края 17
1.1. Вопрос о финно-угорском субстрате 18
1.2. История заселения края славянами 24
1.3. Общее состояние и территориально-адмиїшстративное деление края в первой половине XVII в 32
3.1. История и территориально-административное деление края в XVIII-XIXBB...: 42
Глава 2. Ударный вокализм 46
2.1. Судьба фонемы <ё> 47
2.2. Отражение перехода [е] в [о] 58
2.3. Вопрос об изменении ['а] в [е] 63
Глава 3. Вокализм безударных слогов 71
3.1. Позиция после твердых согласных и в абсолютном начале слова ...72
3.1.1. Первый предударный слог 72
3.1.2. Второй и другие предударные слоги 78
ЗЛ.З. Заударные слоги 81
3.2. Позиция после мягких и шипящих согласных 84
3.2.1. Первый предударный слог 85
3.2.2. Второй и другие предударные слоги 101
3.2.3. Заударные слоги 104
Глава 4. Консонантизм 113
4,1. Губные спиранты 113
4.1.1. Фонема <в> и ее позиционные варианты ИЗ
4.1.2. Фонема <ф> 125
4.1.3. Эпентетическое и протетическое в; предлогов 130
4.2. Заднеязычные согласные 135
4.2.1. Качество заднеязычного звонкого согласного 135
4.2.2. Вопрос о прогрессивном смягчении задненебных 143
4.2.3. Вопрос о переходном смягчении задненебных 146
4.2.4. Вопрос о сочетаниях [кы], [гы], [хы] 148
4.3. Качество <ж> и <ш> 152
4.4. Долгие шипящие согласные 159
4.4.1. Качество долгого глухого шипящего 160
4.4.2. Качество долгого звонкого шипящего... 164
4.5. Употребление аффрикат 168
4.6. Позиционное оглушение и озвончение согласных 179
4.7. Диссимиляция и упрощение групп согласных 183
4.8. Твердые согласные в позиции сандхи перед <и> 200
4.9. Непозиционная глухость-звонкость согласных 204
4.10. Непозиционная твердость-мягкость согласных 214
4.11. Мена сонорных 230
Заключение 233
Литература 239
- Вопрос о финно-угорском субстрате
- Судьба фонемы <ё>
- Позиция после твердых согласных и в абсолютном начале слова
Введение к работе
Изучение говоров русского языка в диахроническом аспекте на материале данных письменных памятников имеет длительную историю в лингвистической науке. Практически все классические работы по истории русского языка в той или иной мере освещали вопрос о древнейших различиях русских диалектов (ср., напр., [Соболевский 1907: 34-38], [Шахматов 1915: 287-354], [Дурново 1924/2000: 164-207]). Общий характер этих исследований не предполагал детального рассмотрения конкретных говоров в их развитии: как правило, выявлялись наиболее характерные языковые особенности крупных областей, в которых находились центры книгописания Древней Руси. В качестве источников привлекались в основном древнерусские летописи и тексты религиозного содержания, составляющие основной корпус дошедших до нас рукописей. Производились исследования и более частного характера, посвященные реконструкции одного говора в его отдаленном прошлом на материале одного или нескольких локально атрибутированных памятников (ср. [Каринский 1909], [Князевская 1952], [Жуковская 1953]).
Основным источником сведений о диалектной фонетике и грамматике в этих работах служат описки, допущенные писцами под влиянием живой речи. Между тем, известно, что тексты церковно-книжного характера составлялись и переписывались в основном профессиональными писцами, и показательные для реконструкции живого произношения «ошибки» в них нечасты; кроме того, сведения о диалектной принадлежности писца могут просто отсутствовать [Хабургаев 1969: 106]. Именно поэтому внимание ученых-лингвистов давно привлекают памятники местной деловой письменности, в которых локальные языковые особенности отражаются в целом шире, чем в книжных текстах.
Объем сохранившихся местных деловых текстов ранне-древнерусского периода (XI-XIV вв.) весьма ограничен; тем не менее, исследование даже части этих рукописей позволило более подробно рассмотреть диалектные особенности древнерусского языка в их развитии и взаимовлиянии (ср. [Горшкова 1968]). Открытие и изучение во второй половине XX в. берестяных грамот из Великого Новгорода, Старой Руссы, Пскова, Торжка, Смоленска дало возможность достаточно полно реконструировать говоры Северо-Западной Руси в XI-XVbb. [Зализняк 2004]. К сожалению, сопоставимыми по объему и лингвистической информативности текстами того же периода из других областей Руси наука пока не располагает.
Напротив, фонд сохранившихся деловых текстов более позднего времени - XVI, а в особенности XVII-XVIII вв. - поистине огромен: архивы и книгохранилища содержат множество рукописей, созданных на местах в самых различных областях Европейской части России [Качалкин І 972: 104]. Эти рукописи в большинстве своем датированы и подписаны, что позволяет с точностью определить место и время создания текста, а также установить местное происхождение писца. Изучение русских диалектов в их истории именно на материале памятников местной деловой письменности XVI-XVII вв. получило особое развитие во второй половине XX в. Появился целый ряд исследований (преимущественно кандидатских диссертаций), посвященных воссозданию отдельных говоров в конкретный исторический период: рязанских [Новопокровская 1956], воронежских [Жарких 1953], шуйских [Ворошилова 1955], вологодских [Копосов 1971], ладого-тихвинских [Галинская 1985], московских [Васеко 1973] и др. Увидели свет и более монументальные работы, основанные на обширном материале и содержащие, помимо подробного анализа отраженных в рукописях диалектных явлений, обобщающие главы; это, в первую
очередь, монографии С. И. Коткова «Южновеликорусское наречие в XVII столетии (Фонетика и морфология)» [Котков 1963] и «Московская речь в начальный период становления русского национального языка» [Котков 1974]. К недавнему времени относится появление монографии Е. А. Галинской «Историческая фонетика русских диалектов в лингвогеографическом аспекте» [Галинская 2002], в которой рассматриваются говоры Запада и Северо-Запада Руси (смоленские, новгородские, псковские, великолукские и др.) на материале памятников местной письменности XVI-XVII вв. Исследованию памятников севернорусской письменности соответствующего периода посвящена монография Л. Ф. Колосова «Севернорусская деловая письменность XVII-XVIII вв. (орфография, фонетика, морфология)» [Колосов 2000].
Богатейший материал памятников делового письма позволяет успешно изучать диалектные особенности различных уровней языковой системы: явления исторического синтаксиса [Котков 1959], лексикологии [Чайкина 1975], [Котков 1970], в т. ч. вопросы образования и развития отдельных лексических подсистем, например, административно-юридической терминологии [Соколова 1961], В центре многих исследований стоит вопрос об отражении диалектных явлений фонетического порядка и о реконструкции звукового строя говора в определенный период. На настоящий момент в научный оборот введено значительное число работ, позволяющих восстановить звуковую систему говоров Европейской части России в позднедревнерусский период, однако огромное число текстов остается пока неизученным, а говоры соответствующих территорий - неописанными.
Целью настоящей диссертации является описание фонетического строя белозерско-бежецких говоров в первой половине XVII в. на материале памятников местной деловой письменности. Несмотря на наличие в архивах (прежде всего, в Российском государственном архиве
древних актов, далее РГАДА) существенного фонда рукописей, созданных на данной территории в XVII в., лингвистическому исследованию с целью реконструкции диалектной фонетической системы эти тексты до сих пор не подвергались1. Между тем, белозерско-бежецкие говоры занимают достаточно обширную территорию в центральной части севернорусского наречия, и без исследования их истории картина распространения диалектных фонетических явлений на территории Европейской части России в период формирования национального языка не может быть полной. Кроме того, существует еще одно обстоятельство, делающее изучение прошлого белозерско-бежецких говоров научно востребованным и перспективным.
Дело в том, что современные белозерско-бежецкие говоры представляют собой достаточно сложное и неоднородное в языковом отношении диалектное образование. Само понятие «белозерско-бежецкие говоры» возникло в диалектологии сравнительно недавно, в связи с созданием Диалектологического атласа русского языка (ДАРЯ). Согласно ДАРЯ, белозерско-бежецкие говоры, расположенные вокруг озера Белого и южнее его, до южной границы севернорусского наречия, вместе с лачскими и онежскими говорами относятся к межзональной группе севернорусского наречия, граничащей на востоке с вологодскими и костромскими говорами, на юге с владимирско-поволжскими, на западе с селигеро-торжковскими, новгородскими и ладого-тихвинскими [ДАРЯ I: карта VI]. Основанием для выделения межзональных говоров является их переходный характер, определяемый характерным взаимоналожением ареалов противоположных с территориальной точки зрения зон: западной, северо-западной и северо-восточной [Захарова, Орлова 1970: 116]. Практически любая карта Диалектологического атласа демонстрирует
Отдельные примеры из белозерских и бежецких текстов XVII в. можно обнаружить в монографии [Колосов 2000], однако данная работа носит обобщающий характер и не содержит подробного описания конкретных севернорусских говоров, в т. ч, белозерско-бежецких.
неоднородность белозерско-бежецких говоров и многообразие возможных реализаций фонем и сочетаний, показательных для характеристики звуковой системы диалекта. Таким образом, изучение фонетического строя белозерско-бежецких говоров в прошлом дало бы возможность проследить развитие или нивелировку локальных языковых явлений во времени, а также смещение изоглосс, т. е. исследовать языковой генезис данного диалекта в контексте взаимовлияния говоров западной и восточной частей севернорусского наречия.
Материалом для настоящего исследования стали рукописи первой половины XVII в., созданные на рассматриваемой территории. Известно, что не все памятники местной деловой письменности информативны в отношении локальных языковых особенностей: местными в собственном смысле слова и наиболее ценными для лингвиста являются тексты, составленные местными жителями - дьячками, подьячими, старостами, таможенными и кабацкими головами [Качалкин 1972: 107]. Прочие же тексты, написанные на местах, но не представителями местного населения, а присланными из Москвы людьми, содержат существенно меньше написаний, показательных для реконструкции говора в его прошлом. Такие рукописи представляют интерес для историков, а также для лингвистов, занимающихся исторической лексикологией, проблемами нормы или любыми явлениями общерусского (наддиалектного) характера, однако для изучения диалектных особенностей (фонетических и морфологических) они малопригодны, ср. замечание И. С. Филипповой о писцовых книгах: «Писцовые книги могут послужить источником для изучения фонетических процессов общерусского характера, а также определения произносительных норм приказного языка. Для локального исследования в области фонетики эта категория источников мало приемлема, т. к. записи делались приезжими московскими писцами» [Филиппова 1964: 178].
Следовательно, необходимо обратиться к той категории источников, для которой доказано местное происхождение писцов. Кроме того, поскольку в данном случае целью работы является воссоздание говора достаточно обширной территории, желательно привлечь материалы не из одного-двух центров книгописания, а из максимального числа разрозненных населенных пунктов. Обоим этим требованиям удовлетворяет жанр деловой письменности, успешно используемый в исследованиях по исторической диалектологии XV-XVII вв., - жанр отказных книг.
Отказные, или отдельные, книги - это юридические акты, закреплявшие недвижимое имение за владельцем [Холмогоров 1900: 69]. Особенное их распространение в первой половине XVII в. связано с необходимостью переписи населения после Смутного времени и развитием практики передачи поместий и вотчин служилым людям [Ващенко 1982:19]. Отказные книги писались непосредственно на местах дьячками, подьячими, пушкарями, крестьянами, т. е. местными жителями, «носителями локальной речевой культуры» [Котков 1969: 131], и считаются надежным источником фонетических реконструкций: «К числу памятников, которые в наибольшей степени пригодны для изучения как норм деловой письменности, так и особенностей народно-разговорного языка, относятся отказные книги. Все документы, содержащиеся в них, датированы и подписаны их составителями, которые в подавляющем большинстве своем были местными жителями. Тексты отказов содержат много написаний, отражающих фонетические и морфологические явления диалектного характера» [Копосов 2000: 47]. Действительно, несмотря на наличие в отказных книгах оборотов и формул приказного языка, особенности местной фонетики и морфологии представлены в них относительно свободно и широко; причина этому, во-первых, в недостатке орфографической выучки писавших - не писцов-профессионалов, а
грамотных людей из военно-служилого населения, торгово-ремесленного посада или местной администрации; во-вторых, следует учитывать влияние «полевых условий», в которых происходило составление отказа [Котков 1969:134].
Отказные книги первой половины XVII в. по Белозерскому и Бежецкому уездам составили основной объем исследованных нами текстов: это неопубликованные рукописи из собрания РГАДА, фонд 1209 (Поместный приказ), оп. 2, №№ 12761,12769,11463. Изученные рукописи содержат образцы текстов практически со всей территории современных белозерско-бежецких говоров (см. главу 1 «Очерк истории края»); их объем (2500 листов) представляется достаточным для описания фонетической системы говора в указанный период.
Одним из немногочисленных недостатков отказных книг считается их «более или менее однородный лексический состав» [Котков 1969: 134]: несмотря на уникальность каждого отказа, круг используемой в отказных книгах лексики ограничен и связан в основном с сельскохозяйственной терминологией, обозначениями предметов на местности и т. п. Поэтому нами был привлечен еще ряд неопубликованных источников из собрания РГАДА, а именно приходно-расходные и прочие хозяйственные книги из Кирилло-Белозерского монастыря, Бежецка и Устюжны (фонды 1441 «Кирилло-Белозерский монастырь» и 137 «Боярские и городовые книги»). Приходно-расходные книги также писались местными жителями [Хабургаев 1969: 107] и вполне пригодны для фонетических реконструкций; круг используемых в них слов существенно шире, чем в отказных книгах: «Разнообразие лексики приходно-расходных книг позволяет успешно изучать вопросы исторической фонетики и исторической морфологии, в том числе и в историко-диалектологическом аспекте» [Колосов 2000:48].
Полный список исследованных текстов, общий объем которых составил 3200 скорописных листов, приведен ниже. Здесь же приводятся принятые сокращения, используемые в дальнейшем при указании на адрес примеров из рукописей.
Отказные книги Белозерского уезда, 1614-1625 гг., 995 л. -ф. 1209, он. 2, № 12769 -далее OKI;
Отказные книги Белозерского уезда, 1630-1641 гг., 1213 л. -ф. 1209, оп. 2, № 12761 -далее ОК2;
Книги записи "сундушных" денег, выданных казначею на расход, 1601-1611 гг., 109 л.-ф. 1441, оп. 1,№221 -далее 221;
Книги прихода и расхода монастырской казны, 1605-1606 гг., 24 л. - ф. 1441, оп. 1, № 222 -далее 222;
Книги прихода и расхода монастырской казны, 1615-1616 гг., 64 л. - ф. 1441, оп. 1, № 224 -далее 224;
Книги прихода и расхода монастырской казны, 1621 г., 71 л. -ф. 1441, оп. 1,№ 228-далее 228;
Книги прихода и расхода монастырской казны, 1625г., 73 л. -ф. 1441, оп. 1, № 229 -далее 229;
Книги прихода и расхода монастырской казны, 1626 г., 68 л. -ф. 1441, оп. 1, № 230 - далее 230;
Книга сбора питейной прибыли Бежецкого кабака, 1646-1647 гг., 64 л. -ф. 137, оп. 1, Бежецк № 1 - далее Б1;
Книга сбора питейной прибыли Бежецкого кабака, 1648-1649 гг., 64 л.-ф. 137, оп. 1, Бежецк №2-далее Б2;
Книга сбора питейной прибыли Бежецкого кабака, 1645-1646 гг., 64 л. - ф. 137, оп. 1, Бежецк № 3 - далее БЗ;
Приходно-расходная книга «ядерного» дела, 1630 г., 50 л. -ф. 137, оп. 1, Устюжна Железопольская № 2 - далее У2;
Книга сбора питейной прибыли, 1654-1655 гг., 97 л. - ф. 137, оп. 1, Устюжна Железопольская № 3 - далее УЗ;
Книги кабацкие Устюжны Железопольской, 1627-1628 гг., 79 л. - ф. 137, оп. 2, № 3 - далее У2.3;
15) Отказные книги Бежецкого, Новоторжского и Ярославского
уездов, 1611-1628 гг., - ф. 1209, оп. 2, № 11463 - далее ОКЗ (исследованы
только отказы по Бежецкому уезду, объем 320 листов).
Общепринятая к настоящему моменту методика исследования древнего письменного памятника с фонетической точки зрения была сформулирована Р. И. Аванесовым в его исследовании о новгородских берестяных грамотах. Она представляет собой «путь от изучения... орфографии как системы - к отклонениям от нее при постоянном критическом сопоставлении всего этого графического в широком смысле, т. е. писанно-зрительного, материала с данными живого языка или живых родственных языков позднейшей (обычно современной) эпохи» [Аванесов 1955: 79]. Таким образом, обнаруженные в рукописях написания должны быть, во-первых, рассмотрены с точки зрения их нормативности для известного типа текстов. Суть этой операции состоит в сопоставлении найденных примеров с имеющимися данными о других деловых текстах того же периода, с обязательным привлечением методологического опыта интерпретации подобных орфограмм. Отметим, однако, что в условиях общей нестабильности орфографической нормы деловой письменности XVII в, установить нормативный характер написания нередко оказывается затруднительно. Тем не менее, если в результате сравнения становится очевидно, что написание орфографически ненормативно и мотивировано фонетически, появляется возможность воссоздания диалектной звуковой особенности. Вопрос о соотношении нормативных и ненормативных написаний, т. е. о характере нормы памятников местной письменности XVII в., не входит в задачи настоящего исследования. В дальнейшем при
интерпретации орфограмм мы будем исходить из предложенного Г. А. Хабургаевым положения, согласно которому «любое минимальное отражение новой черты (если соответствующее написание не может рассматриваться как описка) должно указывать на преобладание этой черты в речи современников писца» [Хабургаев 1973:194].
Следующим шагом при анализе данных письменного памятника является сопоставление написаний, предположительно отражающих локальные произносительные особенности, с материалами синхронной диалектологии [Хабургаев 1969: 126]. Этот необходимый этап историко-диалектологического исследования позволяет проследить развитие местных фонетических черт во времени (или же их нивелировку), В XX в. были составлены описания отдельных говоров, относящихся по современной номенклатуре к белозерско-бежецким; далее в работе они активно используются, поэтому заслуживают комментария. Наиболее полное исследование белозерского говора середины XX в. принадлежит М. Н. Бувальцевой [Бувальцева 1955]: на материале записей, сделанных в ходе диалектологических экспедиций в Белозерский район в 1950-х гг., автор детально анализирует фонетическую систему говора, выделяя черты, относящиеся к его «архаическому слою»; совокупность этих черт образует «исходную систему диалекта, какую можно восстановить к моменту начала интеграции» [Бувальцева 1955: 137]. Именно такая классификация материала представляет интерес для реконструкции фонетического строя говора в более ранние века. Менее масштабное описание белозерского говора содержится в статье [Горшкова 1958], также основанной на результатах диалектологической экспедиции.
В начале XX в. Б. и Ю. Соколовы представили в Московскую диалектологическую комиссию ряд отчетов о поездках в Белозерский,
Кирилловский и Весьегонский уезды1 в 1908-1909 гг. [Соколовы 1909], [Соколовы 1910в], [Соколовы 1910к]. Помимо этих подробных описаний говора, имеется также «Краткий очерк местного говора» в книге «Сказки и песни Белозерского края» [Соколовы 1915] и отчет «Живая старина в Белозерском крае» [Соколовы 1911]. Говор бывшего Череповецкого уезда подробно рассмотрен в работе [Еремин 1922]; более краткое, но не менее содержательное описание этого диалекта содержится в предисловии к «Словарю уездного Череповецкого говора» [Герасимов 1910].
Основной источник сведений об особенностях произношения в Бежецком и Устюженском уездах на рубеже веков - опубликованные в «Материалах для изучения великорусского наречия» ответы на составленный А. А. Шахматовым вопросник, содержащие немало примеров [Шахматов 1896]. Дополнительным источником служит лаконичное сообщение об устюженском говоре [Судаков 1903]. Сведения о наиболее ярких фонетических явлениях можно найти в фольклорных записях, сделанных исследователями и любителями народного творчества в ХІХ-ХХвв. и изданных без орфографической правки [Соколовы 1915], [Шереметев 1902], [Шевырев 1850].
Как видно, в ХІХ-ХХ вв. было опубликовано достаточно много описаний белозерско-бежецких говоров; это принципиально важно для настоящего исследования, поскольку делает возможным сравнение данных рукописей XVH в. с диалектологическими материалами позднейшего времени. Безусловно, огромную ценность имели бы и аудиозаписи, доступные непосредственному слуховому и инструментальному анализу. К сожалению, объем имеющихся в фонотеках экспедиционных аудиозаписей с образцами говора
Современные белозерско-бежецкие говоры находятся на территории бывших Белозерского, Кирилловского, Череповецкого, Устюженского, Весьегонского и Бежецкого уездов, см. далее, глава I.
В фонотеке Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН и фоноархиве филологического факультета МГУ им. M. В. Ломоносова.
исследуемой территории крайне мал: фактически представлена только южная часть белозерско-бежецких говоров (деревни Амосино и Плотники Максатихинского района Тверской области, экспедиция Я. П. Лохера, 2000 г., фонотека Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН; продолжительность звучания 2,5 часа). В 2006 г. автором настоящей диссертации была предпринята поездка в Череповецкий и Белозерский районы Вологодской области (основные нас. п.: Воскресенское (Ерга), Петрино, Аннино, Нестеровское, Ильина Гора, Гришутино, Кизбой, Мальцево, Бечевинка, Угол, Шола, Куность). Целью поездки был сбор диалектного материала; общий объем записей составил 16 часов. В связи с чрезвычайно плохой сохранностью говора (практически вся территория между Череповцом и Белозерском теперь является дачной зоной Череповца, и исконное население представлено здесь скудно) частота отражения диалектных фонетических явлений в записях оказалась невелика: описания говора начала и середины XX в. дают более полную картину архаического слоя белозерско-бежецких говоров. Тем не менее, далее в тексте диссертации примеры из записей 2006 г. приводятся в тех случаях, когда собранный материал достаточен для характеристики конкретного диалектного явления.
Итак, настоящее исследование представляет собой попытку реконструкции фонетического строя белозерско-бежецких говоров первой половины XVII в. в соответствии с указанной методикой. В работе рассмотрены особенности произношения гласных в положении под ударением (глава 2 «Ударный вокализм») и в безударном положении (глава 3 «Вокализм безударных слогов»), затем - диалектные явления в области согласных (глава 4 «Консонантизм»). Этим собственно лингвистическим главам предпослана глава 1 «Очерк истории края», носящая скорее реферативный характер, но необходимая для основной части исследования.
Наконец, отдельного комментария требует вопрос о принципах воспроизведения скорописного текста в работе. Примеры набраны курсивом, буквы оригинала сохраняются полностью, в т. ч. в экстраординарных написаниях, граничащих с описками; на это внимание читателя будет обращено особо. Текст разделен на слова; несмотря на условность подобного разбиения и полученное расхождение графического облика оригинала и цитаты, практика разделения на слова принята в большинстве изданий, поскольку «членение слитного текста на слова не противоречит требованию точности воспроизведения этого текста -точности, необходимой как для историков и литературоведов, так и для лингвистов» [Князевская 1963: 26]. Данная работа не предполагает палеографического анализа текста, поэтому для каждой буквы используется только один основной (строчной) вариант: выделение более частных классов графических единиц, т, е. графических вариантов [Бахтурина 1963], например, т с одной или тремя ножками, было бы избыточно и технически сложно. Выносные буквы набраны как верхние индексы (md1, крстьян); сокращения не раскрываются. Имена собственные (имена, фамилии, географические названия) приводятся с начальной прописной буквой (что далеко не всегда соответствует оригиналу, т. к. в скорописных текстах употребление прописных букв строгим правилам не подчиняется); такая практика принята в изданиях памятников деловой письменности XVII в. (ср. [Котков, Панкратова 1964: 17]). В большинстве исследованных почерков буквы ь и ь не противопоставлены; это типично для рукописей XVII в. и не раз отмечалось специалистами, хотя известны немногочисленные скорописные тексты с различением букв бывших редуцированных [Филиппова 1966]. В настоящей работе при цитировании для обозначения ъ=ъ употребляется знак Ъ.
Вопрос о финно-угорском субстрате
Старейший город рассматриваемой территории - Белоозеро -впервые упоминается в летописи под 6370 (862) г., когда по преданию Синеус, брат Рюрика, пришел в него княжить; через два года Синеус умер, и Рюрик отдал Белоозеро для правления «мужем своим» [ПСРЛ: I, 19-20]. Население Белоозера летописец называет весью («на Беле озере седять весь»); это наименование последний раз встречается в летописи под 6390 (882) г. в рассказе о походе Олега на Смоленск: весь упоминается в числе прочих племен, воевавших на стороне Олега [там же: 22-23]. Далее в летописи население Белоозера называется только «белозерцы» (в рассказах под 6579 (1071) г., 6604 (1096) г. и пр.) [Васильев 1998: 50-51].
Вопрос о том, что. за племя названо в летописи словом «весь», имеет долгую историю. Несмотря на то, что достоверность летописного сообщения и возможность его буквального истолкования никогда не ставились под сомнение, лишь во второй половине XX в. результаты археологических раскопок и работ по изучению топонимии утвердили исследователей во мнении, что значительная территория вокруг озера Белого, а также более южные и юго-западные районы, до прихода славян действительно были заселены угро-финским племенем весь, впоследствии ассимилированным славянами.
В настоящее время вепсы, потомки древней веси, живут значительно севернее озера Белого, в Карелии, в бассейне р. Ояти, между Волховом и Свирыо; раскопки показали, что угро-финские поселения в этом районе возникли на рубеже I-II т. л. н. э. Д. В. Бубрих [Бубрих 1948] на основании
1 Название Белоозеро обозначало в древности и прилегающие к городу земли, т. е, приблизительно то же, что Белозерщина, Белозерские волости, Белозерский край, Белозерский уезд в документах XV-XVI вв. [Голубева 1973: 3]. Название Белозерск - относительно позднее, употребляется с XVIII в. анализа языка карел высказал предположение, что в образовании карельского этноса участвовали две группы - собственно карельская и весская, т. к. язык, на котором говорят жители средней и северной Карелии, существенно отличается от языка приладожских и прионежских карел, предками которых Д. В. Бубрих считает древнее племя весь. Это племя имело значительную территорию расселения; в частности, одна из крупнейших колоний веси располагалась на берегах озера Белого. Метрополия же находилась в Приладожье, там, где в настоящее время живет народность, называемая вепсами. Таким образом, можно говорить о двух группах веси - белозерской и приладожской. Причины образования колонии в Белозерье автор видит в исключительно выгодном географическом положении края, имеющего торговый путь по Шексне и обильные запасы пушнины в лесах. Однако в летописи упоминается только белозерская весь и ничего не говорится о приладожской; Д. В. Бубрих объясняет это тем, что белозерская весь в глазах славян имела мало общего с приладожской весью: в Белозерье состав населения был неоднороден, рано начались контакты со славянами, и весь у Белоозера стала «скорее экономико-географическим, чем этническим явлением» [Бубрих 1948: 121]. Русские же усвоили их самоназвание и не применяли понятие «весь» к приладожской веси; последняя в летописях, по всей видимости, называется «заволоцкой чудью»; чудью называют современных вепсов и русские жители Карелии.
Археологические данные полностью подтверждают гипотезу Д. В. Бубриха. Раскопки показали, что по типу жилищ, погребений и их инвентаря белозерская и приладожская весь являются близкородственными группами одной народности [Тухтина 1966]. Кроме того, террритория расселения белозерской веси значительно больше, чем предполагалось ранее. Курганы весского типа обнаружены не только в непосредственной близости от озера Белого, но и на обширных областях к югу и юго-западу (карта 1). Зона распространения топонимов, этимологизирующихся из вепсского языка, и этнонимов етюсь» и «чудь» (карта 2) практически совпадает с ареалом расселения веси по археологическим данным. Вместе с тем, исследования последних дет доказали, что концентрация веескотх? населения в пределах ареала была неодинакова.
Судьба фонемы <ё>
В исследованиях по исторической диалектологии традиционно рассматриваются следующие аспекты произношения гласных в ударном положении: 1) вопрос о судьбе фонемы ё , т. е. о наличии в говоре особой гласной фонемы переднего ряда, верхне-среднего подъема, а также (в случае ее отсутствия) о совпадении рефлексов древнего ё с другими гласными звуками; 2) отражение перехода ударного [е] в [о]; 3) данные об изменении ударного [ а] в [е] (ср., напр., [Галинская 2002], [Колосов 2000]). В некоторых работах специально исследуется вопрос об отражении в текстах «о закрытого» и наличии в говоре особой фонемы 6 (ср. [Котков 1963], [Хабургаев 1966]). Каждый из этих аспектов требует отдельного рассмотрения.
При описании системы диалектного вокализма, как ударного, так и безударного, необходимо определить качество (твердость или мягкость) согласного, следующего за гласным в рассматриваемом положении, поскольку большинство фонетических процессов в области гласных происходит либо только перед мягкими согласными, либо только перед твердыми, либо, как в случае с рефлексацией е, результаты изменения могут быть принципиально разными в зависимости от твердости/мягкости последующего согласного звука. Кроме случаев, когда качество согласного очевидно, существует ряд позиций, для которых оно нуждается в доказательстве. В дальнейшем примеры перед ц и ч будут приводиться в пунктах «перед мягким согласным», т.к. архаическому слою белозерского говора было, по всей видимости, свойственно мягкое цоканье (см. главу 4, п. 4.5 «Употребление аффрикат»). Напротив, звуки [ш], [ж] и долгий глухой шипящий на большей части территории уже были твердыми (см. главу 4, п. 4.3 «Качество ж и ш » и 4.4 «Долгие шипящие согласные»), поэтому примеры перед этими звуками приводятся в пунктах «перед твердыми согласными».
К позиции перед мягким согласным относятся случаи перед сочетаниями зубных [ст ] и [зд ]. Известно, что в современных севернорусских говорах возможно твердое произношение первого согласного в таких сочетаниях, однако в говорах Вологодской области, в том числе Кирилловского района, отмечена зависимость качества первого согласного {clc\ зіз ) от ряда предшествующего гласного: «гласные переднего ряда преимущественно сочетаются с последующими мягкими согласными, а гласные непереднего ряда, как правило, соседствуют с последующими твердыми согласными, т. е. спС в слове кисти преимущественно реализуется в виде [c-V], а сггС в слове гости - в виде [ст ]» [Пауфошима 1973: 103]. Поскольку все возможные рефлексы ё в белозерско-бежецких говорах являются звуками переднего ряда, первый согласный в сочетании должен быть мягким. Далее, данные рубежа XIX-XX вв. указывают на мягкость большинства согласных перед суффиксами -bStv- и -bsk-: земьской, русьской, богатьстео, дерееепъской [Соколовы 1909: 181], [Шахматов 1896: 87]. Вероятно, то же справдливо и для более раннего периода, поэтому подобные случаи рассматриваются в пунктах «перед мягким согласным».
В исследованных текстах на месте древнего ё наряду с буквой % пишутся е и и, как в позиции перед мягким согласным, так и перед твердым, а также в абсолютном конце слова. Этимологически правильные написания с % многочисленны и стандартны; приведем лишь некоторые из них.
Позиция после твердых согласных и в абсолютном начале слова
Систематическое описание вокализма безударных слогов имеет более сложную структуру, чем исследование вопросов о функционировании гласных в слоге под ударением. Это связано, во-первых, с необходимостью специального изучения вокализма первого предударного, второго и других предударных и заударных слогов. Затем, отдельно рассматриваются позиции после твердых согласных и в абсолютном начале слова, после шипящих и после мягких согласных. Для последнего пункта важно разделение материала по этимологическим гласным (см. далее). Наконец, во многих частях описания безударного вокализма, так же, как и в предыдущей главе, необходимо различать позиции перед твердым и перед мягким согласным.
Далее мы распределим материал следующим образом: основой для классификации будет положение гласного после твердых согласных (и в абсолютном начале слова) с одной стороны и после мягких и шипящих согласных с другой. В диалектологических исследованиях принято рассматривать позиции после мягких согласных и после шипящих и [ц] отдельно, однако представляется оправданным рассматривать эти позиции далее вместе по ряду причин. Во-первых, описания говора XX в. и данные исследованных текстов свидетельствуют лишь о незначительных отличиях рефлексов а в позиции после шипящих и после мягких согласных; для рефлексов ё это противопоставление неактуально, поскольку на восточнославянской почве сочетаний шипящих с е не существовало ; наконец, при решении вопроса о качестве гласного на месте е написания после букв шипящих являются наиболее показательными (в связи с чрезвычайной редкостью отражения [ о] как о после парного мягкого согласного), и излишнее дробление материала привело бы к нарушению и усложнению общей картины. Поэтому в дальнейшем эти позиции рассматриваются параллельно, а отличия в реализациях будут подчеркнуты особо.
Распределение материала в зависимости от положения слога по отношению к ударению производится уже внутри этих разделов. Факт этимологически верного употребления букв апов большинстве написаний сам по себе указывает на наличие в белозерско-бежецких говорах первой половины XVII в. оканья, поскольку авторы скорописных деловых текстов аналогичного содержания, созданных на акающих территориях, допускали значительное число смешений букв о и а в слоге перед ударением. Так, замены о на а и обратные (гиперкорректные) а на о южнорусских рукописях XVII в, настолько многочисленны, что, по выражению С. И.Коткова, «нет никакой необходимости приводить их ... специально» [Котков 1963: 57]. Такие написания встречаются практически в каждой записи: скозали, таео, ис ... доходов, пра то про всо не вЪдоем [там же: 41-42]. В псковских и смоленских деловых текстах XVII в. мена о и а в рассматриваемой позиции также распространена [Галинская 2002: 91-92, 177-178], причем число и разнообразие примеров в ряде случаев позволяет даже установить тип аканья [там же], [Хабургаев 1966: 290]. Взаимные замены а и о в первом предударном слоге, указывающие на аканье, отмечены также в казанских и нижегородских актах XVII в. [Соколов 1891]. Что касается московских текстов, то аканье здесь также находит отражение (Саколникова, таво, приложил, слобады, избу тапила, колодезя, овса и пр.), хотя число примеров существенно меньше, чем в южнорусских текстах, что может объясняться «твердой выучкой московских грамотеев» [Котков 1974: 77-78]. Действительно, в Уложении 1649 г., написанном в этот же период, практически не представлены случаи смешения безударных а и о [Черных 1953: 194-195]. Вероятно, применительно к орфографии Уложения следует говорить о наличии строгой нормы, не допускавшей фонетических написаний в рассматриваемой позиции.