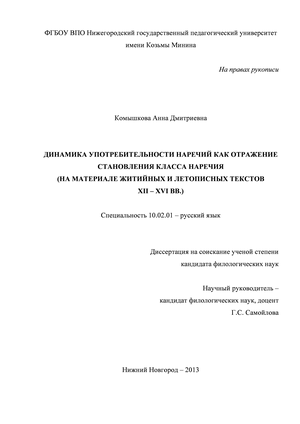Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Класс наречий в истории русского языка 19
1.1. Подходы к определению наречия в истории русской грамматики 19
1.2. Общая картина истории класса наречий в древнерусском языке: этапы формирования 35
1.3. Основные морфологические типы наречий: их история и хронологическая соотнесенность 42
1.3.1. Местоименные наречия 43
1.3.2. Неместоименные наречия 50
1.4. Выводы 70
Глава 2. Динамика употребительности наречий в памятниках письменности XII – XVI вв. 76
2.1. Семантические разряды наречий в памятниках XII – XVI вв 76
2.2. Детерминирующие наречия 83
2.2.1. Общая характеристика состава детерминирующих наречий в памятниках XII – XVI вв. 83
2.2.2. Особенности семантики и функционирования наречий времени и места в памятниках XII – XVI вв... 96
2.2.3. Местоименная семантика в разрядах наречий времени и места 101
2.2.4. Переходные явления в разрядах наречий времени и места 104
2.3. Характеризующие наречия 110
2.3.1. Соотношение местоименных и неместоименных наречий в разряде характеризующих наречий 110
2.3.2. Соотношение наречий морфологических типов на -о (-е)/- и «адвербиализированных форм косвенных падежей» в разряде характеризующих наречий 113
2.3.3. Соотношение наречий морфологических типов на -о (-е) и на - в историческом аспекте: становление продуктивного типа наречного словообразования 127
2.3.4 Отражение процесса оформления характеризующих наречий в памятниках письменности XII – XVI вв .. 131
2.4. Количественные наречия 137
2.5. Выводы 140
Глава 3. Динамика употребительности наречий в текстах XII - XVI вв. разной жанрово-стилевой отнесенности 145
3.1. Изменение употребительности наречий разных семантических разрядов в житиях и летописях XII – XVI вв 146
3.2. Изменение употребительности местоименных наречий в житиях и летописях XII – XVI вв 148
3.3. Изменения в функционировании неместоименных характеризующих наречий разных морфологических типов 153
3.4. Изменения в функционировании количественных наречий 157
3.5. Выводы 160
Заключение 163
Литература 178
- Основные морфологические типы наречий: их история и хронологическая соотнесенность
- Особенности семантики и функционирования наречий времени и места в памятниках XII – XVI вв...
- Отражение процесса оформления характеризующих наречий в памятниках письменности XII – XVI вв
- Изменение употребительности местоименных наречий в житиях и летописях XII – XVI вв
Введение к работе
Актуальность исследования исторических изменений в системе лексико-грамматического класса наречий, отраженных в текстах древнерусской и старорусской письменности XII - XVI вв., обусловлена несколькими факторами.
-
В настоящий момент отсутствует единая непротиворечивая теория, описывающая закономерности становления наречия как самостоятельной части речи. Класс наречий выделяется из системы частей речи русского языка как формально - своей неизменяемостью, так и содержательно - совпадая по своему общему значению со значениями категорий имен: прилагательного, существительного, числительного. В связи с этим факт самостоятельности наречия как части речи не раз ставился под сомнение в грамматических учениях, описывающих систему русского языка в синхронном срезе, несмотря на то что на протяжении всей своей истории наречие - активно пополняющийся класс слов. Вместе с тем традиционно подходы к характеристике и систематизации наречий основываются на особенностях их этимологии и словообразовательных отношений, т.е., по сути, затрагивают вопросы диахронии наречий.Именно историческое исследование особенностей функционирования наречий способно прояснить основные направления в становлении этой части речи и разрешить существующие противоречия в грамматическом описании этого класса слов.
-
Становление класса наречия характеризуется расширением категориального значения, что указывает на изменение форм грамматической концептуализации действительности. Наблюдение за функционированием слов этой части речи в текстах разных временных периодов, сравнение количественных показателей их употребительности необходимо для осмысления вопросов исторического моделирования языковой картины мира.
-
Изучение формирования наречия позволяет пролить свет на вопросы, касающиеся трансформации грамматической системы русского языка в целом. История оформления наречия как особой части речи, объединяющей слова на основе единого значения признака другого признака (предикативного или атрибутивного) воплощает одну из генеральных тенденций в истории грамматической системы русского языка - усиление противопоставления имени и глагола, развитие аналитических средств выражения грамматических категорий.Историческое изучение становления и развития лексико-грамматического класса наречия, таким образом, представляется актуальным для осмысления современных явлений в системе частей речи и прогнозирования дальнейших изменений в грамматическом строе языка.
4. Актуальным представляется исследование выражения грамматических категорий в древних текстах разной жанрово-стилевой отнесенности, т.к. вопрос об исторической изменчивости литературного языка донационального периода вызывает множество споров и неоднозначных суждений.
Объектом исследования являются наречия в житийных и летописных текстах XII - XVI вв. Предмет исследования - динамика употребительности наречий разных семантических разрядов и морфологических типов в памятниках XII - XVI вв.
Цель исследования - выявить и описать изменения в употребительности наречий различной семантики и разных морфологических типов в житийных и летописных текстах XII - XVI вв., отражающие процесс становления наречия как части речи. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
-
-
систематизировать теоретические сведения о лексико- грамматическом классе наречия в истории русской грамматики, выделить основные подходы к вычленению и описанию данной части речи, рассмотреть различные классификации наречий, проанализировать неоднозначные и спорные вопросы грамматики наречий и выработать оптимальный подход к историческому исследованию слов данного лексико-грамматического класса в памятниках XII - XVI вв.;
-
описать систему наречий, представленную в памятниках древнерусского и старорусского языка XII - XVI вв. в ее единстве и исторической изменчивости на основе семантической классификации и морфологических типов наречий;
-
выявить динамику изменений в функционировании наречий в памятниках XII - XVI вв. и оценить употребительность наречий разных семантических разрядов и морфологических типов;
-
определить специфику отражения основных тенденций в становлении лексико-грамматического класса наречия в текстах разных жанров древнерусской и старорусской письменности.
Материалом исследования послужили тексты XII - XVI вв., относящиеся к двум жанрам древнерусской письменности: 1) жития: «Сказание о Борисе и Глебе» (Успенский сборник, XII в.), «Чтение о житии Бориса и Глеба» Нестора (XII в.), Житие Феодосия Печерского (Успенский сборник, XII в.), «Слово об убиении Михаила Черниговского» (по списку сборника XIV - XV вв.), «Житие Александра Невского» (Владимирская редакция, список конца XV в.), «Житие Сергия Радонежского» (конец XV в.), «Житие Михаила Тверского» (список XVI в.); 2) летописи: Новгородская I летопись старшего извода (по Синодальному списку конца XIII - XIV вв.), Лаврентьевская летопись, датируемая 1377 г., Вологодско-Пермская летопись по Кирилло- Белозерскому списку середины XVI в.
Выбранные для исследования тексты относятся к двум принципиально различающимся периодам в истории русского языка. Тексты XII - XIV вв. принято считать памятниками языка древнерусской народности (язык Киевского государства), тексты XV - XVI вв. представляют собой образцы языка великорусской народности (язык Московского государства). Для истории наречий принципиально важным является древнерусский период, т.к. оформление слов этой части речи неразрывно связано с формированием определительных категорий в языке, и «если процесс формирования прилагательных как особого лексико- грамматического класса в начальный период существования древнерусской письменности подходит к концу, то формирование широкого класса наречий, соотносимых с именами, только набирает свою силу». XV - XVII вв. называют периодом старорусского языка, который предшествует образованию языка русской нации, что находит свое отражение в коренной перестройке языковой системы от восточнославянской к собственно великорусской: тексты этого периода даже консервативных жанров характеризуются заметными изменениями в морфологии и синтаксисе.
Анализируемые жития и летописи представляют книжно-славянский
тип литературного языка донационального периода, который, несмотря на свою церковнославянскую основу и связанный с этим консерватизм, был подвержен историческим изменениям. Об этом свидетельствуют многие современные исследования по истории русского литературного языка донационального периода (Т.В.Волошина, М.В.Иванова, В.А.Баранов).
Более того, отражение языковых изменений в текстах агиографической и богослужебной литературы говорит о высокой степени активности этих процессов в системе языка: «Именно такие тексты, в которых изменения на всех уровнях происходят медленно, с трудом, в силу священности жанра, являются показательными с точки зрения отражения в них активно развивающихся в русском языке грамматических
категорий».
Все это позволяет рассматривать материал в двух взаимосвязанных аспектах: в хронологическом, выделяя два исторических среза - древнерусский и старорусский, и в жанрово-стилевом, сравнивая характер исторических изменений в текстах, по-разному соотносящихся с системами церковнославянского и древнерусского языков.
Методологическую основу работы составляют два основных принципа лингвистического исследования: принцип историзма и принцип системности.
В работе с фактическим материалом было использовано несколько методов.
1. Описательный метод, включающий в себя приемы внешней интерпретации языковых единиц: наблюдение, описание, систематизацию фактов и категориальный анализ, который подразумевает объединение выделенных единиц в группы (построение классификаций), выявление структуры этих групп и анализ языковых единиц с точки зрения их отнесенности к определенной категории.
-
-
-
Количественный метод использовался для оценки употребительности наречий разных семантических разрядов и морфологических типов в текстах разных временных периодов и жанров. В рамках этого метода применялась статистическая методика изучения лингвистических единиц, основанная на идеях теории вероятностей и приемах математической статистики.
-
Сравнительный метод. В настоящем исследовании при определении основных тенденций в становлении лексико-грамматического класса наречий, отраженных в исследуемых текстах, использовались приемы внутриязыкового сравнения: сравнивались качественные характеристики системы наречий и количественные показатели их функционирования на разновременных синхронных срезах, а также в текстах различной жанрово- стилистической отнесенности.
Научная новизна исследования определяется подходом к изучению наречий разных структурно-семантических групп с точки зрения их реального функционирования в текстах древнерусского и старорусского периодов.
Известные работы по истории наречий опираются, как правило, на данные лингвистических картотек (например, исследования Е.И.Янович, Н.В.Чурмаевой), используя контекст только в отдельных случаях для единичных иллюстраций. Однако исключение наречий и, в целом, «приглагольных определителей» из контекста вместе с общей затрудненностью исторического понимания наречия как части речи в динамике его развития вызывает ряд трудностей. Справедливо в этом отношении утверждение В.А.Баранова: «Только тексты дают возможность правильно интерпретировать данные картотек. Последние без анализа употребительности, функционирования дают лишь мертвый остов, костяк системы, но не саму живую ткань речевого употребления и, соответственно, динамику развития отдельных словообразовательных моделей, слов и разрядов наречий».
Количественные данные, характеризующие динамику употребительности наречий в житийных и летописных текстах XII - XVI вв., получены впервые, и выводы относительно отражения становления класса наречий в памятниках древнерусского и старорусского языка являются новыми.
Теоретическая значимость работы. Представленный в диссертации аналитический обзор подходов к описанию наречия в истории русской грамматической мысли имеет значение для теоретической разработки вопроса о становлении этого лексико-грамматического класса и позволяет прояснить некоторые спорные вопросы грамматики наречий и учения о частях речи в целом.
Результаты исследования житийных и летописных текстов XII - XVI вв. могут служить обоснованием ряда теоретических положений, уже сформулированных в исторической грамматике на основе отдельных наблюдений над языком древнерусских и старорусских текстов, изучения словников древних памятников письменности. Обобщенные на основе анализа динамики употребительности наречий тенденции в становлении этого класса не только имеют значение для понимания закономерностей развития грамматической системы русского языка, но и важны для осмысления природы и своеобразия данной части речи в современном русском языке. Результаты сопоставительного анализа изменений в употребительности наречий в текстах разной жанрово-стилевой отнесенности имеют значение для разработки проблем исторической стилистики.
В диссертации также предложена рабочая терминология для описания семантических разрядов наречий, позволяющая избежать омонимии с названиями синтаксических функций. Детерминирующими в работе называются наречия, определяющие действие с точки зрения внешних обстоятельств (времени, пространства, причины, цели); характеризующими - наречия, называющие качественный или относительный признак действия; количественными - наречия, имеющие в своем лексическом значении идею количества и называющие степень проявления признака (в том числе предикативного) или кратность совершения действия. Данные термины могут быть использованы в дальнейших исследованиях, связанных с описанием грамматики наречий и их функционирования в текстах.
Практическая значимость работы. Фактический материал, полученный в ходе исследования, может быть использован для дальнейшего изучения истории определительных категорий в древнерусском языке, а также полезен в качестве иллюстраций в преподавании историко-лингвистических дисциплин в высшей школе.
Статистические таблицы и диаграммы могут служить дидактическим материалом в практике вузовского преподавания и стать основанием для сопоставительных исследований состава и функционирования наречий в древнерусских и старорусских текстах разной жанрово-стилевой отнесенности.
Положения, выносимые на защиту.
-
-
-
-
Употребительность наречий разных семантических разрядов, выделенных в житийных и летописных текстах XII - XVI вв., является стабильной от древнерусского к старорусскому периоду.
-
Среди детерминирующих наречий во всех временных периодах преобладают слова с местоименной (указательной, относительной) семантикой, тогда как неместоименные наречия с детерминирующим значением во всех временных выборках представлены в незначительном объеме.
-
Употребительности характеризующих наречий свойственна следующая динамика от древнерусского периода к старорусскому: 1) снижается относительное число местоименных наречий этого разряда, 2) растет доля неместоименных наречий морфологического типа на -о (-е)/ - Ъ, 3) увеличивается употребительность наречий на месте характеризующих имен во «втором именительном» или «втором косвенном» падежах.
-
Разряд количественных наречий наиболее стабилен в лексическом составе и употребительности по данным текстов XII - XVI вв., однако отчасти отражает тенденцию, характерную для формального становления характеризующих наречий: рост употребительности наречий на -о (-е)/ - по отношению к наречиям других морфологических типов.
-
Тексты разной жанрово-стилевой отнесенности характеризуются различной динамикой употребительности наречий разных семантических разрядов и морфологических типов.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования обсуждались на международных научных конференциях: «Язык, литература, культура на рубеже XX-XXI веков» (конференция РОПРЯЛ, Нижний Новгород, 2011 г.), «Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира» (Северодвинск, 2011, 2013 гг.), международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2008, 2010, 2012 гг.); «Проблемы языковой картины мира на современном этапе» (Нижний Новгород, 2007 - 2012 гг.), «Кирилло-Мефодиевские чтения» (Славянск- на-Кубани, 2008 г.), «Арзамасские филологические чтения» (Арзамас, 2008 г.). По материалам исследования опубликовано 16 научных статей, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура работы определяется задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, словарей и источников, двух приложений, выполнена на 205 страницах, включает 24 таблицы, 17 диаграмм.
Основные морфологические типы наречий: их история и хронологическая соотнесенность
Становление наречия как категории, объединяющей в себе слова, детерминирующее действие и определяющие его, т.е. слова с собственно обстоятельственным значением (времени, места) и слова со значением качества и образа действия, шло неравномерно. По-видимому, собственно обстоятельственное значение первично по отношению к значению качественного признака действия, т.к. наиболее древние, местоименные наречия представляют собой систему слов с обстоятельственным значением времени и места. История системы местоименных наречий состоит в количественном ее сокращении, однако наряду с этим класс наречия пополняется словами со значением качественного и относительного признака действия.
Местоименные наречия принято называть первичными или первообразными [См., например, Иванов 1990]. Местоименные и неместоименные наречия представляют собой принципиально разнородные классы слов. В строгом смысле наречиями можно называть именно местоименные наречия, т.к. помимо категориальной семантики, они имеют характерные формальные приметы, которые не свойственны ни одной другой части речи. Как правило, это наречия, образованные от древних местоименных корней -къ-, -тъ-, -сь-, -вьс-, -ин-, -ов-, -е-. Традиционно в исторических описаниях этого разряда выделяется группа специфических суффиксов -уд-, -гд-, -д-, -м-, -ли-, выражающих, соответственно, значения места, времени, направления. На системность этого разряда наречий указывают описания Ф.И.Буслаева, А.А.Потебни, А.Мейе. Несколько иначе рассмотрены морфологические типы местоименных наречий и их история в древнерусском языке в исследовании Н.В.Чурмаевой, которая возводит некоторые из наречных аффиксов к союзным словам с соответствующими обстоятельственными значениями.
Согласно исследованию словника древнерусских текстов, к XI в. система местоименных наречий представляла собой разряд обстоятельственных наречий на -де, -амо, -уду(), -гда и разряд определительных на -ако, -ми(а).
А.Мейе указывает на то, что среди местоименных наречий наиболее древними являются формы на -de с общим значением место, где совершается действие (старославянские и древнерусские къде/ где, иде, сьде, онъде и др.) [Мейе 1971, с.377]. Этимологический словарь славянских языков указывает, что праславянским языком была унаследована соотносительная пара местоименных наречий kъde - jьde [ЭССЯ Вып.11 1984, с.174] – древнерусские къде/ где – иде в текстах функционально разведены как наречие и относительное слово, также как къгда/ когда – егда: «како или кде положена еста» [СБГ, Усп. сб., л.16б, с.55]; «въ пещероу иде же и честно тло го положено бысть» [ЖФП, Усп.сб., л.37г, с.89].
Ф.И.Буслаев расширяет круг слов, образованных похожим образом, с помощью локативного форманта -д-, и говорит о том, что значение места выражают слова, образованные «из сочетания -д- и предлогов»: надъ, подъ, задъ, предъ (ср. прежде – сравнительная степень этого наречия), а также выделяет формант -д- в наречиях типа куда [Буслаев 1959, с.156]. Н.В. Чурмаева пишет, что с конца XIV в. появляется наречие здесь, в котором усматривают обычно удвоение местоименной основы, по аналогии с наречиями дьньсь, лтось, вчерась [Чурмаева 1989, с.64].
Местоименные наречия времени образованы с помощью другого индоевропейского форманта -da: прежде всего, старославянское къда и древнерусское гда: гда преставлюся да всыплет ми пръсть на очи мои [Срезневский 1989 т.1 ч.1, с.512]. Общеславянские наречия времени когда, тогда А.Мейе возводит к сочетаниям ко года, то года в значении в тот момент года , которые встречаются в старославянском языке (формы къгда, тъгда А.Мейе считает более новыми, возникшими в результате беглого произношения) [Мейе 1951, 377]. В других исследованиях эта этимология не находит поддержки: отмечается, что -гда выражает значение времени (когда, тогда, иногда, овогда, вьсегда, внегда, никогда, нкогда и др.), например, в этимологическом словаре славянских языков под редакцией О.Н.Трубачева о местоименных наречиях времени kъda и kъgda говорится, что они восходят к индоевропейскому местоимению kuo- «с различными (древними) энклитическими вариациями и (возможно, вторичными) осмыслениями» [ЭССЯ Вып. 11 1984, с.173]. Н.В.Чурмаева отмечает, что с XIII в. в текстах появляются местоименные наречия времени на -гды [Чурмаева 1989, с.71] (когды, тогды, всегды и др.) параллельно с пространственными туды, сюды, куды и др. В Этимологическом словаре славянских языков праславянские kъda и kъdy описаны как варианты наречий со значением времени, причем «различия огласовок» связываются с имитацией падежных флексий: -у -винительный падеж множественного, -а - родительный падеж единственного числа» [ЭССЯ Вып. 11 1984, с.175].
О том, что местоименные наречия «оказываются так же, как и прочие, в косвенных падежах», пишет Ф.И.Буслаев, к падежным формам возводит некоторые местоименные наречия А.А.Потебня и А.Мейе. Об «инерции склонения», которая обнаруживается в сосуществовании вариантов одного наречия с разными конечными звуками, говорит Н.В.Чурмаева, описывая процесс образования новых наречий от уже существующих (в случаях с неместоименными наречиями, например, лихо - излиха [Чурмаева 1989, с.22]). Однако есть основания считать, что подобная «инерция» прослеживалась у местоименных наречий, во всяком случае, при образовании наречий от уже существующих.
Кроме того, в исследуемых нами текстах встретились случаи употребления детерминирующих наречий в управляемой позиции с предлогом, характерной для имени существительного. Например, человЪкомъ близь тоу помышлтющемъ [ЖФП, 56в, с.118], печенегомъ же о оноудоу пакы идоущемъ [СБГ, 8г28, с.43]; до здЪ же убо списашася сиа вся [ЖСР, с.288], се убо отче отходиши ты днесь еже от здЬ [ЖСР, с.302], близ туто лежит Микула Васильевич убить [ВПЛ, л.253, с.143], почто ради богъ спиде [ВПЛ, л.26, с.22]. Подобные примеры немногочисленны, поэтому оценить характер изменений в их функционировании с помощью статистической методики на материале настоящего исследования не представляется возможным. Однако само существование подобных конструкций в текстах в разных временных периодов и жанров, на наш взгляд, указывает на историческое родство наречия с категорией имени и тесную связь становления наречия как специфического лексико-грамматического класса с развитием именных категорий в древнерусском языке.
Старославянские наречия со значением направление движения кждж, кждоу, кжд Ь, согласно А.Мейе, имеют значение откуда , тждоу, тжд Ь оттуда , а значения куда и туда выражаются наречиями камо и тамо. Н.В.Чурмаева отмечает, что союзное слово амо в древнерусских текстах имело значение куда и традиционно употреблялось в книжной речи, как и все его производные: камо, тамо, сЬмо, овамо. Союзное слово уду, удЬ имело значение направления в пространстве и времени или значение места безотносительно к направлению, его производные - местоименные наречия куду, сюду, всюде, внеуду, всюду, обоюдоу внеуду и др. Кстати, словарь Срезневского приводит слово у в значениях теперь, так, тогда [т.З ч.2, с.1107]. У Срезневского куду, кудЪ, куды, куда в значении направления действия куда : «не обртъше кждоу вънести» (Остр. ев.); «коуд оубо вънидеть» (ЖФП); «разбжесА коуды кто видА» (Новг. І лет.); «куда поити за ними» (Псков. I лет.) [Срезневский 1989 т.1 ч.2, с.1356, 1358-1359]. Указательное местоимение сюду, сюд% сюда, сюды - в значении направления сюда и места здесь : «съ нимь (пропАшА) дъва сждоу и овждоу» (Остр.ев.); «соуд и онуд» (Пат.Син.); «не придоша ли сюда мниси» (Прол. XIII в.) [Срезневский 1989 т.З ч.1, с.602, 610, 907].
Особенности семантики и функционирования наречий времени и места в памятниках XII – XVI вв...
Категории пространства и времени в древнерусском языке тесно взаимосвязаны, поэтому, анализируя репрезентацию этих обстоятельственных значений в классе наречий, следует, прежде всего, говорить о взаимном проникновении этих категорий. Е.С.Яковлева пишет о взаимообратимости пространства и времени в русской языковой картине мира: «Пространственные наречия описывают временные промежутки, а расстояния оцениваются через срок» [Яковлева 1994, с.56]. В культурологических и лингвистических работах часто встречается мысль о том, что время концептуализируется в русском языке с помощью пространственных характеристик. Об этом свидетельствует внутренняя форма, например, таких древнерусских наречий времени, как последи – родственное следъ, – содержащее идею движения, следования; преже – сравнительная степень от слова с пространственным значением предъ. Согласно этимологии и внутренней форме слов, составляющих группу наречий времени в древнерусских и старорусских текстах, время имеет весьма конкретные физические характеристики, связанные с пространственными параметрами. Например, оно обладает протяженностью: долго – от долгии длинный [Фасмер 2004, с.524], имеет начало: искони от общеславянского корня кон граница, край [Черных 1999, с.357].
О взаимном проникновении и слитности пространственно-временных значений в языке древнерусских и старорусских памятников, говорит также синкретность пространственно-временных значений наречий. Синкретизм – способность языковой единицы нерасчлененно выражать два и более значений в одном употреблении [Радутная, 1996, с.35]. В текстах древнерусского и старорусского периода есть контексты, в которых одно наречие выражает одновременно и значение времени, и значение места.
Например, тоу остригъши сia [ЖФП, Усп. Сб., л.33а, с.82]; тоу же оусъпе съ миръмь [ЖФП, Усп. Сб., л.41б, с.95] – значение наречия в это время в этом месте ; оттоле распространися святая вера [ЖМТ, с.107] – значение с того момента, из того места ; добродтели его мало пошедше напреди явьствуются [ЖСР, с.334] – значение впереди, ранее ; отселе почнем и числа положим [ВПЛ, л.12 об., с.14] - значение с этого места, с этого момента .
Это примеры употребления обстоятельственных местоименных наречий в синкретном пространственно-временном значении, но часты также и случаи реализации одного из значений наречия в конкретном контексте. Например, XII век: и тоу абию възращоу сіа [ЖФП, Усп. Сб., л.41г, с.96] реализуется значение времени; тоу ієсть имЬниіє ихъ съкръвено [ЖФП, Усп. Сб., л.46в, с.103] - выражено значение места; оттолЪ потщався наеха на ня [ЖАН, с.430] - значение места; начата оттолЪ блюсти имени его [ЖАН, с.434]; оттолЬ начата учити [ЖМТ, с.107] - значение времени; что напреди сбытися иматъ [ЖСР, с. 282]; и не ту абие скоро запрещате им [ЖСР, с.340] - значение времени; аще и не по ряду предняя назади а задняя напреди [ЖСР, с.258]; и ту живяше с родом своим [ЖСР, с.290] - значение места; мнози ту лежаще [ВПЛ, л.67 об., с.40] - там, в этом месте ; ту абие царь повелі [ВПЛ, л.31, с.24] - тогда, в этот момент ; и оттоле идите в Греки [ВПЛ, л.41, с.28] - оттуда ; и оттоле человЯкъ той вірен быстъ и целомудръ [ВПЛ, л.244, с.139] - с тех пор . Временное значение наречия оттоле иногда имеет оттенок значения причины, например: И въздорожиша все по търгу ...и оттолЪ ста дороговъ [Новг. I лет., л.104об., с.66]; изби мразъ ... обилъе по волости нашей и оттолЬ горе уставися велико [Новг. I лет., л.111, с.69]; на дело преже въсЪх исходя и на церковное пЪние преже всіх обрЪташеся и никако же на стіну въскланяяся и оттолЪ уцвЪтяше місто то [ЖСР, с. 338]; и оттолЪ младенецъ повсегда по обычаю питаемъ бываше [ЖСР, с.268]; а Хорив [живяше] на третьей горі оттоле прозвашася Хоривица [ВПЛ, л.6, с.11]; и бЪша у него мужи Варязи и Словени, и оттоле прочий прозвашася Русью [ВПЛ, л.16, с. 16]. По данным выборки в текстах житий XII века из 70 случаев употребления наречия ту 55 слов (около 78,6%) имеют значение места, 8 (приблизительно 11,4%) выражают значение момента времени и в 7 случаях (10%) наречие употреблено в синкретном пространственно-временном значении. В тексте летописи XIII века из 77 употреблений ту в 17 случаях (в 22,1% случаев) выражено синкретное значение, в 54 (70,1%) пространственное и в 6 (7,8%) - чисто временное значение; наречие оттолЬ (оттоле, оттоль) в 3 случаях (в 15% случаев) выражает значение времени, в 14 (70%) - места, 2 раза (10%) употреблено в синкретном пространственно-временном значении и 1 раз (5%) в значении причины. По данным выборки XIV века, наречие ту 6 раз (в 16,7% случаев) употребляется во временном значении, 25 раз (69,4%) в пространственном и 5 раз (13,9%) в синкретном пространственно-временном значении. В житиях XV века из 14 употреблений наречия ту 2 раза (в 14,3% случаев) слово выражает временное значение и 12 раз (85,7%) пространственное; наречие оттолЬ в 5 случаях (в 62,5%) выражает временное значение, в одном случае (12,5%) -пространственное и в 2 случаях (25%) значение причины; наречие напреди употребляется 3 раза: в пространственном, временном и синкретном значениях. В выборке из текстов XVI века из 29 употреблений наречия ту 20 (69%) имеют пространственное значение, 4 (13,8%) временное и 5 (17,2%) синкретное пространственно-временное значение; оттоле (оттолЬ) употреблено 17 раз - в 7 контекстах (в 41,2% случаев) во временном, в 7 (41,2%) в пространственном и 3 раза (17,6%) в причинном значении. Наречие отселе встречается 2 раза (66,7%) в синкретном и 1 раз (33,3%) во временном значении.
Таким образом, каждое из этих наречий имеет наиболее часто реализующееся значение, например, для указательного ту более характерно употребление в значении места, для наречия оттоле - времени.
Обстоятельственные наречия времени, как правило, являются более частотными по отношению к наречиям со значением пространства. Об этом свидетельствуют результаты статистического анализа, представленные в Таблицах 3, 4: по каждой хронологической выборке были подсчитаны частотности употребления наречий со значением времени и пространства по отношению к общему количеству наречий в выборке и по отношению к числу разряда детерминирующих наречий.
Отражение процесса оформления характеризующих наречий в памятниках письменности XII – XVI вв
Становление разряда наречий со значением качественной и относительной характеристики действия, как отмечалось ранее, связано с синтаксическими процессами перестроения структуры предложения в древнерусском языке. В памятниках древнерусского периода можно найти отражение процесса изменения структуры простого предложения от именного к глагольному типу, которое, в частности, выражалось в разложении составного именного сказуемого [Спринчак 1960, с.162], отчасти сопровождавшемся адвербиализацией именной части сказуемого. Характеризующие слова из зоны определения имени втягивались в зону глагольных определителей, становясь наречиями (т.е. неизменяемыми словами), обозначающими качество действия.
Более древний тип составного именного сказуемого характеризовался в древнерусском языке согласованием именной части сказуемого с подлежащим, более того, для второй именительный падеж в древнерусском языке встречается даже при полнозначных глаголах [Ломтев 1954, с.12]. С усилением синтаксических связей глагола, согласование между подлежащим и именной частью сказуемого утрачивалось, и если на месте второго именительного при неполнозначной связке (быти, стати) появлялась форма творительного предикативного, то при полнозначных глаголах (как правило, это глаголы пребывания и вещественного движения) второй именительный принимал форму «несогласованного» члена предложения, характеризующего глагол-сказуемое, т.е. становился наречием, например, стояше простъ [ЖСР, с.276] - составное именное сказуемое, просто же реку [Новг. I лет., л.126, с.77] - сказуемое и обстоятельство.
Усиление семантической и синтаксической активности глагола имело похожие следствия и в утрате конструкций «второго косвенного» падежа, включавших характеризующее слово (имя прилагательное). Например, ср. о немъ достойна своіа юмоу испраелениіа [...] исповідаіа [ЖФП, Усп. Сб., л.42а, с.96] - тЪмже и мы должны есмы хвалити достойно страстотерпца Христова [Лавр.лет., л.47, с.137]; прилЪжну съ слъзами молитву на врагы творяше [ЖСР, с.310]; молитву прилежно съ слъзами творяща [ЖСР, с. 280].
Особенно показательны в этом отношении замены в списках, имеющих общий источник, например, в Лаврентьеской летописи (XIV в.) Володимеръ же рече послушаю радъ [Лавр.лет., л.28об., с.87], в Вологодско-Пермской летописи (XVI в.) в этом же отрывке из Повести временных лет: он же рече послушаю радостно [ВПЛ, л.26, с.22]. Анализ разновременных списков одного текста может дать богатый материал для изучения изменений в синтаксисе подобных конструкций, отчасти этому посвящено исследование В.А.Баранова, сравнившего разночтения «атрибут предмета – атрибут предиката» в списках служебных миней [Баранов 2002].
Таким образом, с расширением синтаксических возможностей глагола в предложении активно развивается примыкание, особенно в отношении характеризующих слов, которые теряют синтаксическую связь с именем существительным и переключают отношения грамматической зависимости на глагол. Отражением исторического перехода от структуры «имя + глагол + характеристика имени» к структуре «имя + глагол + характеристика глагола», в которой имя могло выполнять роль как подлежащего, так и дополнения, подчинявшего себе согласованную форму, отразилось, прежде всего, в недифференцированном употреблении в древнерусских текстах определительных форм, о котором пишет Т.А. Волошина: «В структуре древнерусского предложения отмечаются случаи смешения синтаксических функций разных классов слов и недифференцированного употребления частей речи. В частности, сохраняются следы смешения позиций определения и обстоятельства, недостаточной дифференцированности прилагательного и наречия. При этом возможно употребление адъективных форм в значении обстоятельства и употребление наречий в роли определений» [Волошина 1985, 7]. Такие явления объясняются отголосками древнего состояния системы языка, при которой признаковое имя было дифференцировано только функционально.
В исследуемых текстах всех периодов мы выделили примеры подобного функционального смешения прилагательных и наречий. С одной стороны, прилагательные, по смыслу определяющие действие, формально согласованы с именем-подлежащим или дополнением: себе же не достоина творіа [ЖФП, Усп. Сб., л.37г, 90], обріте ины сідяща праздны [Чтение о житии...], самъ чисть сіа творіа [ЖФП, Усп. Сб., л.39а, с.91], погрЪбоша воеводу своего Гемябега жива въ земли [Новг. I лет., л.98, с.63], падоша ници, нъ живи быша [Новг. I лет., л.9об., с.19], и положиша всю Вългу пусту [Новг. I лет., л.49об., с.36], пЪши много ихъ ту паде [Новг. I лет., л.ЮЗоб., с.65], они же ради обЪщашася послушати [Лавр.лет., л.44, с.128], повелЪ засипати я живы [Лавр.лет., л.15об., с.56], боле же чтите гость откуду же к вам придетъ или простъ или добръ или солъ [Лавр.лет., л.80об, с.246]; сътвори молитву прилЪжну [ЖСР, с.280], вълци тяжции выюще [ЖСР, с.308], се [Мша] пЪшь натече на корабли [ЖАН, с.2], азъ видЪхъ его ... пеша идуща [ВПЛ, л.251об., с.143], о сыны Измаилтеския, весели ликующе [ВПЛ, л.253об., 144].
С другой стороны, несогласованное с именем (застывшее, неизменяемое) слово выступает в составном именном сказуемом как именная часть при неполнозначной связке (быти, стати), хотя и не только: оутрънии днъ далече ксть [ЖФП, л.44г, с.101]; нъ крепі быти на вьсл троуды [ЖФП, л.55в, с. 117]; не достойні есть сталъ оже не благословень есть отъ великаго сбора, ни ставлень [Новг. I лет., л.26, с.28], научися вЪрныи человЪче быти благочестно дЪлателъ [Лавр.лет., л.79, с.243], рече ему Волга видиши мя болное сущю [Лавр.лет., л.20об., с.67], обзираху повсюду младенца яко нЪсть болно [ЖСР, с.270], дивно видЬх землю Словенъскую [ВПЛ, л.5об., с.П]. В этом случае наречие по смыслу соотносится с именем, называя его признак.
Наблюдается также исправление в поздних списках, замена наречия на прилагательное и прилагательного на наречие в зависимости от выраженного значения: например, в Лаврентьвском списке Повести временных лет Руска земля далеча [Лавр.лет., л.22, с.72], в спике по рукописи б. Московской Духовной Академии Руска земля далече [Лавр.лет., с.72]; в Лаврентьевском списке рече ему Волга видиши мя болное сущю [Лавр.лет., л.20об., с.67], в Радзивиловском списке видиши мя болну сущю [Лавр.лет., с.67].
Функциональное распределение имен прилагательных и наречий происходит на основе значения самого слова и его смысловых отношений с именем и глаголом в высказывании.
Динамика употребления конструкций с согласуемой глагольной характеристикой, т.е. случаев, когда признак глагола выражен именным словом, согласованным с другим именем в высказывании (подлежащим или дополнением), представляет собой сокращение частотности этих конструкций в текстах на фоне возрастающей частотности употребления наречий в функции глагольного определителя. По данным выборки из текстов XII века употребление характеризующих наречий превышает употребление прилагательных в функции глагольного определителя приблизительно в 3,9 раз, по данным выборки XIII века - в 3,6 раз, XIV века - в 4,5 раз, XV века - в 7,5 раз, XVI века - в 9,7 раз.
В Таблице 14 и Диаграмме 8 представлена сравнительная динамика употребительности слов, относимых к разным грамматическим классам (прилагательным и наречиям), в значении признака действия, т.е. в функции определителя предиката. Для сравнения в таблице приводится также кривая, отражающая увеличение частотности неместоименных наречий в текстах выбранного временного отрезка.
Изменение употребительности местоименных наречий в житиях и летописях XII – XVI вв
Динамика употребительности местоименных наречий в текстах разных жанров также оказывается различной. В Таблице 18 представлены количественные характеристики употребления местоименных наречий времени и места в текстах разных жанров.Стабильно закономерным, неслучайным является расхождение частотностей местоименных наречий времени и наречий места в житийных текстах между собой: 0,190±0,022 случаев употребления местоименных наречий времени от общего числа наречий в выборке и 0,119±0,018 наречий места в житиях XII - XIV вв., 0,174±0,024 употреблений местоименных наречий времени и 0,108±0,020 наречий места в житиях XV - XVI вв.
В текстах же летописей нет закономерного расхождения частотностей местоименных наречий с разной обстоятельственной семантикой: в летописях XIII - XIV вв. доля употреблений местоименных наречий времени от общего числа наречий в выборке составляет 0,177±0,021, местоименных наречий места - 0,172±0,021, в летописи XVI в. частотность местоименных наречий времени - 0,136±0,027, наречий места - 0,139±0,028. Динамика употребительности местоименных детерминирующих наречий в текстах разных жанров письменности отражена в Диаграмме 12.
Анализ употребительности местоименных детерминирующих наречий в аспекте их распределения по текстам разной жанрово-стилистической отнесенности подтверждает также вывод, сделанный ранее, о том, что для выражения наречного значения места в целом чаще используются местоименные наречия. В Таблице 19 представлены значения долей местоименных наречий времени и места в соответствующих семантических разрядах наречий.Доля местоименных наречий времени в разряде наречий времени по данным выборки из житийных текстов XII - XIV вв. составляет 0,594±0,048, в выборке за этот же период в летописных текстах - 0,589±0,049; между собой эти доли различаются несущественно. По данным выборки за период XV - XVI вв. в житиях доля местоименных наречий времени от общего числа наречий времени составляет 0,579±0,057, что опять же несущественно отличается от соответствующего значения по данным выборки за этот же период из летописных текстов - 0,503±0,077.
Местоименные наречия места составляют 0,762±0,059 от общего числа наречий места в текстах житий XII - XIV вв., что существенно отличается от частотности местоименных наречий времени в разряде временных наречий в этой же выборке, однако несущественно превышает долю местоименных наречий времени по данным выборки из летописных текстов этого же периода - 0,721±0,050. По данным выборок XV - XVI вв. в житийных текстах местоименные наречия места составляют 0,844±0,064 от числа наречий соответствующего разряда, в летописях - 0,757±0,080, что несущественно различается между собой и также несущественно отличается от соответствующих значений в период XII - XIV вв.
На Диаграмме 13 отражено изменение частотности местоименных наречий в семантических разрядах наречий времени и места по данным текстов разных жанров - житий и летописей.
Динамика употребительности местоименных характеризующих наречий также по-разному проявляется в текстах разной жанрово-стилистической отнесенности. Согласно нашему исследованию, сокращение числа местоименных характеризующих наречий по отношению к общему числу наречий этого разряда, а соответственно, и увеличение относительной частоты неместоименных наречий в хронологической протяженности, происходит явнее текстах житий, чем в текстах летописей (см. Таблицу 20).
Доля местоименных наречий в разряде характеризующих в текстах житий XII - XIV вв. составляет 0,707±0,045, что существенно превышает не только значение соответствующей доли в текстах этого же жанра XV - XVI вв. (0,473±0,055), но и значение частотности местоименных наречий в разряде характеризующих в текстах летописей этого же периода (0,588±0,052). Доля местоименных наречий в разряде характеризующих в выборке из летописных текстов XVI в. (0,433±0,065) близка к соответствующему значению по данным выборки из текстов житий этого периода, однако также существенно, закономерно отличается от частотности местоименных наречий среди наречий с характеризующим значением в выборке из текстов летописей XIII - XIV вв. Процесс снижения употребительности местоименных характеризующих наречий в текстах разных жанров и разных временных периодов отражен на Диаграмме 14.
Динамика употребительности местоименных характеризующих наречий также по-разному проявляется в текстах разной жанрово-стилистической отнесенности. Согласно нашему исследованию, сокращение
Похожие диссертации на Динамика употребительности наречий как отражение становления класса наречия (на материале житийных и летописных текстов XII-XVI вв.)
-
-
-
-
-
-